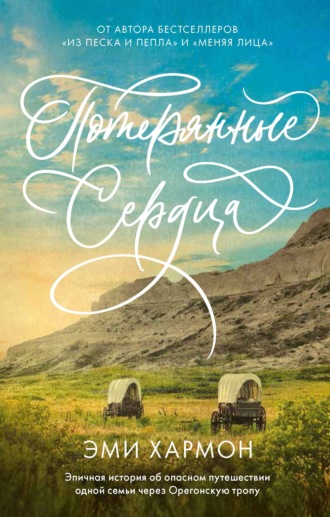
Эми Хармон
Потерянные сердца
Миссис Эмельда Колдуэлл сидит рядом с ним на козлах, белая, как холстина у нее за спиной.
– Ну же, Эмельда, – не сдается Наоми, приближаясь к фургону. – Спуститесь хотя бы вы. Мы с мамой пойдем вброд. Если мистер Колдуэлл так хочет перевернуться вместе с повозкой, то я бы предпочла, чтобы в ней не было вас.
Мистер Колдуэлл бросает на нее гневный взгляд, захлебываясь от возмущения.
– Ничего с Эмельдой не стрясется, вдова Колдуэлл! – рявкает он, переводя взгляд на меня, и снова дергает вожжи.
– Мне не нужно ваших денег, мистер Колдуэлл, – говорю я. Мне и правда не нужно. Я просто не хочу, чтобы он кричал на мулов. – Я помогу вам переплыть. Отпустите поводья и держитесь за козлы. И с миссис Колдуэлл ничего не случится, пусть сидит с вами.
Наоми бросает на меня взгляд, который я не могу расшифровать, одновременно любопытный и осторожный, как будто она силится понять, кто я такой и какое место занимаю. Она уже смотрела на меня так. Я снова хватаюсь за упряжь мулов, и на этот раз Колдуэлл не спорит, только поджимает губы и ослабляет поводья. Я без особого труда заманиваю мулов в реку, показывая, что мне от них нужно, и очень скоро и фургон, и животные, и их владельцы оказываются на противоположном берегу. Мистер Колдуэлл не благодарит меня, зато Эмельда принимает мою помощь и спускается с повозки, вцепившись в мою руку.
Пятьдесят фургонов и более двух сотен путешественников благополучно переправляются через Биг-Блю и, несмотря на усталость и промокшую одежду, начинают разбивать лагерь на другой стороне. Мы не единственные, кто встал на ночлег у реки, и далеко не последние. К ночи по берегам вспыхивают яркие точки костров, словно угольки в чернильной темноте. Каждый караван строит собственный круг и выставляет дозорных, чтобы следить за скотом, хотя уже начинается ругань из-за разбредающихся животных и чьих-то попыток их присвоить. Канзы, которые днем работали на переправе, заявляются в наш лагерь и требуют еды. Переселенцы спешат их накормить. Наслушавшись историй о нападениях кровожадных индейцев, они охотно делятся припасами. Канзы поглядывают на меня с подозрением, не понимая, кто я такой.
– Вы не похожи на них.
Наоми Мэй вручает мне миску с чем-то, что пахнет солониной и земляными каштанами. Может, я случайно произнес свою последнюю мысль вслух? Я настолько удивлен, что принимаю угощение из ее рук, хотя уже ужинал. Мне выпало первым стоять в дозоре, но травы много, и животные не пытаются отойти далеко от фургонов.
– На кого? – бормочу я.
– На всех индейцев, которых я видела.
Она пожимает плечами.
– И много вы видели индейцев?
Наоми не опускает взгляд, хотя я и пытаюсь ее смутить. Все по-честному. Она ведь тоже меня смущает.
– Несколько.
– Ну… есть много разных племен.
Я кладу в рот полную ложку жаркого. Оно оказывается довольно вкусным, так что я продолжаю есть, надеясь поскорее закончить, чтобы она забрала миску с ложкой и ушла.
– А вы из какого племени? – тихо спрашивает она, и я вздыхаю.
– Я вырос не в племени, – не выдерживаю я.
– Но вы не похожи на белых мужчин, которых я знаю.
– Неужели?
– Да. Вы очень аккуратный и чистоплотный.
Я фыркаю:
– Меня воспитала дотошная белая женщина. У всякой вещи было свое место. Даже у меня.
Наоми окидывает взглядом мое умытое лицо и закатанные рукава. Одежда у меня чистая, насколько это возможно, как и волосы. Я знаю, как заштопать там, где протерлось, и починить то, что порвалось, так что дырок на моих вещах не отыскать. Наоми расправляет юбку, как будто стыдится собственного внешнего вида. И зря. У нее три платья: розовое, голубое и желтое, все домотканые и незатейливые, но ей они идут.
– И где ваше место, мистер Лоури? – говорит она. От того, как напряженно звучит ее голос, у меня в груди все сжимается.
– Мэм? – переспрашиваю я, не сразу сообразив, о чем речь.
– Вы сказали, что у всякой вещи свое место.
– Сейчас мое место рядом с мулами, миссис Колдуэлл. – Я приподнимаю шляпу и обхожу Наоми, вручив ей пустую миску. Она увязывается следом.
– Я бы предпочла, чтобы вы называли меня мисс Мэй, если уж не Наоми.
– А где мистер Колдуэлл?
– Который из них?
– Тот, который сделал вас миссис, мэм.
Мой голос звучит натянуто, и мне становится неловко. Я знаю, что она вдова, но мне неизвестны обстоятельства, при которых она ею стала. Давно ли она вдова? Долго ли была замужем? Я хочу знать, но боюсь спросить. И не желаю привлекать лишнее внимание ни к себе, ни к ней, ни к тому, что мы проводим время вместе. Опять. Я прибавляю шагу. Она не отстает. Я скрываюсь за тополем, возле которого привязал Даму, в надежде ускользнуть, но Наоми в упорстве не уступает Уэббу.
– Я стала миссис, когда вышла за Дэниэла Колдуэлла. Но он умер. И я недолго носила эту фамилию. Так и не успела привыкнуть. Так что иногда я забываюсь и называю… не ту фамилию, – объясняет она. – Если будете называть меня миссис Колдуэлл, я подумаю, что вы обращаетесь к Эмельде.
Она останавливается рядом со мной и протягивает руку к Даме. Лошадь приветствует ее, ткнувшись носом в ладонь, и тихонько фыркает.
– Аака'а, – тихо ругаюсь я.
– Вы часто это повторяете. Что это значит? – спрашивает Наоми.
– Да ничего особенно не значит.
– Вы говорите так, когда вздыхаете.
– Такое уж это слово.
Чаще всего я даже не замечаю, как произношу его. Это слово из моих самых ранних воспоминаний. Моя мать шептала его, выражая усталость или удивление. Междометие, не означающее ничего и в то же время означающее все сразу.
– Мне нравится.
– Мэм, из-за вас у меня будут неприятности, – бормочу я себе под нос.
– Почему?
– Возвращайтесь к себе в фургон. Я стою на часах. И я не хочу, чтобы вас застали со мной.
– Мистер Лоури, вокруг нас с дюжину костров, крикни – услышат. И в простой беседе нет ничего неподобающего.
Я отступаю от нее на несколько шагов, увеличивая расстояние между нами, помня о том, что сказал Эбботт: «Она не для тебя, сынок».
– У всякой вещи свое место, – возражаю я, и мой голос звучит твердо.
– Я вас оскорбила.
– Неправда.
– Я не хотела вас обижать, когда сказала, что вы не похожи на других индейцев. Я просто хотела понять вас.
– Зачем?
– Вы ведете себя как белый. И говорите как белый… в большинстве случаев. И все же вы не белый.
– Я белый.
Я настолько же белый, насколько белы пауни.
– Правда? – удивляется Наоми. – Вы сказали, что вас воспитала белая женщина. Это была ваша мать?
– Да, – говорю я.
Дженни заменила мне мать во всех смыслах этого слова, а пускаться в объяснения я не желаю. Но когда Наоми поднимает на меня свои лучистые глаза, наклонив голову набок и терпеливо наблюдая, я почему-то делаю именно то, чего делать не собирался.
– Меня воспитал отец и его жена Дженни. Это сестра мистера Эбботта. Она мне не родная мать… Зато она меня воспитала.
– А кто родная? – спрашивает Наоми.
У меня в груди вскипает раздражение. Я еще не встречал женщины, которая бы так любила лезть не в свое дело.
– Женщина из племени пауни. А вы тоже не похожи на остальных, – добавляю я резким тоном.
– На остальных – это на кого? – не понимает она.
Я обвожу рукой лагерь переселенцев, указывая на людей, которые сидят ссутулившись возле костров с жестяными мисками в руках, поедая бобы с беконом.
– На других женщин. Вы не такая, как они.
– И много вы знаете женщин? – В ее голосе слышится ирония, и я понимаю, что она обратила мой собственный вопрос против меня. Мне ее не запугать. Эта девушка излишне любопытна… Но мне она нравится. А я не хочу, чтобы она мне нравилась.
– И чем же я от них отличаюсь? – спрашивает Наоми.
– Вы стоите здесь, разговариваете со мной.
Тут сложно спорить. Все остальные, не считая ее братьев, ко мне не суются. Я знаю, что дело скорее во мне, чем в них. Я не самый дружелюбный человек, и дружить с Наоми мне нельзя. Пора ее отпугнуть.
– Вам, похоже, все равно, что думают другие. Вы либо глупы, либо высокомерны, а я в отличие от вас не могу себе этого позволить, – говорю я.
Она вздрагивает будто от пощечины. Именно этого я и добивался. Жестокие слова трудно забыть, а мне нужно, чтобы она меня услышала.
Женщины приносят неприятности. Так было и будет всегда. Эту простую истину я усвоил очень рано. Когда я был еще мальчишкой, не успевшим окунуться в воды взрослой жизни, одна женщина из Сент-Джозефа, подруга Дженни – ее звали миссис Конуэй, – зажала меня в углу нашей гостиной и сунула руку мне в штаны и язык в рот. Когда я оцепенел от страха, она разозлилась и влепила мне пощечину. Через несколько недель она предприняла новую попытку, и тогда я ответил на поцелуй. Мне было странно и любопытно, я не знал, куда девать руки и что делать ртом. Она показала, и мне понравилось, но когда Дженни застала нас, ее подруга закричала и сбежала, заявив, что это я ее заставил. Так я узнал, что женщинам нельзя доверять, а меня никто слушать не станет. Вскоре явился муж этой женщины, желая разобраться со мной, и отец отдал ему лучшего из родившихся этой весной жеребят, чтобы смягчить его гнев.
Я не ходил в школу с сестрами, потому что другие девочки, как и учитель, боялись меня, а мальчишки дрались со мной, хотя я обычно начинал первым. Потасовки поднимали мне настроение, а драться я умел. Учитель попросил отца не пускать меня в школу, пока я не научусь себя вести. Отец отдал меня на воспитание Отактаю, полукровке из племени сиу, который какое-то время работал на него. Отактай хорошо владел ножами и рукопашным боем, а злости в нем было почти столько же, сколько во мне. Он гонял меня до упаду, а Дженни учила читать, писать и считать. Слова и цифры всегда давались мне легко, да и голова мне досталась не только лохматая, но и умная.
Я «знал» некоторых женщин в Форт-Кирни: нескольких пауни, одну из племени черноногих и кучку девиц легкого поведения из Иллинойса, которые ютились в домиках на задворках форта. Все знали, кто они такие, но никто ничего не говорил. Многие посещали их за деньги, а женщины таким образом зарабатывали на жизнь. У капитана Демпси где-то осталась жена, но Заря, та самая черноногая, была его любимицей, и делиться он не желал. Когда она улыбнулась мне и погладила меня по груди, я чуть не сорвал отцу договор на весенние поставки. Капитан Демпси потребовал, чтобы я не разевал рот на чужое, и я послушно отправился домой, окончательно уверившись, что от женщин одни неприятности.
– Вы не слишком-то хорошо обо мне думаете, не так ли, Джон Лоури? – спрашивает Наоми, прерывая мои воспоминания.
– Я о вас вообще не думаю, миссис Колдуэлл, – вру я, с нажимом повторяя эту фамилию, чтобы напомнить о ней нам обоим. Мне не нравится, когда она называет меня Джоном Лоури в таком же тоне, как Дженни. Я злюсь на нее, хотя у меня и нет на это никаких оснований. – Опыт подсказывает мне, что женщинам нельзя доверять.
– А мне он подсказывает, что мужчины на самом деле просто перепуганные мальчишки. Господь дал вам сильное тело, чтобы уравновесить вашу внутреннюю бесхребетность.
– Я вас не боюсь, – продолжаю врать я.
– Еще как боитесь, Джон Лоури.
– Уходи, девочка. Я не дурак, не на того напала.
– Я кто угодно, но уж точно не девочка, и с дураками я дружбу не вожу.
Я вспоминаю женщину, которая хотела, чтобы я поцеловал ее, а потом закричала, когда я выполнил ее желание. Интересно, попытается ли Наоми сбежать и устроить сцену, если я ее поцелую?
– Что за игры вы здесь устроили, миссис Колдуэлл? – вздыхаю я.
Она пристально смотрит на меня, моргает раз, потом другой. Изгиб ее длинных ресниц так и манит. У нее такое тонкое запястье, что мои пальцы легко обхватывают ее руку. Я тяну ее на себя. Наоми приподнимает подбородок. Ее ноздри раздуваются, как у лошади, почуявшей опасность, но она охотно подается мне навстречу. Ее дыхание щекочет мне лицо. Когда мои губы приближаются к ее губам, я готов раскрошить ее хрупкие кости своей железной хваткой. Я решаю, что буду груб. Жесток. Тогда она убежит в слезах и оставит меня в покое. Или ее отец придет ко мне с ружьем и потребует, чтобы я убирался отсюда. Ну и ладно. Я устал от медлительности каравана и сам могу добраться до Форт-Кирни вдвое быстрее. Мне же лучше, если я отделаюсь от каравана и заодно преподам Наоми Колдуэлл урок, который ей следовало усвоить уже давно. Но в последний момент я не нахожу в себе сил сделать это. Я не могу быть с ней грубым и не могу ее поцеловать. Я уклоняюсь от ее губ, хотя она уже тянется ко мне. Вместо страсти и гнева ей достается легкий и нежный поцелуй в лоб. Так ребенок мог бы поцеловать мать. Она отстраняется и выжидающе смотрит на меня.
– Я рассчитывала совсем не на такой поцелуй, – объявляет она.
– Неужели?
– Да, – серьезно отвечает она, потом делает глубокий вдох, и следующие слова вырываются у нее торопливо и нервно: – Я хочу, чтобы вы поцеловали меня так, будто думали об этом с нашей первой встречи.
Я смеюсь над ее красивыми словами, чтобы не дать себе прочувствовать их. Она сглатывает. Ей неловко. Я смутил ее. Пальцы сжимают подол платья, подбирают его, как будто она вот-вот сбежит. Вот и славно. Ей так будет лучше.
И все же я снова тянусь к ней. На этот раз не остается ни нежности, ни скромности. Я с силой вжимаю свои губы в ее, но Наоми не отстраняется и не пытается меня оттолкнуть. Она запускает пальцы мне в волосы – шляпа уже упала с моей головы – и тянет так сильно, что я невольно щелкаю зубами и выгибаю спину. Мои ладони скользят по ее хрупким, изящным ребрам. Я обхватываю ее и приподнимаю, прижимая к себе. Несколько секунд я слепо, смело целую ее, проникая в рот и облизывая губы, чтобы проучить нас обоих. Но она мягче, чем я ожидал: нежные губы и кожа, плавные изгибы тела, тихие вздохи. И она такая милая. Это поражает меня, и я отталкиваю ее, стыдясь своего поступка. Наоми спотыкается, пытается схватиться за мою руку, но я слишком далеко. Она падает на колени, уткнувшись ладонями в землю. Я бормочу длинное ругательство, за которое Дженни отвесила бы мне пощечину. Отец постоянно говорит это слово, но даже он постыдился бы произнести такое в присутствии женщины. Я подаюсь вперед, чтобы помочь ей подняться, но Наоми ловко встает сама, не обращая внимания на мою протянутую руку. Ладно. Мне и впрямь лучше к ней не прикасаться. У меня дрожат руки, да и ноги едва держат. Я провожу тыльной стороной руки по губам, стирая с них поцелуй. Она отряхивает ладони и юбку. Даже в темноте видно, что ее губы покраснели. Я слишком крепко ее поцеловал, и мне отчаянно хочется повторить. Наоми не смотрит мне в глаза, и я уже уверен, что мой план сработал. Она на меня разозлилась. Вот и славно. Так лучше всего. Но сердце у меня в груди колотится, переполненное стремлением искупить вину.
– Я знаю, почему вы так грубы со мной.
Ее голос звучит ласково, и я снова сбит с толку.
– И почему? – выдыхаю я.
– Вы считаете, что мы слишком разные.
– Спокойной ночи, миссис Колдуэлл, – говорю я, намекая, что пора проститься.
Мне нужно, чтобы она ушла. Осталась. Простила меня. Забыла меня.
– Андерсоны родом из Норвегии. Мак-Нили – ирландцы. Йоханн Грубер из Германии. Вы наполовину индеец, а я вдова. – Она пожимает плечами. – Мы все нужны друг другу. И все можем мирно жить бок о бок, разве не так? Для этого не обязательно быть одинаковыми.
– Некоторые культуры не могут сосуществовать. Это все равно что жить на суше с ластами вместо ног, – шепотом отвечаю я.
Наоми бормочет что-то едва слышно. Мне приходится наклониться поближе.
– Что? – переспрашиваю я.
– Так будьте черепахой, – повторяет она, отчетливо произнося каждое слово.
А потом вдруг улыбается, сверкая зубами, и я не могу сдержать смеха. Я смеюсь, обезоруженный ее честностью. Мое смущение и желание оправдываться растворяются в лунном свете.
– Спокойной ночи, Джон, – говорит Наоми и отворачивается.
Она уходит, оставив меня на поляне возле тополей, и лишь моя лошадь становится свидетельницей моей глупой улыбки.
Все же Наоми не такая, как остальные.
Почти все, кого я знаю, живут в страхе. Даже я.
Но Наоми Мэй – Наоми Колдуэлл, поправляю себя я, – ничего не боится.
4. Холера
Наоми
– МАМ! – ЗОВУ Я, не уверенная, что она еще не заснула.
Мы с мамой ночуем в повозке. Лагерь притих уже полчаса назад, но мои мысли никак не успокоятся, а сердце быстро стучит с тех самых пор, как я заставила Джона поцеловать меня. Я прекрасно понимала, что делаю. Подозреваю, что он тоже это понимал.
– Ты что-то сказала, Наоми? – Мамин голос звучит устало, и я уже готова ответить, что ничего, но мне необходимо поговорить.
– С той самой секунды, как я увидела Джона Лоури на улице в Сент-Джозефе, я почувствовала, что он мне нужен, – признаюсь я торопливым шепотом. – Сама не понимаю почему.
– Я знаю, – бормочет мама, и мой пульс выравнивается. Она всегда умела меня успокоить.
– У вас с папой тоже так было? – спрашиваю я. – Ты просто почувствовала это в первое же мгновение?
– Нет. – Маме несвойственно приукрашивать и ходить вокруг да около. – Мы с ним были скорее как вы с Дэниэлом.
– Друзья?
– Да. Друзья. Но он мне нравился. А я ему. Это всегда приятно, когда ты кому-то очень нравишься. А твой папа дал мне понять, что я действительно ему нравлюсь.
– Я дала Джону понять, что он мне нравится.
– Я так и подумала.
Она поддразнивает меня, но я чувствую, как в груди поднимается стыд. Я не хочу бегать за Джоном Лоури. Мне не нравится, что он мне так нужен. Но я ничего не могу с собой поделать.
– Что, если он плохой человек… и решит поддаться мне? – беспокоюсь я.
– Мне снились сны о мистере Лоури. Он не плохой. Но так или иначе… Я не уверена, что он поддастся тебе. Он полон недоверия и отрицания. Тебе потребуется терпение, Наоми, терпение и понимание. И я не уверена, что ты успеешь их проявить до того, как он нас покинет.
Я не знаю, за что хвататься, за сны или за неприятную правду, что мое желание может никогда не осуществиться.
– Расскажи мне про сны.
Мама долго молчит, так что я приподнимаюсь, ссутулившись под округлой крышей фургона. В темноте я не могу рассмотреть выражение ее лица, но глаза поблескивают, а значит, она не уснула, а просто задумалась.
– Ты когда-нибудь видела, как птица взлетает с воды?
– Мам, – со стоном перебиваю я, думая, что она отвлеклась.
Но мама продолжает сонным голосом:
– В моих снах большая белая птица поднимается над водой, громко хлопая крыльями. Когда она взлетает, у нее появляется человеческое тело. Это мужчина, а птичьи крылья – это его головной убор из перьев. Как у вождя потаватоми, которого мы видели тогда в Сент-Джо. В моем сне человек-птица идет по воде, как Иисус в Библии… И доходит до берега. У него лицо Джона Лоури. Я не знаю точно, что это значит, Наоми, но этот сон начал сниться мне еще до того, как мы познакомились с Джоном Лоури.
– И что ты чувствуешь… во сне? – Я знаю, что для мамы важнее всего именно то, как ощущается видение.
– Мне грустно. Мне очень грустно, Наоми, но в то же время я испытываю благодарность, – шепотом говорит она. – Как будто он пришел к нам на помощь. Я начинаю тонуть, как Петр, а он протягивает руку и поднимает меня.
Когда мама упоминает Писание, с ней никто не спорит.
– Как Иисус, что ходил по воде? – Я говорю так тихо, что сама едва слышу собственный голос, но она повторяет мои слова.
– Как Иисус, сын Марии, что ходил по воде.
Джон
Переправившись через Биг-Блю, мы можем продолжать путь вдоль реки Литтл-Блю, направляясь на север, к Платту и Форт-Кирни, где мы с караваном расстанемся. Ландшафт мне знаком. Я уже путешествовал по этой дороге, а вот Наоми нет. После обеда ее мать соглашается ехать в повозке рядом с мужем, а Наоми садится верхом на Плута, который оказался весьма толковым мулом, как и обещал мой отец. Наоми опять что-то пишет в своем блокноте, который она пристроила на луку седла, подперев сумочкой. Вся ее фигура покачивается с каждым шагом животного, а рука тем временем порхает по странице. Я поцеловал ее, желая отпугнуть, но теперь сам ищу ее общества, приближаясь к ней верхом на Даме, чтобы наконец выяснить, чем таким она занята.
– Вы все время что-то пишете в этом блокноте, – с укором начинаю я. – Рано или поздно вы точно свалитесь.
Я стараюсь смотреть вперед, как будто оказался рядом совершенно случайно.
– Я не пишу.
Наоми больше ничего не добавляет, и в конце концов я вынужден посмотреть на нее. Она качает головой и морщит нос, широко улыбаясь. Ее шляпка сползла на затылок, и послеобеденное солнце придает ее каштановым волосам рыжеватый оттенок. Если не поправить шляпку, в скором времени на ее щеках добавится веснушек, но я молчу.
– Слова меня не интересуют, – говорит она.
– Правда?
– По крайней мере, не те, которые пишут на бумаге.
– А какие еще есть слова?
– Те, которые говорят вслух. Такие слова мне интересны.
Я хмыкаю, не до конца понимая, к чему она ведет.
– Я люблю разговаривать. Особенно с интересным собеседником. Вы интересный, так что я хотела бы почаще с вами говорить. – Она хмурится, наморщив лоб. – Папа говорит, если я не научусь держать язык за зубами, навлеку на себя лишние неприятности. По-вашему, от меня одни неприятности, Джон Лоури?
– Вы и так знаете ответ.
Она смеется.
– И не называйте меня Джоном Лоури, – ворчу я.
Когда она так произносит мое имя, я невольно думаю о Дженни. А я не хочу, чтобы Наоми напоминала мне ее.
– Давайте я буду звать вас Джон, а вы меня – Наоми?
Я коротко киваю, хотя, боюсь, продолжу называть ее миссис Колдуэлл. По крайней мере вслух.
– Раз вы не пишете, то чем тогда заняты? – не сдаюсь я.
– Рисую. Если хорошо нарисовать, то слова не нужны.
– Можно посмотреть? – спрашиваю я.
Она ненадолго задумывается, всматриваясь в мои глаза, как будто пытается заглянуть в душу. Я отвожу взгляд, чувствуя, что не могу долго на нее смотреть. Я забываюсь, а мои мулы всегда замечают, если я становлюсь невнимательным.
– Ладно. Но прежде пообещайте мне кое-что, – говорит Наоми.
– Что?
– Что вы больше не будете меня бояться.
Я вздрагиваю от неожиданности, но, по-моему, она не шутит. Наоми протягивает мне блокнот в кожаном переплете и тут же отворачивается, глядя вперед. Наверное, ей не хочется видеть, как я буду листать страницы. Ее смущение, которое, как мне казалось, ей несвойственно, делает этот момент еще более интимным, и я медлю, не решаясь открыть застежку, которая скрепляет страницы.
– Вы обещали, что не будете меня бояться, – упрекает меня Наоми.
Вообще-то я ничего не обещал, но, пожалуй, уже то, что я смотрю, означает, что я принял ее условия. Я оборачиваю повод Дамы и чумбуры[3] мулов вокруг седельного рога, чтобы освободить обе руки. Затем я открываю блокнот Наоми. Мне, как никогда в жизни, хочется увидеть, что внутри, но в то же время я чувствую себя так, будто ложусь с ней в постель и, несмотря на все свое нетерпение, боюсь причинить боль. Я ожидаю увидеть пейзажи – реку, холмы, небо, бескрайние равнины – и действительно обнаруживаю несколько таких видов, которые мгновенно узнаю. Ручьи Канзаса, небеса, рассеченные молнией, затопленные дождем ложбинки, мертвые животные, дорога и чьи-то пожитки, брошенные прямо на колее. Маленькая могила, потом еще одна, рядом с которой стоит брошенный ящик с хрупким костяным фарфором. Она подписала рисунок: «Ящики с костями».
Но больше всего меня впечатляют лица. Почти все страницы заполнены лицами. Я узнаю мать Наоми – усталая улыбка и мудрый взгляд, – и отца, утомленного, но полного надежды. Мальчишки явно пошли в него. Их я тоже вижу на страницах блокнота, как и Эбботта, и женщин, идущих рядом с повозками, и детей, никогда, кажется, не устающих. Она нарисовала даже того мальчика, Билли Дженсена, который упал с дышла отцовской повозки на третий день пути. Колеса раздавили его раньше, чем волов успели задержать. Наоми замечает, что я остановился, и поворачивает голову, чтобы посмотреть, что меня так заинтересовало.
– Я хотела отдать этот рисунок маме Билли. Но подумала, что пока рано, это только причинит ей боль.
Я киваю и переворачиваю страницу. В блокноте много моих портретов. Левый профиль, правый профиль, анфас, со спины. Мне нравится мое лицо, как его видит она. Меня поражает, насколько хорошо ей удается сходство. Зеленоглазая женщина с розовыми губами и веснушчатым носом, которая слишком много болтает и не понимает слова «нет», просто не может так рисовать. Я не знаю никого другого, ни мужчин, ни женщин, кто бы рисовал так же хорошо.
– Когда я впервые вас увидела, мне сразу же захотелось нарисовать вас. Я глаз не могла отвести, – признается Наоми. – Знаю, вас это отпугнуло, но я ничего не могла с собой поделать. У вас очень… красивое… – Она останавливается и поправляется. – У вас незабываемое лицо.
Меня бросает одновременно в жар и в холод, я польщен, но в то же время сбит с толку. Я молчу, и Наоми продолжает, как будто ей отчаянно необходимо все объяснить.
– Мне больше всего нравится рисовать лица. Папа говорит, пейзажи проще продать в газеты или в качестве иллюстраций для книг, но чаще всего мир не идет ни в какое сравнение с людьми, которые его населяют.
Я не знаю, что ответить. Я смотрю на собственные глаза, губы и очертания подбородка. Я вижу отца. Мать. Даже Дженни, хотя и не понимаю, как это возможно.
– Наверное, дело в чувствах, – говорит Наоми, все еще пытаясь объяснить, пока я храню молчание. – В выражениях. Конечно, ветры и дожди тоже со временем меняют ландшафт, но лица людей постоянно меняются. Я не успеваю рисовать. И каждое лицо особенное. А ваше самое необычное.
Я протягиваю ей блокнот. Она забирает его, неуверенно глядя на меня.
– Джон…
– Вы очень хорошо рисуете, миссис Колдуэлл, – говорю я. Мой голос звучит так сухо и одеревенело, что я, пожалуй, мог бы броситься в Литтл-Блю и послужить кому-нибудь плотом для переправы. Я пришпориваю Даму, оставляя позади Наоми и ее лица.
* * *
Я провожу на часах гораздо больше времени, чем должен бы, учитывая, что в караване есть шестьдесят пять мужчин и двадцать пять подростков. Но я все равно не могу лечь спать, не убедившись, что мулы в безопасности. Я беспокоюсь о своем табуне. От усталости дозорные становятся небрежными, скота слишком много, за всеми не уследишь, а нужно еще и привязать лошадей. Я держу своих животных как можно ближе к себе, а чаще и вовсе ставлю палатку там, где они пасутся, и даже во сне держу ухо востро. Меня спасает только то, что после ужина мне обычно удается вздремнуть. Две ночи спустя после переправы через Биг-Блю, отстояв свою смену на часах, я прихожу в палатку и обнаруживаю, что Уэбб Мэй спит на моем месте, положив голову на седло и укрывшись одеялом. Мне приходится его растрясти.
– Уэбб! Ночь на дворе. Возвращайся в свою повозку. Твои родные будут волноваться.
Он встревоженно вскакивает, явно расстроенный тем, что заснул.
– Мама рожает. Она так плачет! Рожать ужасно больно, мистер Лоури. Я не хотел слушать, как она плачет, вот и пришел сюда.
– Пойдем. Ну же! – подгоняю его я.
У меня внутри все сжимается от тревоги. Мы уже приближаемся к повозкам, когда воздух рассекает вопль, похожий на волчий вой на ветру.
– Вы слышите, мистер Лоури? – хрипло спрашивает Уэбб, и его сонное лицо озаряет восторг.
Малыш набирает полные легкие воздуха и снова начинает выть, и, несмотря на то, что дело идет к двум часам ночи, весь лагерь оживает и вздыхает с облегчением. Я жду вместе с мальчишками, столпившимися вокруг костра. Уайатт все это время поддерживал огонь. Когда Уильям Мэй с мокрыми от слез щеками выбирается из повозки и объявляет, что все прошло хорошо и у него родился еще один сын, я желаю мальчишкам спокойной ночи. Обходя фургоны, я замечаю Наоми, которая моет руки в ведре с водой из ручья. Ее рукава закатаны, верхние пуговицы расстегнуты, обнажая бледную длинную шею. Платье запачкано темными пятнами, а волосы распущены. Длинные, ниже талии, они переливаются в лунном свете.
– Ребенок здоров? И ваша матушка? – спрашиваю я.
– Да. У них все хорошо.
Я поражен тем, как невыразительно и безжизненно звучит ее голос. Наоми стряхивает воду с рук, переворачивает ведро и садится на него, как на табуретку.
– Еще один мальчик. Красивый… маленький… мальчик.
– Вы хотели сестру?
– Да. Не ради себя… Ради мамы. Но он… Он… – Наоми не договаривает, как будто сама не знает, что чувствует по этому поводу. Она начинает заново. – Мама хочет, чтобы я дала ему имя. А я не могу придумать ни одного имени, которое начиналось бы на «У». Мы уже все использовали.
Наоми поднимает взгляд на меня. Ее глаза полны усталости, а уголки губ печально опущены, и я не знаю, что сказать.
– Но вас же зовут… Наоми. Значит… можно выбрать другую букву.
– Меня собирались назвать Уилма, но перед тем, как я родилась, маме приснилась библейская Ноеминь. Она решила, что это знак, вот так и вышло, что я единственная в семье, чье имя не начинается на «У».
– Наоми мне нравится намного больше, чем Уилма, – тихо признаюсь я.
– Вот и мне. Благодарю тебя, Господи, за то, что послал маме видение. Может, ты и мне дашь знак? Чтобы я поняла, как мне быть.
То, как Наоми произносит эти слова, совсем не похоже на молитву, хотя ее взгляд и обращен к небу. Она явно устала. Я пытаюсь подобрать слова утешения, но в голову ничего не приходит.
– Я обнаружил Уэбба спящим в моей палатке. Он не хотел слушать, как ваша мама плачет.
У Наоми начинают дрожать губы и подбородок, и я тут же проклинаю свою глупость. Она опускает взгляд на свое запятнанное платье и делает глубокий вдох, чтобы взять себя в руки, прежде чем снова заговорить.
– Она и плакала-то всего минуту, когда уж очень больно стало. Совсем тихо плакала. Я не знаю человека сильнее нее. Ей даже моя помощь особенно не нужна была. Мама сама знала, что делать, от начала и до конца. Когда родился Уэбб, мне было слишком мало лет – двенадцать, но мама хотя бы рожала в своей постели в присутствии повитухи. Я надеялась, что миссис Колдуэлл придет помочь, но она слегла с хворью. Сейчас столько людей болеет.
– Джо Дугган, один из наемных работников мистера Гастингса, умер сегодня ночью. Вы слышали? – спрашиваю я, хотя мне и тяжело делиться такими новостями. Бедняги не стало почти мгновенно. Еще в полдень он был здоров.
– Это сколько у нас уже смертей?
– Пять.
– Господи!
– Эбботт говорит, завтра выдвигаемся, чтобы убраться подальше от холеры, если это она.
– О нет, – стонет Наоми. – Я так хотела, чтобы мама денек отлежалась.
– Сейчас главное – добраться до чистой воды. Все набирают ее в лужах и у самого берега.
– На ручей ходить тяжело. Грязь засасывает, как трясина. Сегодня вечером Уилл пошел наполнить ведра, а остался без ботинка.
– Знаю.
– Разве от болезни можно убежать? Если у нас уже есть заболевшие, есть ли смысл бежать?






