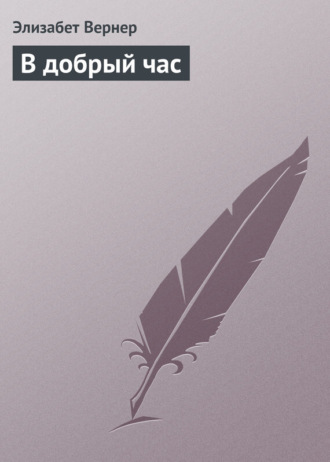
Элизабет Вернер
В добрый час
Взгляд Артура последовал по тому же направлению.
– Вы и сегодня во главе, Гартман? В таком случае позаботьтесь, чтобы нас пропустили. Мы ждем.
Независимо от того, звучало ли в его словах приказание или он произнес бы их как просьбу, и то, и другое явилось бы искрой в бочке пороха… Ульрих, кажется, только и ждал этой искры.
Холодно выраженное требование позаботиться о порядке, словно это входило в его обязанности, и вместе с тем признание его авторитета поразили Гартмана, но нисколько не изменили расположения его духа. Он медленно приблизился к ним и сказал:
– Итак, вы желали бы проехать здесь, господин Берков?
– Конечно. Ведь вы видите, что нам надо ехать в ту сторону.
На губах Ульриха мелькнула презрительная усмешка.
– И для этого вы призываете на помощь меня? Ведь вы «хозяин» своих заводов, а следовательно, и рабочих, так прикажите, чтобы вам дали дорогу! Или, может быть, – голос его звучал глухо и угрожающе, – вы теперь считаете, что хозяин здесь я и что стоит мне сказать одно слово, чтобы вас… чтобы доказать вам это?
Евгения побледнела и подвинула свою лошадь еще ближе к лошади мужа. Она знала, что эти сверкающие глаза угрожали не ей, не за себя она боялась. У нее не хватало духу воспользоваться той властью, перед которой смирялся Ульрих. Она чувствовала, что эта власть окажется бессильной, пока рядом с ней будет ее муж.
– Сотня всегда сильнее одного, если доходит до столкновения, – холодно сказал Артур. – Но ведь вы, Гартман, конечно, не думали об этом? Разве вы не чувствовали бы себя в безопасности, если бы вдруг очутились случайно один среди моих служащих? Надеюсь, что здесь я в такой же безопасности, как и у себя дома.
Ульрих ничего не ответил; он мрачно смотрел на молодого человека, который так твердо сидел на лошади и так же открыто глядел на него своими ясными темными глазами, как и в тот день, когда только началось их противостояние. Правда, тогда он был в своем доме, под защитой окружавших его служащих, а теперь находился один среди возбужденной толпы, ожидавшей только сигнала, чтобы разразиться оскорблениями или даже применить насилие, однако, несмотря на это, ни один мускул не дрогнул на его лице, осанка была такой уверенной, а взгляд таким невозмутимым, будто он считал себя и здесь полным хозяином.
Это спокойствие и самоуверенность подействовали на толпу, привыкшую подчиняться. Теперь все дело было в том, кому она окажет повиновение. Взоры всех опять обратились к Ульриху, который все еще стоял молча. Он еще раз взглянул на Артура, на бледное лицо Евгении и отступил на несколько шагов.
– Расступитесь! Дайте проехать лошадям. Эй, вы там, отойдите влево!
Его приказание исполнили с такой поспешностью, которая ясно свидетельствовала о том, что в данном случае все повиновались очень охотно. Менее чем через минуту путь был свободен, и Берков с женой беспрепятственно двинулись вперед. Они пересекли шоссе и, свернув опять в лес, исчезли за деревьями.
– Послушай, Ульрих! – добродушно, хотя и с легким упреком, сказал Лоренц, подходя к товарищу. – Ты только что нападал на меня за то, что я на заводах уговаривал товарищей не бунтовать, а что же ты сделал сам?
Ульрих все еще пристально смотрел в чащу леса; теперь, когда исчезло обаяние личности молодого хозяина, он, казалось, раскаивался в своем внезапном великодушии.
– «Сотня всегда сильнее одного», – пробормотал он с досадой, – «и я чувствую себя в безопасности среди вас!» Конечно, у них никогда не бывает недостатка в красивых фразах, когда они струсят, а мы всегда попадаемся на эту удочку.
– Что-то не похоже на то, что он струсил! – уверенно сказал Лоренц. – Вообще он не такой, как его отец. Ульрих, нам бы следовало…
– Что следовало бы? – вспылил Ульрих. – Уступить, что ли? Пойти на попятную, чтобы вы могли опять жить мирно и спокойно и чтобы он потом поступил с нами еще хуже, нем отец, что и произойдет, как только он поймет, что ему все сходит с рук? Я пропустил его сегодня только потому, что он был не один, а с женой, и потому…
Он вдруг оборвал свою речь. Гордый, скрытный человек скорее откусил бы себе язык, чем признался бы товарищам, какая сила заставила его пощадить Беркова.
Между тем Артур и Евгения молча ехали по лесу. Сблизила ли их пережитая опасность, только они продолжали ехать совсем рядом, хотя дорога была уже достаточно широка. Артур все еще держал Афру под уздцы, несмотря на то, что угроза миновала, а заботиться о такой смелой наезднице, как Евгения, было совершенно излишне.
– Понимаешь ты теперь всю опрометчивость твоего сегодняшнего выезда? – наконец спросил он.
– Да. Но я вижу и сложность твоего положения.
– Я должен с этим мириться. Ты сама видела, какое слепое повиновение умеет внушить этот Гартман; достаточно было одного его слова, чтобы нас беспрепятственно пропустили; никто не смел даже возразить, хотя все только и ждали знака, чтобы действовать против нас.
– Но он не подал им знака! – сказала Евгения с ударением на словах «не подал».
Артур опять устремил на нее странно долгий и изучающий взгляд.
– Нет! Сегодня не подал. Ему лучше знать, что удержало его. Но он может сделать это завтра, если мы встретимся; я совершенно готов к этому.
Достигнув опушки леса, они пустили лошадей крупной рысью и через четверть часа остановились у террасы своей виллы. Артур спрыгнул с седла чрезвычайно легко и грациозно, в его движениях не осталось и следа прежней вялости! Он протянул руку, чтобы помочь жене сойти с лошади. Ее лицо все еще было покрыто бледностью. Она слегка вздрогнула, когда он обнял ее талию, и дрожь пробежала по всему ее телу, когда она почувствовала, что рука мужа задержалась дольше, чем требовалось при подобной услуге.
– Ты очень испугалась? – тихо спросил он, взяв ее за руку, чтобы отвести в дом.
Евгения не отвечала. Конечно, она была страшно напугана той сценой, но скорее согласилась бы показаться трусливой, чем позволить ему заподозрить, что она боялась и дрожала только за него… Однако он, похоже, уже догадался об этом.
– Ты очень испугалась, Евгения? – повторил он нежно, все крепче прижимая ее руку к своей груди.
Она взглянула на него и снова увидела в его глазах загадочный блеск, но более сильный и яркий, чем прежде… Он так низко склонился к ней, как будто боялся упустить хотя бы один звук из ее ответа.
– Артур, я…
– Барон Виндег и его старший сын прибыли полчаса тому назад! – доложил быстро вошедший лакей.
Едва он успел это проговорить, как появился молодой барон, вероятно, увидавший из окна приехавших хозяев и сбежавший с лестницы с живостью, свойственной восемнадцатилетнему возрасту, чтобы поздороваться с сестрой, которую не видал со дня ее свадьбы.
– А, это ты, Курт!
Молодая женщина почувствовала какой-то странный неприятный укол в сердце, когда ей доложили о приезде отца и брата, которых обычно ждала с большим нетерпением.
Как только было произнесено имя Виндегов, Артур выпустил руку жены. Лицо его тотчас же приняло холодное выражение, он поздоровался со своим молодым шурином сдержанно и вежливо, как с чужим.
– Ты разве не пойдешь с нами наверх? – спросила Евгения, когда он остановился у лестницы.
– Извини, пожалуйста, но я попрошу тебя принять своего отца. Я совсем забыл об одном деле… только сейчас вспомнил. Постараюсь справиться как можно скорее, чтобы поздороваться с бароном.
И он повернулся, чтобы уйти. Евгения с братом стала подниматься по лестнице. Курт был, по-видимому, несколько удивлен этим, но, заметив бледность сестры, не решился задать вопроса, который вертелся у него на языке. Конечно, он знал, как шли тут дела. Может быть, этот «выскочка» посмел во время прогулки нанести новое оскорбление своей жене? Молодой барон бросил грозный взгляд вниз, потом с горячей нежностью обратился к сестре:
– Как я рад, Евгения, что вижу тебя опять! А ты?
Молодая женщина вынуждена была улыбнуться.
– Я тоже очень рада, Курт, бесконечно рада!
Она взглянула вниз, но в передней никого не было.
Артур, очевидно, уже ушел. Оскорбленная Евгения гордо выпрямилась.
– Пойдем к отцу! Он ждет.
Глава 11
Из всех обитателей владений Берковых только один человек смотрел на разгоревшуюся между хозяином и рабочими борьбу не только с точки зрения опасности – это был Вильберг. В его белокурой голове громоздилось столько возвышенных и туманных романтических идей, что он находил интерес и в опасности положения, и в глухом брожении, готовом ежеминутно разразиться катастрофой. Его благоговение было перенесено с Ульриха на молодого хозяина с тех пор, как тот внезапно и так уверенно принял бразды правления, что этого никто не ожидал, считая его изнеженным и слабым. Артуру, стремившемуся как можно быстрее войти в курс дел и предотвратить возможные потери и опасности, в его напряженной работе требовалась помощь только старых опытных служащих, которые и трудились вместе с ним; остальной же персонал наслаждался теперь вынужденным отдыхом, так как контора бездействовала. Вильберг воспользовался досугом, чтобы раздувать пламя своей страсти к госпоже Берков и чувствовать себя в связи с этим несчастнейшим человеком в мире.
Откровенно говоря, последнее давалось ему с трудом, потому что, несмотря на безнадежную страсть, он чувствовал себя прекрасно, но, по его мнению, только несчастная любовь могла быть поэтичной… со счастливой же он положительно не знал бы, что делать. Это обожание издали полностью удовлетворяло его, да и из-за сложившихся обстоятельств ему ничего другого и не оставалось, потому что теперь он совершенно лишился возможности приблизиться к предмету своей страсти. С того дня, как он проводил госпожу Берков через парк, ему только один раз удалось поговорить с ней. Встретившись с ним случайно, Евгения пыталась разузнать, насколько значительна и серьезна начавшаяся борьба с рабочими. Поскольку Берков категорически запретил всем служащим тревожить его супругу, Вильберг умолчал о настоящем положении дел и об отношениях между хозяином и рабочими, но не мог удержаться, чтобы не изобразить ей как можно правдивее сцену, разыгравшуюся в зале совещания между ее мужем и Гартманом; а так как он всегда во все вносил романтику, то и эта сцена в его описании приобрела такой драматический оттенок, а молодой хозяин со своей вдруг проявившейся энергией предстал таким героем, что ему показалось совершенно непонятным, отчего великолепное описание не произвело никакого впечатления на госпожу Берков.
Правда, Евгения слушала, похоже, с большим вниманием, сильно побледнела и даже как будто замерла, но рассказчик напрасно ждал одобрения. Она с холодной вежливостью поблагодарила его, не обмолвившись больше ни словом на эту тему, и отпустила его, поклонившись с той же холодной вежливостью; молодой человек ушел чрезвычайно удивленный и несколько оскорбленный таким равнодушием. Итак, госпожа Берков, как и остальные, не понимала всей поэзии подобных положений! Или, может быть, не хотела понять, потому что тут роль героя играл ее муж? Другой на месте Вильберга ликовал бы при этой мысли, но его поэтические фантазии обычно тем и отличались, что извращали самые естественные ощущения. Он чувствовал себя оскорбленным, потому что восторженный рассказ, – его рассказ, – не произвел никакого впечатления, и вообще рядом с Евгенией он ощущал холодное дыхание ледника. Она казалась ему такой далекой, стоящей на недосягаемой высоте, и это бывало в основном тогда, когда она милостиво снисходила к нему, в результате чего ему действительно не оставалось другого выбора: или безусловно обожать издали, или признать себя наиничтожнейшим существом. Но так как последнее Вильбергу вовсе не подходило, то он предпочел первое. Погруженный в свои мысли, он дошел до жилища шихтмейстера, и так как обычно смотрел себе под ноги, то на мосту столкнулся с молодой девушкой, шедшее ему навстречу. Она вскрикнула и отскочила в сторону, Вильберг только теперь поднял глаза и начал смущение извиняться:
– Простите, фрейлейн Мелания. Я не видел вас. Я так задумался, что ни на что не обращал внимания.
Мелания была дочерью главного инженера, куда Вильберг иногда приходил, но так как мысли молодой человека всегда парили где-то в облаках, то он мало обращал внимания на молоденькую шестнадцатилетнюю девушку, причем очень стройную, грациозную, с миловидным личиком и плутовскими глазками. Она, в свою очередь, тоже до сих пор не интересовалась белокурым молодым человеком, который казался ей довольно скучным. Теперь Вильберг счел необходимым загладить свою невольную невежливость несколькими любезными словами:
– Вы, вероятно, возвращаетесь с прогулки, фрейлейн Мелания? Далеко ли вы ходили?
– Нет, совсем недалеко. Папа запретил мне дальние прогулки и вообще бывает очень недоволен, если выхожу теперь одна. Скажите, господин Вильберг, неужели эта история с рудокопами так опасна?
– Опасна? Что вы под этим подразумеваете? – дипломатично спросил Вильберг.
– Я, право, не знаю, но папа бывает иногда так суров, что мне делается страшно; он даже поговаривал о том, чтобы отправить меня и маму в город.
Молодой человек состроил печальную мину.
– Тяжелые времена, фрейлейн Мелания, очень тяжелые! Я не могу осуждать вашего отца за то, что о хочет, чтобы его близкие были в безопасном месте, в то время, как мы, мужчины, все до единого должны оставаться здесь и бороться.
– Все до единого? – с ужасом вскричала молодая девушка. – Боже мой! Мой бедный папа!
– Да ведь это я только так фигурально выразился! – успокаивал ее Вильберг. – О его личной опасности тут не может быть и речи, и если бы дело действительно дошло до борьбы, то, принимая во внимание годы вашего батюшки и его положение как супруга и отца, его, безусловно, избавили бы от этого. Тогда пошли бы мы, молодежь!
– И вы? – спросила Мелания, с недоверием глядя на него.
– Конечно, фрейлейн Мелания, я впереди всех!
Чтобы придать больше веса этому торжественному заверению, Вильберг даже прижал руку к груди, но вдруг отскочил назад и в мгновение очутился на другой стороне дороги, куда так же быстро последовала за ним и Мелания. Они внезапно увидели рядом исполинскую фигуру Гартмана, который только что перешел мост и остановился сзади них; презрительная улыбка скользнула по его лицу, когда он заметил явный испуг молодых людей.
– Вам, господин Вильберг, не стоит так бояться меня! – сказал он спокойно. – Вам я ничего дурного не сделаю.
Вильберг, казалось, почувствовал всю комичность своего прыжка и сообразил, что в качестве спутника и защитника молодой девушки ему следовало вести себя иначе. Собрав все свое мужество, он загородил собой не менее испуганную Меланию и возразил решительным тоном:
– Я вовсе и не думаю, Гартман, что вы можете напасть на большой дороге.
– Другие служащие, очевидно, боятся этого, – насмешливо сказал Ульрих. – Они бегут, как только завидят меня, точно я разбойник с большой дороги. Только господин Берков не бежит, – в голосе Гартмана слышался гнев, как будто он не мог спокойно произнести ненавистного ему имени: – он один смело идет мне навстречу, хоть бы толпа рудокопов стояла за мной.
– Господин Берков и его супруга единственные из всех жителей колонии не подозревают… – начал неосторожно Вильберг.
– Чего не подозревают? – перебил его Ульрих, медленно устремляя на него угрожающий взгляд.
То ли Вильберг не выдержал беспощадной насмешки, то ли решил показать себя героем перед Меланией, только на него вдруг напала храбрость – причем у трусливых людей это часто доходит до крайности, – и он быстро возразил:
– Мы бегаем от вас, Гартман, не потому, что вы подстрекаете рабочих и исключаете всякое соглашение с ними, совсем не потому. Мы избегаем встречи с вами потому, – тут он понизил голос, и Мелания ничего не поняла, – что веревки-то ведь были оборваны, когда вы спускались с господином Берковым в шахту! Вот почему, если вам угодно знать, все в таком ужасе бегут от вас!
Слова эти были слишком необдуманны и смелы, особенно для такого человека, как Вильберг, и он совершенно не подозревал, какое они произведут действие. Ульрих вздрогнул, из уст его вырвался приглушенный стон, и он побледнел, как мертвец. Сжатая в кулак рука опустилась, и он судорожно ухватился ею за перила моста. Он стоял перед ними, тяжело дыша и крепко стиснув зубы, стремясь, казалось, испепелить молодых людей взглядом.
Это было жестокое испытание их на мужество. Кто из них побежал первый, увлекая за собой другого, они и сами не знали, но только оба неслись изо всех сил и замедлили шаги только тогда, когда убедились, что их не преследуют.
– Скажите, ради Бога, господин Вильберг, что с ним случилось? – все еще с испугом спросила Мелания. – Что вы сказали этому ужасному Гартману, чем так рассердили? Как вы решились разозлить его!
Молодой человек улыбнулся побледневшими от страха губами. Первый раз в жизни его упрекали в смелости, причем он сознавал, что вполне заслуженно. Только теперь он понял, как рисковал.
– Оскорбленная гордость! – сказал он, едва переводя дух. – Обязанность защищать вас, фрейлейн… вы видите, он не посмел нам ничего сделать.
– Нет, мы убежали вовремя! – наивно заметила Мелания. – И слава Богу, что мы это сделали, а то, пожалуй, распрощались бы с жизнью!
– Я побежал только из-за вас! – с обидой возразил Вильберг. – Один-то я, во всяком случае, устоял бы против него, пусть бы это стоило мне жизни.
– Это было бы очень печально! – сказала девушка. – Вы сочиняете такие прекрасные стихи.
Вильберг даже покраснел от столь приятной неожиданности.
– Вы знаете мои стихи? Я не думал, чтобы в вашем доме… Ваш батюшка несколько предубежден против моего поэтического дарования.
– Папа недавно говорил об этом с директором, – сказала Мелания и вдруг запнулась. Ведь не могла же она признаться поэту, что его стихи, которые ей, шестнадцатилетней девушке, показались такими трогательными, ее отец прочитал своему коллеге с язвительными насмешками и резкими комментариями: «может же человек заниматься теперь такими пустяками». Она тогда же сочла подобный отзыв о молодом человеке в высшей степени жестоким и несправедливым – он перестал ей казаться скучным с тех пор, как у него появилась несчастная любовь, о чем он недвусмысленно говорил в своем стихотворении. Это объясняло и извиняло все его странности. Она поспешила уверить его, что находит стихи прекрасными, и с искренним участием, хотя и несколько робко, принялась утешать его в мнимом несчастье.
Вильберг охотно слушал утешения; ему было невыразимо приятно встретить, наконец, родственную душу. К несчастью, они дошли уже до дома инженера, который как раз стоял у окна и удивленно, с подозрением смотрел на эту парочку. Вильберг не имел желания выслушивать неизбежные насмешки своего начальника в случае, если бы Мелания вздумала рассказать о встрече с Гартманом и об их бегстве взапуски; поэтому он простился с девушкой, уверяя ее, что она влила в его сердце целительный бальзам, а Мелания, поднимаясь по лестнице, ломала себе голову, стараясь отгадать, кто, собственно, был предметом этой в высшей степени интересной несчастной любви молодого человека.
Когда Ульрих вошел в комнату, шихтмейстер Гартман сидел у стола, подперев голову рукой; неподалеку у окна стояли Лоренц и Марта. Разговор тотчас оборвался, и он сразу догадался, что речь шла о нем, но, казалось, не обратил на это никакого внимания. Он запер за собой дверь, швырнул на стол шляпу и, не поздоровавшись ни с кем, бросился в большое кресло, стоявшее у печки.
– В добрый час! – сказал шихтмейстер, медленно поворачиваясь к нему. – Ты что, не хочешь утруждать себя, чтобы поздороваться с нами? Мне кажется, тебе не следовало бы этим пренебрегать!
– Не мучь меня, отец! – раздраженно бросил Ульрих, откидывая голову еще больше назад и сжимая руками лоб.
Шихтмейстер пожал плечами и отвернулся; Марта отошла от окна и села рядом с дядей, чтобы приняться за работу, которую прервала во время разговора с Лоренцом. Несколько минут в комнате царила тишина; наконец, молодой рудокоп подошел к своему другу.
– Штейгер Вильмс приходил сюда, чтобы поговорить с тобой, Ульрих; через час он снова придет. Он побывал на всех соседних заводах и рудниках.
Ульрих провел рукой по лбу, как бы желая очнуться от какого-то мучительного сна.
– Ну, как же там дела? – машинально спросил он так равнодушно, как будто еще не вполне сообразил, о чем идет речь.
– Они присоединяются к нам! – объявил Лоренц. – Наш пример, кажется, придал им мужества. Теперь повсюду начнется борьба. Первыми выступят чугунные заводы в горах, за ними последуют все рудники, если немедленно не примут их требований, что, конечно, и случится. Таким образом, через неделю прекратятся работы на всех заводах и рудниках.
– Наконец-то!
Ульрих, как наэлектризованный, вскочил с места. Мгновенно равнодушия и апатии как не бывало: он снова был энергичным, как всегда.
– Наконец-то! – повторил он, вздохнув с облегчением. – Давно пора! Мы чересчур долго оставались одни.
– Потому что слишком поторопились.
– Может быть, но нам нельзя было ждать. У нас ведь не то, что на других рудниках. Каждый рабочий день подвигал Беркова вперед, а нас назад. Что же, Вильмс отправился по деревням? Надо поскорее сообщить об этом товарищам. Это поддержит их!
– Что очень необходимо! – спокойно сказал шихтмейстер. – Как видно, мужества у них и поубавилось. Вот уже две недели не слышно ударов молота. Вы все ждете, что к вам обратятся с просьбой или, по крайней мере, с предложением начать переговоры, которые должны окончиться согласием исполнить ваши требования, а хозяин и не думает об этом. Служащие избегают встречи с вами, а у хозяина такой вид, что он не уступит ни на волос. Да, Ульрих, поддержка давно необходима.
– Почему же так необходима, отец? – встревожено спросил молодой человек. – Мы не работаем всего две недели, а я предупреждал, что в крайнем случае они должны быть готовы прогулять два месяца, если хотят победить, а победить мы должны!
Старик покачал головой.
– Два месяца! Это выдержишь ты, выдержим я и Лоренц, но не те, у кого есть жена и дети.
– И они должны выдержать! – холодно парировал Ульрих. – Я ведь думал, что мы легче и скорее добьемся своего. Оказывается, я ошибся. Ну, уж если он хочет довести дело до крайности, то и мы со своей стороны заставим его дорого поплатиться за это.
– Или он нас! – вмешался Лоренц. – Если хозяин действительно…
Ульрих яростно топнул ногой.
– «Хозяин» да «хозяин», только и слышишь! Неужели у вас нет другого названия для этого Беркова? Вы его не называли так до тех пор, пока он не сказал вам в глаза, что он такое и чем хочет быть. Говорю вам, если мы поставим на своем, то хозяевами будем мы; он останется хозяином только по имени, а власть будет принадлежать нам! Он это отлично понимает и оттого так упорствует! Потому-то мы и должны добиться во что бы то ни стало исполнения наших требований!
– Попробуй! – сказал шихтмейстер. – Да разве ты один можешь перевернуть весь свет вверх ногами? Я уже давно молчу!
Лоренц взял шляпу, висевшую на оконной задвижке, и, прежде чем уйти, сказал Ульриху:
– Тебе лучше знать, что из этого выйдет: ты ведь наш вожак.
Лицо Ульриха омрачилось.
– Да, это так, но я думал, что мне легче будет поддерживать среди вас согласие. На самом деле это очень трудная задача.
Молодой рудокоп обиделся.
– Ты не можешь на нас жаловаться – все подчиняются каждому твоему слову.
– Подчиняются! – повторил Ульрих, мрачно и пытливо глядя на своего друга. – Да, ты прав, в повиновении недостатка нет, я не могу пожаловаться; но наши отношения совершенно изменились, даже с тобой, Карл, теперь не то, что было прежде. Вы все стали холодны ко мне, как-то чуждаетесь меня, и иногда мне даже кажется, как будто боитесь меня и только.
– Нет, нет! – горячо возразил Лоренц, но именно горячность подтвердила, что Ульрих не ошибся. – Мы вполне доверяем тебе, только тебе. Что бы ты ни сделал, ты сделал это для нас, а не для себя; все это знают, и никто не забудет этого!
«Что бы ты ни сделал, ты сделал это для нас!» Это было сказано без всякого умысла, но Ульриху показалось, что в этих словах заключался какой-то скрытый смысл, и он устремил пытливый взгляд на Лоренца, который опустил глаза, чтобы избежать этого взгляда.
– Мне надо идти! – сказал он поспешно. – Я пришлю к тебе Вильямса. Ведь ты будешь дома? Он застанет тебя?
Ульрих ничего не ответил. Яркий румянец, от сильного волнения выступивший на его лице несколько минут тому назад, снова сменился бледностью. Он только утвердительно кивнул Лоренцу и отвернулся к окну.
Молодой рудокоп простился с шихтмейстером и вышел из комнаты; Марта последовала за ним. За все время разговора она не произнесла ни слова, но внимательно наблюдала за мужчинами. Она не возвращалась довольно долго, но это не могло удивить тех, кто оставался в комнате, – ведь они знали, что недавно помолвленным жениху с невестой было о чем шептаться, и потому не обратили на это никакого внимания.
Отец и сын, оставшись вдвоем, молчали. Ульрих все еще стоял у окна, прижавшись лбом к стеклу, и пристально смотрел куда-то, ничего не видя. Шихтмейстер оставался на своем месте; он все еще сидел у стола, опершись головой на руку, но лицо старика странно изменилось в последние недели: оно стало печальным и озабоченным; морщины прорезались еще глубже, а глаза глядели как-то устало и мрачно; казалось, исчезли вся его бодрость и энергия, с какой он, бывало, часто сурово выговаривал сыну. Словно удрученный горем, он сидел у стола, не пытаясь даже возобновить разговора.
Наконец, Ульрих не выдержал молчания и быстро повернулся к отцу.
– Что же ты, отец, ничего не скажешь о новости, которую принес Вильмс? Разве тебе безразлично, победим мы или будем побеждены?
Шихтмейстер медленно поднял голову.
– Нет, мне не безразлично… Но я не могу одобрить того, что вы прибегаете к угрозам и насилию. Поживем – увидим, по ком это ударит – по хозяевам или нам! Тебе, конечно, до этого нет дела, только бы настоять на своем! Ведь теперь ты хозяин и распорядитель на всех рудниках! К тебе все идут, все преклоняются перед тобой, внимают каждому твоему слову… Ведь ты с самого начала только этого хотел и для этого все затеял!
– Отец! – вскричал молодой человек.
– Оставь! – продолжал шихтмейстер, прерывая сына. – Ты не сознаешься в этом ни мне, ни даже самому себе, но это так. Все пошли за тобой, и я тоже, потому не мог же я оставаться один. Но погляди, куда ты ведешь нас! Учти, ответственность за все последствия ложится на тебя!
– Да разве я один начал дело? – с досадой спросил Ульрих. – Разве не единогласно решили, что существующие порядки следует изменить, и разве мы не дали друг другу слова стойко держаться, пока не добьемся своего?
– Но ведь нам почти во всем пошли на уступки, а то, в чем отказывают, вовсе не входит в требования рудокопов – этого требуешь только ты один, Ульрих, и заставляешь других настаивать на этом. Если бы не ты, все уже бы давно приступили к работе, и у нас на рудниках воцарились бы мир и спокойствие.
Молодой штейгер упрямо откинул голову.
– Ну да! Я один требую этого и не считаю позором того, что забочусь о будущем и вижу дальше других. Если их устраивает, что нищенскую жизнь сделают несколько сносней да в шахтах станет безопасней, то ни я, ни более мужественные из наших друзей не сможем удовлетвориться этим. Правда, мы требуем слишком многого, и если бы даже Берков был действительно миллионером, как все думают, то и тогда он не решился бы сдаваться. Но он уже больше не миллионер, и от нас зависит, будет ли он работать или нет, теперь его ожидает либо богатство, либо полное разорение. Ты ведь не знаешь, отец, в каком положении его дела и что говорится на совещаниях, а я знаю и говорю тебе, что он может упорствовать сколько угодно, а все-таки, когда его прижмут со всех сторон, вынужден будет уступить.
– А я говорю, что он не уступит, – настаивал на своем шихтмейстер. – Он скорее совсем закроет рудники: я знаю Артура… Он и в детстве был таким. Ты совсем не походил на него. Ты шел всегда напролом, хотел все взять силой, была ли то работа, садовая изгородь или товарищ; он же неохотно принимался за дело и долго медлил, прежде чем решиться; но если уж брался, то не отступал до тех пор, пока не доведет до конца. Теперь он встряхнулся и покажет вам всем, что он собой представляет. Раз он взял бразды правления в свои руки, то уж никто их не вырвет у него. Он так же упрям, как и ты. Вспомнишь меня тогда, когда он покажет себя!
Ульрих не возражал, мрачно устремив взгляд в сторону, но видно было, что он разъярен. Может быть, он испытал уже на себе упрямство Артура.
– Да и чем бы ни кончилось дело, – продолжал отец, – неужели ты действительно воображаешь, что останешься штейгером, что начальство будет держать тебя на рудниках после всего, что случилось?
Молодой человек презрительно засмеялся.
– Вероятно, нет, если только это будет зависеть от начальства! Едва ли они помилуют меня. Но о помиловании не может быть и речи: мы будем диктовать им наши условия, и одним из первых будет требование оставить меня на своем месте.
– Ты так уверен в этом?
– Отец, не позорь моих друзей! – запальчиво вскричал Ульрих. – Они не покинут меня!
– Не покинут?.. Даже если первым условием будет твое отстранение? А я абсолютно уверен, что хозяин этого потребует.
– Пусть требует! Только он этого никогда не добьется. Все знают, что я пекусь не о себе; мне лично жилось хорошо и не приходилось испытывать нужды, и я всегда найду себе кусок хлеба. Я хотел изменить их несчастную жизнь! И не говори мне об этом, отец! Они часто причиняют мне много забот, но когда станет не до шуток, я добьюсь своего, и ни один из них не покинет меня. Куда я их поведу, туда они и пойдут за мной, где я остановлюсь, там остановятся и они, хотя бы под угрозой смерти!
– Прежде да, но не теперь!
Старик поднялся с места, и только когда он повернулся лицом к свету, можно было разглядеть, как оно печально, да и сам он, еще недавно державшийся так прямо, теперь согнулся и как будто стал ниже ростом.
– Сам же ты сказал Лоренцу, что отношения между вами изменились, – продолжал он едва слышно, – и ты знаешь день и час, когда это произошло! Мне незачем напоминать тебе об этом, Ульрих, но только меня этот час лишил и той частицы спокойствия и радости, которой я надеялся насладиться под старость… Теперь всему конец!
– Отец! – воскликнул молодой человек.
Шихтмейстер резко махнул рукой.
– Достаточно! Я ничего не знаю об этом и знать не хочу, потому что, если бы это оказалось правдой, для меня все было бы кончено. С меня довольно и этой мысли: она одна почти свела меня с ума!







