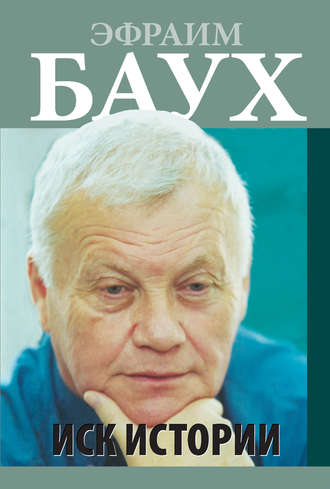
Эфраим Баух
Иск Истории
Глава четвертая
Казус Ницше
Евреи и немцы
За два года до апоплексического удара и потери рассудка, Фридрих Ницше впервые открывает Федора Достоевского. Он пишет другу: «…Еще несколько дней назад я не знал даже имени Достоевского – необразованный человек, не читающий «газет»! При случайном посещении книжной лавки мне бросилась в глаза только что переведенная на французский книга «l”esprit souterrain» («Записки из подполья») – столь же случайно было это со мной в возрасте 21 года с Шопенгауэром и в 35 лет со Стендалем. Инстинкт родства (или как это еще назвать?) среагировал моментально…»
Прикосновение судьбы, словно кто-то ненароком притронулся к твоему плечу, всегда внезапно. «Его величество Случай», как говорил Стендаль, настигает средь бела дня в каком-нибудь суетном углу жизни.
Так было с книгой Ренана, обнаруженной мною в доме моего друга Андрея в школьные годы. На этот раз, в начале шестидесятых, случай обернулся рекомендованным друзьями фотографом, который должен был сделать для меня несколько снимков. Это был невзрачный человечек небольшого росточка, с узким ножевым лицом, горбатым носом, ранними залысинами, семенящей походкой. С лица его не исчезало выражение готового в любой миг ощетиниться слабыми коготками котенка, заблудившегося на внушающей ужас улице, беспомощного перед любым толчком и хищным желанием прохожих отфутболить его в сторону. Фамилия у человечка, который мог стать драгоценной находкой для антисемитов, была тоже необычной – Цванг. Он привел меня к себе домой, в нижнюю, старую часть Кишинева, где в одной из комнаток, а скорее, каморок соорудил студию. Дом был многоквартирный с дряхлой, скрипучей деревянной галереей, куда распахивались и, вероятно, даже на ночь не закрывались двери квартирантов. Я сразу заметил в углу этажерку с тонкими, не раз переплетенными книгами. «Можно взглянуть?» – спросил я хозяина, который все время суетился, что-то разыскивая, выходил и входил. «Пожалуйста» – сказал он.
И вот – среди шума провинциального дома, плача ребенка, запаха стирки, животного рева водопроводного крана в одной из квартир, перебранки на идиш, очевидно, старухи-матери с уже немолодой дочерью, которая на птичьи крики старухи отвечала время от времени одним пожеланием – «Митн коп ин дер вонт» («Головой в стенку»), – я извлек небольшую книжицу с ятями и твердыми знаками – «Фридрих Ницше. К генеалогии морали».
Вошел Цванг.
– Тут у вас Ницше, – осторожно сказал я, как будто речь шла об обнаруженной бомбе, – можно ее почитать… Ну, тут у вас… Я понимаю…
– Берите домой, читайте, – просто сказал Цванг, и это для меня равносильно было расставленной западне. Я ведь впервые видел этого человека. Но понимание, что другого такого случая не будет, что это подарок судьбы, пересилило гнездившийся в костях страх.
Слабо светила настольная лампа. Жена и сын спали, и над их безмятежными лицами витал покой. Во сне их слабо пульсировала незамутненная глубь жизни. Я читал Ницше, время от времени выходя на балкон. Над аллеей, тянущейся мимо дома, в замершем воздухе летней ночи одиноко мерцал фонарь. Идущие по аллее фигуры возникали из тьмы и тут же в ней исчезали, словно таящиеся во тьме вели какую-то свою чертову игру, выпуская жертву на свет и в следующий миг заглатывая опять. Я ощущал иглу в сердце и неотступный страх за дорогих мне существ, спящих рядом.
Я понимал, почему Ницше был холост и не имел детей. Подкладывая такой динамит под сложившийся и слежавшийся мир, нельзя ставить под угрозу близких.
Первым делом следовало отыскать портрет автора, который, судя по гениальному, но абсолютно неврастеническому тексту, представлялся мне неким подобием владельца книжечки Цванга. У него и оказался портрет Ницше, увеличенный фотографическим способом, словно Цванг пытался в нем что-то усиленно рассмотреть.
К моему удивлению, с портрета на меня глядел вислоусый, пухлощекий, жовиальный толстяк, помесь Тараса Шевченко и запорожского казака с картины Репина, этакий украинско-польский крестьянин, закусывающий горилку квашеной капустой. Когда я выразил это свое удивление Цвангу, он усмехнулся, ушел в какой-то чуланчик и принес мне целую горку книжечек Ницше. Думаю, обнаружив клад с золотом, я бы не испытал такого шока.
Я понимал, что неспроста этот маленький, кажущийся таким беспомощным в своей молчаливой демонстрации собственного достоинства, еврей Цванг добывал сочинения Ницше. Я, как и он, всю жизнь испытывал унижение, связанное с моим еврейством. Мне, как и ему, не давал покоя простой, но неотступный вопрос: почему и как это немцы, в значительной степени создатели европейской философии и музыки, докатились до такой ничем не выразимой и не объяснимой чудовищности, уничтожив треть нашего народа. Имя Ницше впрямую связывалось с идеями нацизма.
Первым, что меня потрясло при чтении его книг – это его отношение к немцам и «немецкой душе». По Ницше, немец все время отчаянно мучается вопросом «Кто такой немец?» и «Что такое немецкое?»
Этот, я бы сказал, смятенный поиск идентичности был отмечен у литераторов и художников Германии задолго до Ницше. Они всегда, как черт ладана, боялись вторичности, из-за которой им не удастся стать вровень с «великим Искусством». Ведь даже одно из лучших «репрезентативных» достижений немецкого гения – перевод Лютером Библии на немецкий язык – по самой своей сути вторичен («Библия была до сих пор лучшей немецкой книгой», – говорит Ницше).
В поисках оригинального пути немецкие художники слова и кисти бросились в экспрессионизм. Но и это был, как писал немецкий философ-еврей, трагически покончивший собой с приходом нацистов, Вальтер Биньямин, отголосок эпохи барокко, в эпоху «воли к власти» обернувшийся «волей к искусству».
По Ницше «немец не есть, он становится (подчеркнуто Ницше), он развивается… Развитие… доминирующее понятие, которое в союзе с немецким пивом и немецкой музыкой стремится онемечить Европу».
Загадки этой души Гегель систематизировал, а Вагнер переложил на музыку. Оба, как мне уже было известно, весьма не любили евреев, а последний даже написал откровенно антисемитскую брошюру «Евреи в музыке».
По Ницше немецкая душа плохо переваривает события своей жизни и так называемая «немецкая глубина» чаще всего и есть только это «тяжелое, медленное «переваривание». Немец любит говорить о своей откровенности и прямодушии. Следующую цитату я переписывал с мстительным удовольствием, в ночные часы, под пение цикад в кустах под балконом, памятуя слова Мандельштама о том, что цитата есть «цикада»: звенит в ночи, а приближаешься – замолкает. Надо слушать ее издалека, тогда и обнаружится то главное, что притягивает твою иудейскую душу и поддерживает ее на поверхности текстового пространства.
«…Как удобно быть доверчивым и прямодушным! – Эта доверчивость, эта предупредительность, эта игра в открытую немецкой честности является в наше время опаснейшей и удачнейшей маскировкой, на которую способен немец – это его подлинное мефистофелевское искусство, с ним он еще может «далеко пойти»! Немец живет на авось, к тому же смотрит на все своими честными, голубыми, ничего не выражающими немецкими глазами – и иностранцы тотчас же смешивают его с его халатом!..»
«Немецкая душа» – и это с давних пор и по разному поводу отмечали разные исследователи – страдает опасным родом расщепления сознания, опасной формой маниакально-депрессивного психоза, я говорю «опасной», ибо речь не об отдельном человеке, а о многомиллионной нации, которую охватывает внезапно национальная горячка, доводящая ее до умственного расстройства. Ницше раскаивается в том, что сам, было подвергся болезни, какая приступами одурения охватывает время от времени современных ему немцев: то это «…антифранцузская глупость, то антиеврейская, то антипольская, то романтико-христианская…то тевтонская, то прусская… Я еще не встречал ни одного немца, который бы относился благосклонно к евреям…»
Это он пишет в 1885 году в книге «По ту сторону добра и зла». Ничего нет нового под небом Германии, если Фридрих Дюрренматт в 1990 году так описывает немецкое государство: «У немцев никогда не было государства, зато был миф священной империи. Немецкий патриотизм всегда был романтическим, непременно антисемитским, благочестивым и уважительным к власти» (Durrenmatt F. Sur le sentiment patriotique. Liberation. 19.4.1990).
Тем не менее, евреи Германии согласны были, за милую душу, обрести ее – эту «немецкую душу».
Их забывчивость преступала все границы преступности.
Можно было сделать вид, что забыты времена крестовых походов, когда тевтонские рыцари по пути к освобождению гроба Господня в Иерусалиме, походя, вырезали от мала до велика все еврейские общины в городах вдоль реки Рейн, а в городе Вюрцберг впервые в мире обвинили евреев в ритуальном убийстве и, естественно, устроили резню.
Можно было почесывать затылок, когда наиболее беспокойные среди евреев напоминали своим братьям конец 13-го века: по примитивному, но весьма действенному предлогу, что евреи крадут и оскверняют облатки, которые кладут в рот христианам во время причастия, как «плоть Христову», истребили 140 еврейских общин.
Но куда деть страшный 14-й век, вошедший в еврейскую память, как «век мученичества» – век банд «юденшлегеров» («убийц евреев), когда в годы «черной смерти» всех немецких евреев подхватил «черный смерч» – поголовно было уничтожено более трехсот еврейских общин. По сути, это была первая попытка воплотить идею «юденфрай» – очистить Германию от евреев – мини-Шоа.
А как быть с тем, что в конце 70-х 19-го века именно в Германии, впервые в Европе, как грибы после дождя стали расти антисемитские партии на почве арийской теории, этого «научно» оправдываемого безумия?
И здесь немецкие евреи, естественно, богатые, искали лазейки, на чем свет ругали «бородатых, пейсатых, вонючих евреев», спасающихся в Германию от погромов в Польше и России, даже создали в 1921 году «Союз национал-немецких евреев», чтобы улестить ярых немецких националистов. Они даже учредили молодежное движение «Черный флажок» и выпускали ежемесячник «Дер национальдойче юде» (Национал-немецкий еврей»). Ничего не помогало.
Ну а тут уже грянул вовсе не как гром среди ясного неба тысяча девятьсот тридцать третий.
До открытия Ницше, испытывая откровенную неприязнь к Гегелю с легкой руки Маяковского, втиснувшего его в кровавую баню гражданской войны («Мы диалектику учили не по Гегелю…»), вкупе с Фейербахом и Марксом, я все же уважительно относился к Канту с его брошенным в мир понятием «вещь в себе». За этим скрывалась какая-то заманчивая непознаваемость мира. Это также понималось, что вещь «к тебе» повернута неким зеркалом, отражает и твое любопытство, и любовь к логическим построениям. Но это ведь и очень опасно: неизвестно, что скрытая сторона вещи, то самое « в себе», выкинет. И выкинуло. Послекантовский мир взорвался бесовским «подпольем» Достоевского.
И тут я прочел у Ницше о Канте: «Этот роковой паук считался немецким философом». Я подумал о том, что это не просто паук, а паук немецкий, умеющий медленно, неутомимо плести паутину вопреки всему, чтобы поймать в нее, как муху, весь мир.
Передо мной явно маячил паучий вариант «Дойчланд юбер алес».
Но почему Ницше, нападая на христианство, говорит о том, что это хитрая выдумка евреев – гениального теоретического народа, сумевшего превратить свою ненависть к преследующему его миру в любовь, распять человека из своей среды, назвав его сыном Божьим, и этим заставив весь мир стать перед ним на колени?
Я пытался разобраться в хитросплетениях ницшеанской мысли, часто противоречащей себе самой, эмоционально скачущей с одного полюса на другой, что, кстати, позволяло использовать его как евреям, так и антисемитам. Такие евреи, как Георг Брандес и Миха Бердичевский носились с ним как с писаной торбой, воистину способствуя его всемирной славе. Евреи видели в Ницше даже собрата, непризнаваемого, одинокого, непонятного, «вечного жида». Богатые евреи считали его своим защитником.
Бросая в мир свои фрагменты (Ницше всегда фрагментарен, оставляя большие пространства для домысла и осмысливания), он отделяет иудейский Ветхий Завет от Нового Завета евреев – ранних христиан и винит апостола последних Павла в использовании «распятия» Христа с целью захватить весь мир. По вопросу завоевания мира Ницше все же, как истый немец, хотя и поляк по происхождению, разбирается неплохо.
По сути, в своем опровержении христианства Ницше стоит на позиции евреев начала новой эры, которые осознавали все то иллюзорно-вредное, что несет эта «вещь в себе», в начале своем зеркально отражающая лишь иудаизм. Такое его истолкование ощущалось неисчислимыми бедами в будущем. Эта «вещь в себе» грозила обернуться «к ним», иудеям, одиночеством в мире, одиночеством в Боге, стать достоянием массы с ее необузданными варварскими инстинктами. В этой вере, основанной на любви, было слишком много подпольной ненависти к евреям: вот же, распяли сына Божьего. Такое не могло долго держаться «непротивлением злу насилием»: это толстовское уже в младенческом своем начале ощущалось как еще одно доброе намерение по дороге в ад.
«В иудейском «Ветхом Завете», – пишет Ницше, – в этой книге о Божественной справедливости, есть люди, вещи и речи такого высокого стиля, что греческой и индийской литературе нечего сопоставить с ним. С ужасом и благоговением стоим мы перед этими чудовищными останками того, чем был некогда человек, и в нас рождаются печальные думы о древней Азии и ее выдающемся вперед островке, Европе, которой хотелось бы непременно выглядеть перед Азией в значении «прогресса человека»… Удовольствие, доставляемое Ветхим Заветом, есть пробный камень по отношению к «великому» и «малому»… Склеить этот Новый Завет, своего рода рококо вкуса во всех отношениях, в одну книгу с Ветхим Заветом и сделать из этого «Библию», «Книгу в себе», есть, быть может, величайшая смелость и самый большой «грех против духа», какой только имеет на своей совести литературная Европа».
Оклик через тысячелетия
Вообще, будучи евреем, вероятно, в отличие от людей всех других национальностей, я ощущал всю мировую литературу, философию, историю, не говоря уже о религии, с особым пристрастием обращенными лично ко мне, их удивление мною, ненависть, чаще всего несправедливую, ко мне, их ложь обо мне и редкие признания меня сквозь зубы.
Натыкаясь на всех языках в переводах Библии на свое имя – Эфраим, я вздрагивал, словно меня окликнули. Видя вывешенные под стеклом в парке газеты со списком лауреатов сталинской премии, я бросался выискивать еврейские фамилии. Естественно, с тем же усердием я выискивал в Ницше себя, еврея.
Его высказывания одновременно, как все в нем, влекли и отталкивали.
«Чем обязана Европа евреям? – пишет Ницше в книге «По ту сторону добра и зла». – Многим, хорошим и дурным, и, прежде всего тем, что является вместе и очень хорошим и очень дурным: высоким стилем в морали, грозностью и величием бесконечных требований, бесконечных наставлений, всей романтикой и возвышенностью моральных вопросов, – а, следовательно, всем, что есть самого привлекательного, самого обманчивого, самого отборного в этом переливе цветов, в этих приманках жизни, отблеском которых горит нынче небо нашей европейской культуры, ее вечернее небо, – и, быть может, угасает. Мы, артисты среди зрителей и философов, благодарны за это – евреям».
В своей предпоследней книге «Антихрист. Проклятие христианству», написанной блестящим языком, над которым уже тяготеет приближающееся затмение ума, впадающего от этого в ярость, Ницше весьма для нас любопытно честит Христа. Называет его «святым анархистом, вызвавшим на противодействие господствующему порядку низший народ, народ изгнанных и «грешников»… внутри еврейства, речами, которые, если верить Евангелию, еще и теперь могли довести до Сибири…» И вышел этот «политический преступник» из среды евреев – «этого самого замечательного народа мировой истории, потому что они, поставленные перед вопросом: быть или не быть, с внушающей ужас сознательностью предпочли быть какой бы то ни было ценою: и этой ценою было радикальное извращение всей природы, всякой естественности… Непоправимым образом обратили они по порядку религию, культ, мораль, историю, психологию в противоречие к естественным ценностям этих понятий… Христианская церковь по сравнению с «народом святых» не может претендовать на оригинальность. Евреи вместе с тем самый роковой народ всемирной истории: своими дальнейшими влияниями они настолько извратили человечество, что еще теперь христианин может чувствовать себя анти-иудеем, не понимая того, что он есть последний логический вывод иудаизма».
То, признавая себя декадентом до мозга костей, то, свирепо нападая на декаданс, Ницше считал, что «по психологической проверке еврейский народ есть народ самой упорнейшей жизненной силы; поставленный в невозможные условия, он добровольно, из глубокого и мудрого самосохранения берет сторону всех инстинктов декаданса, не потому, что они им владеют, а потому, что в них он угадал ту силу, посредством которой он сможет отстоять себя против мира…»
Читая Ницше, я ощущал самоуверенность немецких философов, выстраивающих логические цепи к истине, в любой момент готовые обернуться цепями рабства и гибели. И каждый из этих философов был похож на мальчика, уверенного, что он строит истинный дворец из кубиков, даже и, не подозревая, что другой – злой мальчик одним ударом разрушит его. Таким злым мальчиком, enfant terrible, ворвавшимся в храм немецкой классической философии, и был Ницше. Он опрокинул там не только лавки менял и располосовал всю позолоту алтаря, но и попытался добраться до купола, чтобы сорвать крест.
Вместе с ним язычество, усмиренное в иудаизме христианством, шумно вырвалось из своей «вещи в себе», и с черного хода ворвалось в храм.
С другой стороны, иудейская неуспокоенность, помноженная на давний иудейский мазохизм («подставь другую щеку»), на иудейскую самоненависть, замешанную на приобретенном немецком характере, проснулась в другом мальчике – Марксе.
Никакая «сука» его не будила (вспомним стихи Наума Коржавина: «Какая сука разбудила Ленина, кому мешало, что ребенок спал?..»).
Ох, уж эти злые не выспавшиеся детки, которые роются в песке, в надежде прокопать земной шар. Выходило, что немец еврейского происхождения Маркс более ненавидит евреев, чем немец польского происхождения Ницше. Тут мысль впрямую упиралась в вопрос: являются ли эти два злых немецких ребенка, поставившие себя «по ту сторону добра и зла», – «отцами» двух далеко не детских игр – социализма и национал-социализма? Две эти игры, научно названные «идеями, охватившими массы», выпестовали не просто двух злых детей, а настоящих ублюдков «по ту сторону добра и зла», сотворивших чудовищную «бездну Шоа-ГУЛаг» – Гитлера и Сталина.
Маркс весьма уютно чувствовал себя в уже привычной для иудейской среды самоненависти. Ницше же, прокламируя свою независимость, не избегает угрызений совести. Он говорит о себе, как о человеке, который «вступает в лабиринт… в тысячу раз увеличивает число опасностей, которые жизнь сама по себе несет с собою; из них не самая малая та, что никто не видит, как и где он заблудится, удалится от людей и будет разорван на части Минотавром совести…»
Мальчик для битья
Более того, как случайно оговорившийся обвиняемый, которому в будущем может быть предъявлен иск, Ницше пишет: «Философия сама есть тиранический инстинкт, духовная «воля к власти», к «сотворению мира»… Наши высшие прозрения должны – и обязательно! – казаться безумствами, а, смотря по обстоятельствам и преступлениями, если они запретными путями достигают слуха тех людей, которые не созданы, не предназначены для этого…»
Эти мысли не давали мне спать. Я вставал ночью, прислушиваясь к дыханию жены и сына, совсем еще мальчика, я повторял про себя часто произносимые бабушкой, которая проживала с мамой в другом городе, слова на идиш: «Гот зол олтн ойф зей ди рехтэ онт» – «Господь, простри над ними свою десницу». Само мое существование, мальчика, вброшенного в кровавый водоворот Второй мировой войны, было чудом верблюда, проскользнувшего в игольное ушко «Шоа-ГУЛага».
И, не в силах заснуть, я думал об еще одном мальчике. Еврее. Был ли мальчик? Да, но это был мальчик для битья, который в противовес другому, пошедшему на крест, пытался, согласно легенде, заткнуть пальцем отверстие в плотине. Все, идущие за распятым из века в век, улещивали, уговаривали, угрожали мальцу, требуя открыть отверстие, чтобы вся эта масса вод хлынула, смела всех, и самих уговаривающих, с пути, обернулась новым Ноевым потопом духа, освобожденного от всех узд и уз.
По библиографическим спискам к книгам Ницше можно было представить, какая масса имен с восторженным гиком кружится в водовороте прорвавшейся плотины. Потоп, захлестнувший мир двумя мировыми войнами с таким ничтожным знаковым наоборотным интервалом – 1914-1941 – в одно поколение, – еще несет на гребнях своих валов много кровавого и разрушительного, обещая человеческому роду долгую жизнь в вихре разрушения, и род этот уже даже уютно обустраивается на каких-то клочках суши в этом бушующем потопе.
Но у мальчика для битья, обладавшего мужеством пальцем сдерживать плотину, есть и своя родословная, пусть трагическая, кровавая, но спасительная для человеческого рода, как всегда убивающего своих спасителей: избранность Богом, который, по Ницше, умер. Только этим Ницше преступил черту, и никакие изыски стиля и, вероятно, бездарно переведенные на русский его стихи – прокладки в текстах, не могли оправдать того, что он произнес: Бог умер.
А Ницше тем временем веселится с клоунскими гримасами злого мальчика по поводу поисков идентичности, которую немцы, да и вся Европа, примеривают на себя, словно «костюмы» – моралей, верований, религий, политики, – и все это подобно «карнавалу большого стиля», все это ведет к «духовному масленичному смеху и веселью, к трансцендентальной высоте высшего тупоумия и аристофановского осмеяния мира», уже готовых перейти в плоскую, но смертельную, дьявольщину, в будущем.
Чутьем гениального неврастеника Ницше ощущает призрение Бога, которого он умертвил, Бога еврейских пророков. Это призрение дает ему прозрение будущего, но – в отличие от пророков – он испытывает к этому будущему – презрение.
Он предвидит воцарение посредственности и нивелировки под девизом всеобщего равенства, которое уничтожит все накопленные за века духовные ценности. Он видит наступающий ХХ-й век в жестоком свете якобы несущей Европе долгожданную свободу демократизации, которая «клонится к нарождению типа, подготовленного к рабству в самом тонком смысле слова…» Она, эта демократизация Европы «есть вместе с тем невольное мероприятие к расположению тиранов…»
А вот прямое, я бы сказал, невольное пророчество будущего нацизма: «Подразумеваю… такое усиление грозности России, которое заставило бы Европу решиться стать в равной степени грозной, то есть посредством новой господствующей над ней касты приобрести единую волю, долгую, страшную собственную волю, которая могла бы назначить себе цели на тысячелетия вперед… Грядущее столетие несет с собою борьбу за господство над всем земным шаром…»
Любопытна евгеническая идея Ницше, которую Гитлер пытался осуществить в арийском варианте. Ницше предлагает для улучшения породы немцев скрещивать прусских юнкеров с еврейками.
Изгаляясь над всеми и всем, Ницше чувствует будущее, полное ярости, ненависти, злобы масс. Более того, он словно бы предощущает «бездну Шоа», произнося слова, от которых мороз по коже: «Пусть сжалится небо над европейским разумом, если бы возникло желание выцедить из него еврейский разум». Так и видится этот разум, «цедящийся» из разбитых прикладами еврейских голов.
Ницшевская «воля к власти» сводит немцев с ума. Нет им дела до его философских изысков. Главное, он в приступе вседозволенности бросил семя – два слова не на ветер, а в благодатную немецкую почву. Слово не воробей, его не уничтожишь никакими пушками.
«Убивайте слабых!» – семя, из которого выпростался страшный чертополох – Гитлер. Но кто же эти сильные, которые должны убивать слабых? Да это та самая ненавистная Ницше чернь – лавочники, мясники, парикмахеры, провинциальные учителя, в один миг ставшие генералами, гаулейтерами, карателями, как и в Совдепии те же, дорвавшиеся до власти под лозунгом «Кто был никем, тот станет всем». Все перепуталось и уже неважно, в какой форме прорвались два кратера насилия – Шоа и ГУЛаг – уничтожения себе подобных, животного рева Истории.
Схлынет вулкан, застынет лава. И что? Возник новый мир? Да тот же, только успевший значительную свою часть превратить в кладбище, в мерзость запустения.
Воистину неисповедимы пути – не Господни – а человеческие.
Ницше писал в своей последней книге-автобиографии «Ecce Homo» («Се – человек») перед погружением в безумие, в котором пребывал более одиннадцати лет (с апоплексического удара в январе 1889 по день смерти в августе1900 года), что естественными его читателями являются русские, скандинавы и французы, что с истинной деликатностью и уважением к нему относятся евреи, а «немцы – никогда».
Ницше произнес о немцах самые унизительные слова, говоря: «Немецкий дух» – мой дурной воздух: я с трудом дышу в этой, ставшей инстинктом, нечистоплотности… которую выдает каждое слово, каждая мина немца… Слыть человеком, презирающим немцев… принадлежит даже к моей гордости… Немцы для меня невозможны…» Именно этот Ницше был подхвачен, как знамя, тоже красное, но со свастикой вместо серпа и молота, теми самыми немцами, которые, по его мнению, портят воздух.
Напрасно Ницше считал немецкую нацию безучастной, с завидным аппетитом, поглощающей всякие гасящие порыв противоположности – веру с наукой, «христианскую любовь» вместе с антисемитизмом, «волю к власти» вместе с Евангелием. Наоборот, это оказалось дьявольской смесью, которая взорвала мир и унесла десятки миллионов жизней.
Ницше хорошо знал цену немецкой Истории. В ней, говорил Ницше, «немецкое» есть аргумент, «Дойчланд юбер алес» есть принцип, германцы суть «нравственный миропорядок» в истории… Существует имперская немецкая историография, я боюсь, что существует даже антисемитская…»
Ходики отбивали время шестидесятых, приближая очередной взрыв ненависти к евреям, разразившийся Шестидневной войной, а на моем столике лежал Ницше, совсем не тот, каким я его представлял себе до чтения его книг, но все еще запретный, опасный, хранящийся в спецхранах или добываемый пиратским способом на черном книжном рынке.
Ницше, уверенный в том, что станет властителем дум ХХ-го века, должен был перевернуться в гробу, увидев себя в повелителе мух, оказавшихся более ядовитыми, чем мухи цеце, и принесших одну только смерть. Эти мухи сами не слезали с сахара, блюли свои интересы, и не колыхали их миллионные жертвы, рядом с которыми жертвоприношения древних выглядели детской забавой.
Ницше страдал острой неврастенией, но не переставал говорить о своем духовном здоровье и умственной ясности: «Среди пытки трехдневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся мучительной рвотой со слизью, я обладал ясностью диалектика…» Но диалектику он ненавидел, считая ее симптомом декаданса. А его так и обзывали – «декадент», то есть – упадочный. Или припадочный?
По сути же, Ницше был абсолютно одинок, подобно «вечному жиду».
В молодости он боготворил Рихарда Вагнера с той же силой, с которой возненавидел его на склоне жизни. История взаимоотношений этих двух людей представляет собой удивительную драму, осью которой является обсуждаемая нами тема – евреи и немцы.
Вагнер, о котором речь пойдет в следующей части, став клятвенным антисемитом, громил евреев за «гешефтмахерство», но, по сути, сам превратил свой Байрейтский театр в доходное место. И это был плевок в лицо Ницше, в молодости посвятившему композитору восторженный панегирик «Рождение трагедии из духа музыки».
И в своей книге «Казус Вагнер» Ницше не пожалел присущей ему желчи до того, что пытался «объяснить» антисемитизм Вагнера его якобы скрытыми еврейскими корнями. Дело в том, что отчимом Вагнера (а по некоторым сплетням любовником его матери и вполне вероятно – отцом Вагнера) был актер Людвиг Гейер (по-немецки – коршун). Фамилия «Адлер» (орел) была весьма распространена среди евреев Германии. Ницше пишет: «Был ли Вагнер вообще немцем? Есть некоторые основания для такого вопроса. Трудно найти в нем какую-нибудь немецкую черту… Его натура даже противоречит тому, что до сих пор считалось немецким – не говоря уже о музыке! – Его отец был актер по фамилии Гейер. Гейер – это уже почти Адлер… Признаюсь в своем недоверии ко всему, что засвидетельствовано только самим Вагнером. У него не хватало гордости для какой-либо правды о себе. Он и в биографии… остался актером». Последний намек весьма прозрачен: это Вагнер считал евреев лживыми и хитрыми актерами, жаждущими перерядится в немцев.
Ницше очень точно угадал, кем Вагнер станет для немецких националистов, тех самых лавочников и мясников, той самой черни, раздувавшей грудь помпезностью вагнеровских шествий с барабанами и флейтами. Для Вагнера, по Ницше, нужна «дрессировка, автоматизм, «самоотречение». Ни вкуса, ни голоса, ни дарования: сцене Вагнера нужно только одно – германцы (подчеркнуто Ницше)…Определение германца: послушание и длинные ноги… Полно глубокого значения то, что появление и возвышение Вагнера совпадает во времени с возникновением «империи»… Никогда лучше не повиновались, никогда лучше не повелевали. Вагнеровские капельмейстеры в особенности достойны того века, который потомство назовет… классическим веком войны».
Примером, насколько Ницше был использован нацистами, буквально перевернувшими его с ног на голову, могут служить его три требования к театру: чтобы театр не становился господином над искусствами; чтобы актер не становился соблазнителем подлинных; чтобы музыка не становилась искусством лгать.
И я со страхом и трепетом, держась за руку отца, в раннем детстве, слежу из толпы за таким шествием румынских фашистов, «железногвардейцев», в голубых робах и колпаках, с барабанами и флейтами. Они шагают по центральной улице нашего провинциального городка, и высоко над улицей, на столбе, висит огромная тоже голубая свастика, которая в ночи вспыхивает гирляндой лампочек.
И я именно так спрашиваю отца: «Кто мы такие, эти евреи?» – мгновенно и уже на всю жизнь вовлекаясь всем своим существом в метафизическое напряжение от ожидания ответа.







