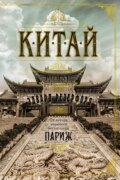Эдвард Резерфорд
Дублин
– Бегство графов, – протяжно произнес Дойл, – означает конец эпохи.
– Пусть Бог дарует им лучшую судьбу. – Уолш поднял бокал с вином.
– За это я выпью, – кивнул Дойл.
И юный Орландо, молча наблюдавший, понял, что каким-то непонятным образом мир, в котором он жил, изменился навсегда.
На следующее утро, после отъезда Дойла, отец позвал Орландо.
– Ты идешь со мной, – сказал он, а когда Орландо спросил, куда именно, ответил: – В Портмарнок.
Маленькая прибрежная деревушка Портмарнок лежала у дороги, шедшей через пески и дюны на юг, и частично проходила по краю древней Долины Птичьих Стай. Орландо предположил, что нужно оседлать пони, однако отец сказал ему:
– Нет, мы пойдем пешком.
Дул легкий ветер. По небу скользили облака, и небо становилось то серым, то голубым. Орландо с довольным видом шагал рядом с отцом, время от времени обмениваясь с ним несколькими словами; они шли на восток, к Портмарноку. Дойдя до края своей земли, они миновали маленькую заброшенную часовню, в которой Орландо ожидал Патрика Смита.
– Просто стыд, что наше собственное правительство запрещает нам ее использовать, – заметил Уолш.
Они шли дальше, и теперь вокруг видны были свидетельства средневекового заселения этих мест старыми англичанами: поля пшеницы и овса; высокие темные живые изгороди; каменные стены; тут и там стояли каменные церкви или небольшие укрепленные дома. Но вскоре они добрались до менее ухоженных территорий, где пасся скот. Открытая пустошь мягко уходила вниз, к морю, и это напоминало о тех давних временах, когда предок Дойла, Харольд Викинг, и другие вроде него создали свои фермы в долине Фингала.
Однако цель отца и сына, до которой они добрались меньше чем за час, была старше всего этого. Она стояла в одиночестве, в стороне даже от рыбацких хижин.
– Твой брат не одобряет это место, – с легкой гримасой заметил Уолш. – И не одобрил бы то, что я сюда иду.
Орландо впервые услышал от отца некий намек на трения между ним и Лоуренсом.
– Но я все равно прихожу сюда время от времени.
Посмотреть здесь было, в общем-то, не на что. Частенько, направляясь к берегу, Орландо проходил мимо этого места, правда оставаясь примерно в четверти мили от него. Просто какой-то старый колодец, окруженный невысокой каменной стенкой. В свое время над ним построили коническую крышу, но она давно развалилась, поскольку за ней никто не присматривал. Колодец был довольно глубоким, но, наклонившись через его край, Орландо рассмотрел слабый мягкий блеск воды далеко внизу. Колодец возле их дома был почти таким же глубоким, но никогда не казался Орландо особо интересным, а вот этот колодец был совсем другим. Орландо не знал почему. Возможно, потому, что он находился в относительно уединенном и пустом месте, однако в его воде было что-то странное и загадочное. Но что? Может, это был мерцающий вход в другой мир?
– Это колодец Святого Марнока, – тихо произнес отец рядом с Орландо. – Твой брат Лоуренс утверждает, что когда-то он был языческим местом. До прихода святого Патрика, это точно. Лоуренс говорит, что такие вещи – всего лишь суеверия, недостойные веры. – Уолш вздохнул. – Может, он и прав. Но мне нравятся древние времена, Орландо. Я прихожу сюда как простой крестьянин, чтобы помолиться святому Марноку, когда у меня неприятности.
Святой Марнок. Один из десятков местных святых, почти забытых всеми, кроме здешних жителей, хотя иногда у них имелся свой день и источник или священное место, где их можно было вспомнить.
– Мне тоже нравятся давние времена, – сказал Орландо.
Он и вправду так чувствовал, тем более что это сближало его с отцом.
– Тогда ты можешь помолиться за свою сестру и попросить святого наставить ее на ум.
Подойдя к колодцу, Уолш опустился на колени и какое-то время молча молился. Орландо, также вставший на колени, ждал, пока не встанет отец, но как только Уолш поднялся, Орландо подошел к нему поближе, и, к удивлению мальчика, отец обнял его за плечи:
– Орландо, можешь мне пообещать кое-что?
– Да, отец.
– Обещай, что однажды ты женишься и обзаведешься детьми, что подаришь мне внуков.
– Да, отец. Обещаю. Если такова будет Божья воля.
– Будем надеяться на это, сын мой. – Он немного помолчал. – Поклянись мне здесь, у этого колодца, перед святым Марноком.
– Клянусь, отец. Перед святым Марноком.
– Хорошо. – Уолш кивнул самому себе, а потом, посмотрев на сына, улыбнулся. – Это хорошо, что ты поклялся. И мне бы хотелось, чтобы ты навсегда запомнил этот день, когда твой отец привел тебя к священному источнику Святого Марнока. Запомнишь этот день, Орландо?
– Да, отец.
– На всю жизнь. Идем.
И, продолжая обнимать сына за плечи, Уолш повел его по длинной тропе через дюны, на широкий песчаный берег. Как раз был отлив, и песок далеко ушел в море, мягко сверкавшее на солнце.
Справа от них берег уходил светлой полосой к Бен-Хоуту, чей горб высоко поднимался из воды. Перед ним приютился маленький островок Ирландс-Ай, как стоящий на якоре корабль. А вдали в другой стороне, в дымке северного горизонта, словно спали синие горы Морн, охранявшие Ульстер.
Орландо поднял голову и посмотрел на отца. Взгляд Мартина Уолша устремился в море, Уолш явно затерялся в собственных мыслях. Орландо опустил глаза на разбитую раковину, лежавшую у его ног. Облако прикрыло солнце, море погасло.
– Конец эпохи, Орландо… – Голос отца был едва слышен. Потом мальчик почувствовал, как пальцы отца слегка сжали его плечо. – Помни свое обещание.
В начале следующего года в Бордо стоял сырой, ветреный день. Именно в этот день Энн Уолш получила письмо от своего отца.
Моя дорогая дочь!
Ты должна подготовиться, потому что у меня самая печальная весть для тебя. Две недели назад Патрик Смит сел на торговый корабль в Корке, куда он прибыл неделей раньше. В то утро, когда они отплыли, погода была хорошей. Но ближе к вечеру поднялся сильный шторм, и он пригнал корабль назад к ирландскому побережью и выбросил на скалы. И к моему великому огорчению, должен тебе сообщить, что в этом крушении погибли все, кто был на борту.
Я знаю, моя дорогая Энн, как это печально должно быть для тебя, и могу только горевать вместе с тобой и повторять тебе, что всегда думаю о тебе.
Твой любящий отец
Значит, все кончено. Ее любовь потеряна навсегда, без надежды на возвращение. Энн разрыдалась и плакала подряд несколько часов.
Но после первого всплеска горя пришел гнев. Не на отца, ведь не он это сделал, а на Лоуренса. Это он, с горечью думала Энн, это Лоуренс своим вмешательством и хитростью, своей самоуверенной убежденностью убил Патрика. Если бы не Лоуренс, Патрик ни за что не уехал бы, никогда не очутился бы в Корке, не утонул бы. И, забыв о слезах, в приступе боли и ярости, Энн прокляла своего брата и пожелала ему самому оказаться на месте Патрика и умереть.
Потом Энн бесцельно уставилась в окно, за которым лил дождь, и долго смотрела на стекавшие по стеклу капли и на серую мглу за ними, чувствуя бесконечное опустошение. Ей теперь было все равно, что будет с ней дальше.
1614 год
Тадх О’Бирн всех обошел. Он это знал, потому что наблюдал.
– Очень много пили на этих поминках, – сообщил он жене. – Но я всех обошел. Я был первым. У меня голова такая – крепче крепкого.
– Верно, – согласилась жена. – Такая.
– Я гора! – провозгласил Тадх, хотя и ростом, и физической силой он не догонял большинство мужчин.
Его звали Тадх, или Тадк, как чаще писалось; самое обычное имя. Англичане частенько переделывали его в Тига, да и то произносили скорее как «Тайг».
– Было несколько Тадхов О’Бирнов, – говаривал он иногда. – Могущественные вожди!
И они действительно были такими. Проблема состояла в том, что сам Тадх вождем не был. А должен был быть, по крайней мере по его собственному мнению. Именно он.
А не Бриан О’Бирн.
Шестьдесят лет прошло с тех пор, как умер Шон О’Бирн из Ратконана, и ему наследовал его сын Шеймус. Однако когда дело дошло до избрания наследника Шеймуса, то его старший сын, по общему мнению собственной семьи и всех значительных людей в округе, был признан никудышным. И выбор клана пал на третьего из четверых сыновей Шеймуса, прекрасного парня, который тогда по ирландским законам и обычаям перебрался в Ратконан и представлял клан, когда то было необходимо. Бриан О’Бирн был внуком этого отличного парня. А Тадх О’Бирн – внуком никудышного.
Поминки были по отцу Бриана. Люди собрались не только из этой части гор Уиклоу, но и издалека: О’Тулы, О’Моры, Макмурхады и О’Келли. И конечно, О’Бирны: О’Бирны из Даунса, О’Бирны из Килтимона, О’Бирны из Баллинакора и Кнокраха; О’Бирны со всех частей гор Уиклоу. Все явились отдать последнюю дань уважения Тоирдхилбхаку О’Бирну из Ратконана и приветствовать его красивого молодого сына Бриана, наследника. И почти никто из них не обратил никакого внимания на Тадха О’Бирна, который, по общему мнению, был ничем.
– Ты только посмотри на это! – Тадх с такой горечью сосредоточился на молодом Бриане О’Бирне, что и знать не знал, слушает ли его жена. Да ему и все равно было. – Это же просто мальчишка! – насмехался он. – Мальчишка, который забрался в отцовскую кровать!
Пусть Бриану О’Бирну было всего двадцать лет, пусть он был высок, светловолос и красив, Тадх все равно гордился своей внешностью. Ему уже стукнуло тридцать четыре. Его темные волосы падали кольцами на плечи в традиционной ирландской манере. Для сегодняшнего случая он сменил обычную оранжевую льняную рубашку на белую, подпоясанную на талии, и набросил на плечи светлый шерстяной плащ. Многие мужчины были в темных камзолах из уважения к случаю, но Тадх никогда не имел камзола. И на большинстве мужчин были узкие штаны или шерстяные чулки, но, поскольку день был теплым, Тадх остался с голыми ногами, обувшись только в тяжелые броги – башмаки из недубленой кожи. Он вполне мог быть пастухом или рабочим.
А перед ним был его молодой кузен, юный вождь, наследник Ратконана, который должен был принадлежать Тадху: молодой Бриан со светлыми, коротко подстриженными волосами, в черном дублете, украшенном вышивкой, в коротких штанах, в шелковых чулках и отличных кожаных ботинках. Он даже носил золотое кольцо. И все это заставило его родственника Тадха сплюнуть и пробормотать:
– Англичанин. Предатель.
Но это было неверно. Такую одежду могли носить джентльмены во многих частях Европы, включая и жителей главной надежды коренных ирландцев, самого католического из всех королевств – Испании. И кое-кто из богатых и наиболее важных ирландских джентльменов на этих похоронах были одеты так же. Но трудно было сказать, выбрали они такой наряд, потому что это была общая мода Англии, Франции или Испании или потому что хотели выглядеть более убедительно в глазах английской администрации Дублина. Правда, английские чиновники вовсе не считали, что модная одежда в английском стиле должна гарантировать дружелюбие по отношению к английской короне. «Некоторые из этих чертовых ирландских бунтовщиков во времена королевы Елизаветы даже в Оксфорде учились!» – с отвращением вспоминали они.
Но Тадху не было дела до всех этих тонкостей.
– Англичанин, – шипел он.
И на уме у него была только одна мысль: «Настанет день, когда я свергну его».
Собрание было выдающимся. Молодой Бриан чувствовал вполне позволительную гордость: такое множество важных людей приехали издалека не только для того, чтобы отдать дань уважения его отцу, они явно испытывали к нему, Бриану, самые добрые чувства. И Бриан, в свою очередь, любил всех их.
А более всего он любил Ратконан. Ратконан практически не изменился со времен его прадеда Шона, а прошло уже сто лет: скромный укрепленный дом с квадратной каменной башней, не в лучшем состоянии. Дом смотрел со склонов гор Уиклоу на далекую голубую дымку моря. И фермерские домики по соседству были такими же, и маленькая церковь, где в дни Шона О’Бирна служил мессы отец Донал. И даже потомки отца Донала там до сих пор остались. И один из них стал священником, хотя, в отличие от отца Донала, не был женат и не имел детей, потому что теперь лишь немногие священники жили так, как было принято в старой Ирландии. А его брат стал ученым и поэтом и весьма успешно учил детей окрестных жителей, что давало ему средства к существовании. У него были дети, количество которых никто точно не знал. Священник и ученый, скотоводы и пастухи, обитатели Ратконана и их соседи – таков был маленький мирок, который Бриан О’Бирн, учившийся у священника, одевавшийся у дублинского портного и получавший наставления мудрого и любящего отца, должен был унаследовать и которым гордился.
Он гордился и тем, что был О’Бирном. Вместе с О’Тулами этот клан был наиболее известным в горах Уиклоу, однако вы не могли бы показать на любого из них и с уверенностью сказать: «Вот этот точно О’Бирн». Одни были темноволосыми, другие светлыми, одни высокими, другие коротышками. Шесть веков перекрестных браков даже в одном регионе обычно создает множество типов внешности. Не могли вы с уверенностью сказать и того, каких политических взглядов они придерживаются. В основном к концу долгого правления Елизаветы О’Бирны из северной части гор Уиклоу, поближе к Дублину, начали сотрудничать с английскими властями, хотели они того или нет, однако никто из них не зашел так далеко, чтобы стать протестантом. Но за южными перевалами гор сильные вожди клана О’Бирн сохраняли независимость. Когда граф Тиронский нанес удар по английской короне, именно один из южных О’Бирнов был его самым важным союзником.
– Это именно О’Бирн договорился с испанским королем. Это он начал ту кампанию за дело католической веры, – гордо говорил Бриану его отец.
– Но ты ведь не одобряешь действий Тирона, – напоминал ему Бриан.
Да, О’Бирны из Ратконана вместе с северными О’Бирнами держались в стороне от того конфликта.
– Это так, – с некоторым сожалением согласился отец. – Но все равно это было здорово!
Отец Бриана был духовным вождем всего региона в течение двух очень тяжелых десятилетий. Высокий, храбрый, красивый, древний ирландский принц до кончиков пальцев. Никто не смог бы усомниться в том, чему и кому принадлежит его сердце. Но он был осторожен и мудр. Когда великая авантюра Тирона рухнула, он горевал, но не удивлялся. В 1606 году, за год до Бегства графов, огромная дикая горная часть страны была наконец преобразована в английское графство – последняя часть Ирландии, которую, несмотря на ее близость к Дублину, с трудом удалось привести под английское правление. Правда, высоко в горах и на пустынных перевалах об этом трудно было догадаться. И тем не менее, хотя бы теоретически, ирландской независимости в горных краях пришел конец. Но и к этому отец Бриана отнесся философски.
– Во времена прошлых поколений мы устраивали набеги на английские фермы на равнине. А они посылали в горы солдат, и иногда их удавалось загнать в ловушку и перебить, а иногда они побеждали нас. Но те дни миновали. Есть и другие, лучшие пути и способы жить. – Так он говорил своим соседям. А Бриану нередко повторял: – Если ты хочешь сохранить Ратконан и все то, что любишь, то должен быть мудрым. Подыгрывай англичанам. Учись меняться.
– Но как именно меняться, отец? Что это за перемены?
– Не знаю, – честно ответил ему отец. – Ты должен быть мудрым в соответствии со своим временем. Это все, что я могу посоветовать.
И теперь, слишком скоро, началось время Бриана. Его отец вовсе не был стар, но его более года терзала болезнь, и к концу он совсем ослабел и готов был уйти.
Похороны начались уже довольно давно. Тело было уложено по всем правилам. Причитали плакальщицы. Но большинство гостей прощались с вождем тихо. Еды и напитков было вдоволь. Тихо рыдала волынка, но вскоре должна была зазвучать более бодрая музыка. Почти все приехавшие уже выразили свои соболезнования Бриану. Теперь он сам ходил между ними, убеждаясь, что все правила гостеприимства и вежливости выполняются. Он даже заметил Тадха О’Бирна, который хмурился и что-то бормотал. Бриан предпочел бы держаться подальше от этого человека, но полагал, что обязан подойти к нему. И он как раз собирался с силами, чтобы исполнить долг гостеприимства, когда, посмотрев на склон горы, вдруг заметил незнакомца, которого никогда прежде не видел. Тот медленно ехал по дороге к дому.
Это был высокий худой мужчина в черной одежде, даже его высокая шляпа без пера была черной. За ним ехал слуга, одетый в серое. И хотя дорога была освещена солнцем, казалось, что на горные перевалы упало небольшое мрачное облачко.
Бриан гадал, кто это мог быть.
Доктор Симеон Пинчер пребывал в дурном настроении, когда встретился с Дойлом. Но удивляться тому не приходилось. Доктор Пинчер пребывал в дурном настроении уже год.
В Ирландии, как и в Англии, парламент собирался нерегулярно, а лишь время от времени, когда нужно было решить какой-то особый вопрос. Однако в прошлом году парламент в Дублине был созван, и это было весьма впечатляющее собрание. Если прежние парламенты, во времена Тюдора и Плантагенета, состояли в основном из джентльменов из английского Пейла вокруг Дублина, то в этом были представители всех частей острова.
Поначалу возникли сложности. Старые англичане, в основном католики, угрожали, что не станут принимать в этом участия, но наконец взялись за ум и за дело, и Пинчеру казалось, что они движутся в правильном направлении. Было подтверждено, что все государственные служащие должны приносить клятву верности. Они должны поклясться, что признают духовное верховенство короля над папой римским, или в противном случае потеряют работу. Дальше речь зашла о том, что и всех юристов необходимо заставить дать клятву. Но это должно было лишить практики верных католиков вроде Мартина Уолша, и от идеи отказались. Упорные католики, которые упорно отстаивали свою веру, должны были платить штрафы, хотя, как ни грустно, парламент не был готов приказать им признать Ирландскую церковь.
– Но я их заставлю! – решительно заявил Пинчер.
И были немедленно выпущены прокламации против иностранного образования и против католических священников. И все же доктор полагал, что, несмотря на свои ошибки, парламент в целом шел в верную сторону. И главным тут было соотношение сил.
Потому что протестантов насчитывалось больше, чем католиков. Сто тридцать два на сотню. И лишь немногие из католиков являлись коренными жителями, ирландскими лордами, в основном это были старые англичане. Но вот кем были протестанты? Была ли это старая гвардия, избравшая Ирландскую церковь, люди вроде лорда Хоута или Дойла из Дублина? Ну, некоторые из них – да. Но в основном люди, пополнявшие число протестантов, люди, которые могли изменить многое в будущем, были новичками на острове: жители колоний. И это, как ни странно, как раз и злило Пинчера. Нет, он злился не на колонистов, ничего подобного. Он злился на себя.
«Это все недостаток веры, – признавался он в письме к сестре. – Храбрости не хватает».
Задуманная им покупка не удалась.
Сложности возникли из-за масштаба событий. Когда семь лет назад доктор Пинчер ездил в Ульстер, он увидел там возможность создания процветающей колонии. И потому, когда после Бегства графов и конфискации земель Тирона и Тирконеля зашла речь о колонии в Ульстере, доктор Пинчер не стал покупать ферму, которую мог купить в тот момент, в надежде на нечто лучшее. Однако в Ульстере и Коннахте стали доступны такие огромные пространства, что весь масштаб операций изменился. Вкладчики манипулировали другими цифрами. Лондон забрал всю область Дерри и переименовал ее в Лондондерри. И те, кто мог, захватывали не сотни, а десятки тысяч акров.
Да и внешний мир менялся. Дублин, который знали Уолш, Дойл и даже Пинчер, был городом конца Елизаветинской эпохи. Но в последнее десятилетие в Лондоне произошли перемены. Настал век дерзких торговцев-авантюристов. Король Яков, проведший скучную юность в Шотландии, предавался роскоши. Английский двор разложился; жадность и излишества стали лозунгом. Нахальные и алчные искали быстрой прибыли. И именно такими были те, кто завладел Ульстером.
Видя, что в Ульстер хлынули подобные крупные фигуры, Пинчер был вынужден отступить. Он твердил себе, что его долг – учить и проповедовать. Денег он накопил немного. И вообще, все это дело оказалось слишком трудным для него. Это был новый, чужой мир. Пинчеру хватило честности, чтобы признаться себе в том, что он побаивается этого мира. Он просто отошел подальше.
И вот теперь, видя, как все эти новые джентльмены из колоний приезжают в Дублин, он испытывал огромное чувство неудачи. Он, как один из тех глупых девственниц из евангельской притчи, оказался не готов и, когда наступил момент, не сумел оказаться в нужном месте. Лишь накануне один из молодых ученых из Тринити-колледжа подошел к доброму доктору, который сидел под деревом, углубясь в мысли. А поскольку подошел он сзади, доктор не заметил его приближения, и молодой ученый услышал, как Пинчер вполне отчетливо бормочет: «Предусмотренная выгода; оправданный возврат». Потом доктор грустно покачал головой; и молодой преподаватель, изумленный его словами, но чувствуя, что подошел не вовремя, тихонько удалился.
В общем, Симеон Пинчер признавал свою вину и был полон решимости ее исправить. А пока он искал к этому средства, его не покидало состояние сдержанного раздражения.
Однако в то утро, когда он разговаривал с Дойлом, доктор Пинчер был готов к некоему предприятию, которое, судя по всему тому, что он слышал, должно было, скорее всего, принести ему, и вполне надежно, тот доход, который уж точно ему полагался. И, соображая, как ему лучше спланировать необходимую поездку, он вошел во двор собора Христа и там заметил небольшую группу знакомых ему людей. Пинчеру пришло в голову, что один из них может быть ему полезен.
В первую очередь доктор поздоровался с Дойлом, вежливо склонив голову. Это был человек весьма состоятельный, опора Ирландской церкви, член гильдии Тринити. К тому же Пинчер был в некотором роде в долгу перед Дойлом.
В прошлое воскресенье Пинчер должен был читать проповедь в соборе Христа и знал, что, кроме его обычной паствы, там должны были присутствовать несколько членов парламента, протестантов. Для Пинчера это была хорошая возможность показать себя. Вот только тут была одна проблема.
Предполагалось, что члены городского совета должны по воскресеньям вместе с мэром приходить в собор. Но поскольку многие из них были папистами и до того уже успевали посетить мессу, то они, торжественно проводив мэра до собора и усадив его на место, преспокойно уходили на расположенный рядом постоялый двор и там пили, возвращаясь лишь к концу проповеди, чтобы проводить мэра обратно. Пинчера ужасало не только это бесцеремонное, чисто ирландское поведение. Он боялся, что то же самое произойдет и в тот день, когда проповедь будет читать он сам. Для остальных это могло выглядеть так, словно олдерменам скучно слушать доктора. Поэтому Пинчер заранее поговорил с Дойлом.
Пинчер иногда подозревал, что Дойл его недолюбливает. Но в прошлое воскресенье торговец встал на его сторону. Когда кое-кто из членов городского совета явно собрался уйти, Дойл так на них посмотрел, что они с неохотой снова опустились на скамьи. И даже не заснули, пока доктор Пинчер проповедовал. Так что Пинчер ему обязан. Без сомнений.
Рядом с Дойлом стоял молодой Уолтер Смит. Серьезный юноша. Жаль, что он папист. Из-за этого Пинчер обычно старался его не замечать, но помнил, что Уолтер Смит женат на дочери адвоката Уолша, а Уолш с Дойлом были двоюродными братьями. И потому из уважения к Дойлу Пинчер вежливо кивнул и Уолтеру Смиту.
Третьим в компании был Джереми Тайди. И ему доктор Пинчер улыбнулся:
– Добрый день, мастер Тайди.
– Добрый день, ваша честь.
За Тайди Пинчер благодарил Бога. Надежный человек. Три поколения Тайди служили в соборе Христа и признавали Ирландскую церковь. Джереми был рожден и воспитан для этого, он знал каждый дюйм здания собора, от просторного подвала до вершины башни. Ему было всего двадцать лет, когда его назначили церковным сторожем, благодаря заслугам его рода, а теперь ему было двадцать пять. Но из-за слегка сутулых плеч и остроконечной бородки Джереми выглядел намного старше, что нравилось его нанимателям.
Тайди присматривал за могилами и склепами, вместе с церковнослужителями подготавливал все для служб и звонил в большой колокол, который регулировал жизнь и самого собора, и города. И несмотря на весьма скромное жалованье, Тайди всегда был рад взять на себя лишнюю работу, чтобы угодить всем. Надежный. Уважаемый. И к Тринити-колледжу он относился с великим почтением.
– Это ведь семья моей матери, Макгоуэны, поставили все двери и окна в колледже, ваша честь, – напоминал он не раз доктору Пинчеру. – И до чего же это приятное место, сэр!
– Да, действительно, – соглашался Пинчер.
– Место, которое очень даже подходит прекрасным ученым из Кембриджа вроде вас, сэр.
Но что-то в мягком голосе церковного сторожа смущало Пинчера? Тайди ведь был таким вежливым, таким уважительным, таким вкрадчивым… Может быть, даже слишком уважительным? Доктор слегка нахмурился и неуверенно посмотрел на сторожа.
Люди из Кембриджа вроде него самого… Что подразумевал Тайди? Пинчер не мог понять. Может, и ничего. Но могло ли быть так, спрашивал себя ученый доктор, что сторож каким-то образом прослышал о той глупой истории в Кембридже? Но как? А тогда почему он упоминает о Кембридже при каждой их встрече? Нет, сказал себе Пинчер, такого не может быть. Это было давным-давно, в другой стране. И, кроме того…
Вообще-то, ведь именно Тайди как-то упомянул, что один церковный служащий слышал о некоем прекрасном жилище с многообещающим куском земли, которое должны были вскоре продать. И благодаря этой своевременной информации и встрече со служащим Пинчер теперь намеревался отправиться в новую поездку, на этот раз на юг, и это могло принести некоторый доход, которого он определенно заслуживал.
Когда Пинчер рассказал троим мужчинам о маршруте, которым он собирался ехать, и спросил совета насчет возможных остановок, Дойл, подумав немного, предположил:
– Думаю, вы могли бы остановиться в Ратконане, у О’Бирнов.
Услышав это имя, Пинчер побледнел. Папист? Ирландский вождь? Несмотря на многочисленные знакомства с разными О’Бирнами, несмотря на традиции ирландского гостеприимства по отношению к путникам, зародившиеся еще в незапамятные времена, несмотря на тот факт, что Уиклоу теперь находились под властью Англии, доктор Пинчер слышал слишком много историй о дикости О’Бирнов в прошлом, что поневоле занервничал при мысли о подобной встрече. Но он увидел, как молодой Уолтер Смит согласно кивнул, и даже Тайди выглядел абсолютно безмятежным. А Дойл улыбнулся.
– Вас там прекрасно встретят, – заверил он Пинчера. – О’Бирны в Ратконане живут вполне по-английски.
А Тайди, без сомнения, для того, чтобы успокоить доктора, добавил:
– Они там очень уважают ученых из Кембриджа вроде вас, ваша честь.
И вот он подъезжал к дому в Ратконане, и увиденная им картина наполнила его ужасом.
Ирландские похороны… Конечно, Дойл просто не знал, что в семье О’Бирн кто-то умер, когда предлагал сюда заехать, и Пинчер гадал, что же ему теперь делать. Нужно ли попытаться найти другой дом? К югу отсюда лежали руины древнего монастыря Глендалох. Наверное, он мог бы добраться туда к сумеркам. Но есть ли там подходящее для ночлега место? Доктор не был в этом уверен. У него уж точно не было желания ночевать в какой-нибудь крестьянской хижине, а то и вообще под открытым небом в диких горах Уиклоу. Нужно ему сразу повернуть обратно или лучше сначала спросить, как добраться до какого-нибудь другого места? Доктор еще колебался, когда увидел красивого светловолосого молодого человека, одетого на английский лад; тот шел навстречу Пинчеру.
– Я Бриан О’Бирн, – вежливо представился он, и Пинчер, глядя на него, увидел пару совершенно необыкновенных зеленых глаз.
Объяснив свое дело и то, что его прислал Дойл, Пинчер извинился за вторжение.
– Дойл просто не мог знать о смерти моего отца, когда посылал вас сюда, – ответил молодой человек.
– Простите, что побеспокоил вас, – произнес Пинчер.
Не знает ли О’Бирн, где тут можно найти ночлег? Но молодой Бриан и слушать ничего не хотел:
– У нас наверху есть спальня, где вы можете провести ночь вполне удобно… хотя я не могу обещать вам тишину.
И вот, просто не зная, куда еще можно поехать, и не желая оскорбить молодого вождя, Пинчер весьма неохотно позволил отвести себя в старую каменную башню.
Перед домом собралась огромная толпа, несколько сотен человек. Прямо под открытым небом стояли столы, заваленные едой и сластями. Некоторые гости пили вино, но большинство, похоже, предпочитали крепкий эль либо виски. Оставив слугу присматривать за лошадьми и надеясь, что парень не напьется к тому времени, когда будет нужен, Пинчер вместе с Брианом О’Бирном вошел в дом. Он отлично знал, к чему следует подготовиться, когда хозяин повел его к комнате в глубине нижнего этажа башни. Там, на большом столе, покрытом белыми простынями, лежало тело Тоирдхилбхака О’Бирна, побритого и обмытого. Даже в смерти было видно, что это красивый человек; в его сложенных руках доктор увидел распятие. Больше в комнате никого не было, все остальные уже давно отдали дань уважения, и здесь осталась только женщина средних лет, кузина покойного. Она сидела на табурете в углу, чтобы покойный не был в одиночестве. Комната хорошо освещалась целой рощицей свечек на узком столике у стены, и их восковой аромат создавал в помещении атмосферу, напоминавшую церковь.
Стараясь не смотреть на проклятые четки и распятие, Пинчер пробормотал то, что, как он знал, должен был сказать: все прекрасно организовано, но сам он, к сожалению, не был знаком с вождем, а потому приносит извинения за беспокойство.
После этого доктор вежливо попятился из комнаты и поднялся за молодым хозяином по винтовой лестнице в просторную комнату, где стояла деревянная кровать, не хуже его собственной в Дублине. Немного погодя Бриан О’Бирн вернулся, лично принеся еды и вина, а поскольку поминки продолжались, то с его стороны это было более чем любезно и цивилизованно. Пинчер вынужден был это признать. Хозяин также дал понять: если путник пожелает присоединиться к гостям внизу, ему будут более чем рады. Предложение было сделано из самых добрых побуждений; и конечно, оно было вежливо отклонено. Так что остаток вечера доктор Пинчер, предназначенный для куда более высоких вещей, чем компания каких-то ирландцев, провел в комнате.
Если бы еще не шум… Традиционные причитания женщин, дикарские жалобные песни и возгласы горя… Все это доктор всегда находил отвратительным.