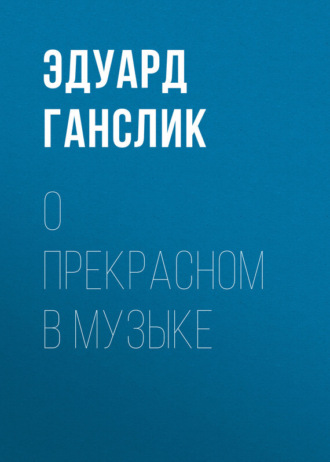
Эдуард Ганслик
О прекрасном в музыке
О новейших композициях, в которых от времени до времени ритм прерывается загадочными вставками, усиленными контрастами, с похвалой отзываются, «что они стремятся сломать узкия рамки музыки и возвыситься до человеческой речи». Нам такая похвала кажется весьма двусмысленной. Границы музыки совсем не узки, но резко проведены, и она никогда не может «возвыситься» до человеческой речи.
Это забывают часто наши певцы, когда, в минуты сильнейшего аффекта, «говорят» слова и даже целые фразы, воображая, что они этим возвышают музыку. Они не видят того, что переход от пения к говору есть всегда понижение, так как нормальный тон при разговоре всегда ниже, чем самые низкие ноты того же голосового органа при пении. Еще хуже, чем эти практические следствия, те теории, которые хотят заставить музыку следовать законам построения и развития речи. Эта попытка, сделанная Руссо и Рамо, в настоящее время повторяется учениками Рихарда Вагнера.
Музыкальная эстетика должна поэтому считать одной из своих важнейших задач – доказать основную разницу между сущностью ну зыки и речи и строго проводить принцип, что где идет дело об исключительно музыкальном, аналогии с речью не могут иметь места и применения.[3]
IV
Хотя мы определили, что задача музыкальной эстетики должна состоять в исследовании прекрасного, а не чувств, им возбуждаемых, но однако эти последние играют такую очевидную и важную роль в практической жизни, что мы не можем обойти их молчанием. Так как не чувство, а фантазия, как деятельность чистого созерцания, есть тот орган, для которого и посредством которого прежде всего создается все прекрасное, то и музыкальные произведения представляют независимые от наших чувств, исключительно эстетические создания, которые должны быть рассматриваемы наукою, как таковые, независимо от второстепенных условий происхождения и влияния.
В действительности, это самостоятельное художественное произведение является посредником между композитором и слушателем. В душевной жизни, художественная деятельность фантазии не может быть так выделена, изолирована, как в готовом произведении, лежащем у нас перед глазами. Там она находится в тесной связи с ощущениями и чувствами. Они будут, таким образом, иметь громадное значение и до и после создания художественного произведения, сначала в композиторе, потом в слушателе. Обратимся к композитору. Возвышенное настроение будет исполнять его во время работы. Примет ли окраску этого настроения будущее произведение и на сколько сильно его выразит – это зависит от индивидуальности сочинителя. Общие законы эстетики должны, конечно, удерживать в известных границах его порывы, чтобы одушевление не перешло в подавляющий аффект, который уже выходит за пределы эстетики. Что касается специально творчества композитора, то нужно помнить, что оно есть постоянное образование, созидание звуковых образов. Нигде господство чувства, которое так охотно приписывают музыке, не было бы так некстати как в композиторе во время творчества. На музыкальное произведение нельзя смотреть как на воодушевленную импровизацию. Шаг за шагом идущая работа, посредством которой музыкальная пиеса, в неясных образах носившаяся перед воображением художника, получает отделку и определенность, так трудна и сложна, как это едва ли будет понятно тому, кто не испробовал этого сам. Не только фугированные или контрапунктические места, в которых каждая нота размерена, но и самое беглое и легкое рондо, самая мелодичная ария требуют выработки и отделки до мелочей. Композитора можно сравнить со всяким другим художником – скульптором, живописцем. Подобно им, он должен выразить в чистых, свободных образах сознанный им идеал. Без внутреннего одушевления нельзя производить на свет ни великого, ни прекрасного. Чувством богато одарен всякий композитор, как и всякий поэт; но оно не есть творческая сила в нем. Положим, что сильная, определенная страсть наполняет художника; она будет побуждением ко многим музыкальным произведениям, но, как уже доказано, никогда их содержанием.
Мотивы, возникающие в фантазии, а не в чувстве художника, заставляют его приняться за работу. Редко характер композиции бывает результатом личных чувств художника, редко он изображает в музыке определенный аффект, и нас интересует самое произведение, его музыкальный характер, а неаффекты и чувства композитора.
Мы видели, что деятельность композитора состоит в созидании образов; поэтому она вполне объективна. Бесконечно мягкий, гибкий материал звуков допускает, чтобы субъективность художника выразилась в самых приемах творчества. Так как характеристическое выражение свойственно уже отдельным элементам, то отличительные черты автора, как-то: сентиментальность, энергия, изящество, будут выражаться постоянным предпочтением известных тонов, ритмов, переходов и т. д. С точки зрения принципа, субъективный момент останется всегда подчиненным и выступит только в различной степени, по отношению к объективному, смотря по различию индивидуальности. Сравните преимущественно субъективные натуры, которые стремились к выражению своего внутреннего состояния (Бетговен, Шпор) с объективно-создающими (Моцарт, Глюк). Их произведения отличаются несомненными особенностями, и все вместе отражают в себе индивидуальность своих творцов и однако все, как те, так и другие созданы, как самостоятельно прекрасное, ради их самих, и только в этих эстетических границах носят субъективную окраску.
Хотя индивидуальность композитора отражается на его созданиях, но было бы ошибочно выводить отсюда понятия, которые могут основываться только на объективных отношениях. Сюда принадлежит понятие стиля.
С чисто музыкальной стороны, стиль можно определить как «совершенная техника, которая привычно употребляется для выражения художественной мысли». Художник обладает стилем, если он, воплощая ясносознанную идею, во всех технических частностях сохраняет художественную выдержку и отбрасывает все мелочное, неподходящее, тривиальное. Мы хотели бы вместе с Фишером (Aesthet. § 527) употреблять слово «стиль» и в музыке и, не входя в исторические или индивидуальные подразделения, говорить: «у этого композитора есть стиль», точно также, как говорят: «у него есть характер».
Архитектоническая сторона музыкально-прекрасного выступает, при вопросе о стиле, на первый план. Стиль известной пиесы может быть испорчен одним каким-нибудь тактом, который, будучи безупречен сам по себе, не соответствует характеру целого. Негели (Nägeli) сделал много верных замечаний, указывая на ошибки стиля в некоторых инструментальных произведениях Моцарта, исходя при этом не из характера композитора, а из чисто музыкальных соображений.
Более полная возможность непосредственной передачи чувств звуками является при исполнении музыкальных произведений. С философской точки зрения, раз созданная пиеса уже есть готовое художественное произведение, независимо от её исполнения; но это не может нам препятствовать разделять музыку на творчество и воспроизведение везде, где это может способствовать объяснению какого либо явления. особенно важно такое различие для исследования субъективных впечатлений, производимых музыкой.
Исполнителю представляется возможность, посредством своего инструмента, выразить чувство, наполняющее его в данную минуту, и вложить в свою игру выражение жгучей страсти, волнения, могучей силы и радости. Дрожание пальцев, ударяющих струны, или звуки голоса могут уже выразить личное настроение музыканта. Субъективность переходит здесь в звуки звуча, а не передается их сочетаниями или звуковыми образами. Композитор работает медленно, с перерывами, – исполнитель играет сразу целую пиесу; работа первого остается навсегда, последний действует только в данную минуту. Таким образом, выражающий и возбуждающий чувства момент музыки заключается в акте воспроизведения. Конечно, исполнитель может дать только то, что заключает в себе композиция, а это требует немного более, чем правильной передачи нот. Говорят: «исполнитель угадывает и передает мысль композитора» – хорошо, но это усвоение мысли в моменте воспроизведения – уже дело его, исполнителя. Исполнение одной и той же пиесы наскучивает или восхищает, смотря по тому, на сколько оно дает жизнь звуковым образам. Самые лучшие часы с музыкой не растрогают слушателя, а это может сделать самый простой музыкант, если он влагает душу в свою игру.
До высочайшей непосредственности достигает, наконец, выражении душевного состояния в пиесе, где творчество и исполнение соединяются в одном акте. Это – импровизация. Там, где она выступает не с чисто-художественной, а преимущественно с субъективной тенденцией (патологической, в высшем смысле слова), то выражение, которое музыкант влагает в звуки, может превратиться в настоящую речь. Тут выражается все: любовь и ревность, радость и страдание. Настроение музыканта сообщается и слушателю. Обратимся к этому последнему.
Мы замечаем на нем влияние музыки. Он настроен радостно или печально, он не только испытывает эстетическое наслаждение, а потрясен в глубине души. Существование такого влияния музыки не может подлежать сомнению и оно слишком известно, чтобы долго на нем останавливаться. Нужно только рассмотреть: в чем заключается специфический характер этого возбуждения чувств музыкой, его отличие от других душевных движений и сколько в этом действии эстетического…


