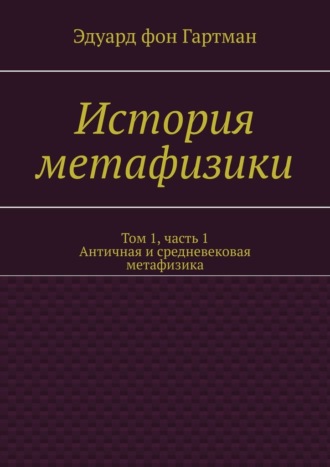
Эдуард фон Гартман
История метафизики. Том 1, часть 1. Античная и средневековая метафизика
Лейципп (ок. 495—405) либо преподавал только устно, либо его труды были включены в труды Демокрита, который, по-видимому, придал взглядам Лейциппа более точную физическую форму. Вместе с элеатами Лейципп отвергает реальное становление не только в смысле абсолютного возникновения и исчезновения и качественного изменения существующего (как это делал и Эмпедокл), но и в смысле перехода единого во многое или наоборот. Вместе с Парменидом он рассматривает полное, заполняющее пространство (материальное) как существующее, а его противоположность, пустоту, как несуществующее; но вместе с Гераклитом он отменяет примат элеатского существующего над несуществующим и утверждает, что Я (δέν) есть не что иное, как ничто (μηδέν). Уже пифагорейцы отождествляли пустоту с беспредельным и считали тела состоящими из сформированных частиц материи и пустых промежуточных пространств (пор); Левкипп объединяет это учение с учением Эмпедокла и называет сформированные части материального бытия формами или идеями (σχήματα или ίδέαι), которые он описывает как непористые или абсолютно полные и в то же время как неделимые или атомы. По Лейциппу, природа неразумна (φύσις ἂλογος), так что не может быть и речи о целенаправленности ее действий. Если Эмпедокл уже допускал возникновение всевозможных неуместных и неспособных форм посредством движений, следующих из любви и ненависти, до того, как за ними последовали постоянные организмы, то Левкипп превращает эти слепые импульсы любви и ненависти в столь же слепую необходимость, которая витает над атомами и вне их как судьба и поэтому предстает как нечто случайное по отношению к их внутреннему существу.
Демокрит, который, как предполагается, был на добрый век моложе своего учителя, теперь пытается объяснить явления природы из атомов и пустого пространства. Пустое пространство должно быть предположено потому, что полное не может содержать ничего, а отсутствие пустого пространства сделало бы невозможным движение. С другой стороны, при наличии большего или меньшего пустого пространства внутри тел становятся понятными разбавление и конденсация, впитывание (например, воды в порах пепла) и рост. Атомов бесконечно много, они несотворенны, беспричинны и нетленны, различаются по форме, размеру и весу, находятся в разных отношениях друг к другу по порядку (последовательности) и положению (относительному осевому вращению). Тяжесть атомов пропорциональна их размеру и в то же время является причиной движения, присущего атомам. При параллельном вертикальном падении атомов в бесконечность более крупные и тяжелые падают быстрее, чем более мелкие и легкие (согласно предположению древних), и поэтому частично сталкиваются с ними; косое столкновение более быстро падающих с более медленно падающими создает распространяющиеся вихри. Самые маленькие и круглые атомы – это атомы огня; подобными им являются атомы души, которые пронизывают все тела повсюду и постоянно поглощаются заново через дыхание. Качественные различия между атомами исключены, они существуют только для нас. Эманации вещей проникают в органы чувств и сталкиваются с атомами души, которые не отличаются от принципа познания; поэтому познание должно быть объяснено в чисто материалистических терминах. Бесчисленные миры существуют рядом друг с другом и рядом с нашим; бесчисленные живые существа рядом с человеком, которые превосходят его по размеру, форме и жизненной силе, но тем не менее чисто материальны, как и он, и поэтому также воспринимаются при определенных обстоятельствах (духи воздуха, демоны, боги народной веры). Блаженство – это не внешнее, а внутреннее, безмятежное спокойствие, атараксия, которая достигается благодаря умеренности. Мудрый человек уже чувствует себя гражданином мира. Во всем этом можно распознать основные черты того, что впоследствии изложил Эпикур.
Атомизм – это прежде всего дуализм существующего вещества и несуществующего пустого пространства; внутри существующего, однако, это онтологический плюрализм, и его многочисленные атомы имеют точно такие же детерминации, как если бы они были разрозненными фрагментами элеатического Единого. Возможность реального процесса и реальной множественности, таким образом, сохраняется, но натуралистический базовый характер элеатского Единого и гераклитовского процесса односторонне отметается за счет духовности и рациональности и низводится до материализма. Этот материализм произвольно различает неодушевленные атомы тела и одушевленные атомы души, через обитание которых тела одушевляются лишь косвенно; по отношению к первым он является чистым, по отношению ко вторым – гилозоистическим материализмом. Тем не менее, предполагается, что атомы тела и души различаются не качественно, а лишь количественно (размер, форма и т. д.), причем атомы души должны быть меньше и проще по форме, чем сходные с ними атомы тела. Объяснение движением основано исключительно на передаче движения при столкновении соприкасающихся атомов, при котором они, очевидно, должны предполагаться упругими; однако упругость немыслима в случае бесчастичных, равномерно заполненных атомов материи. Именно здесь терпит неудачу вся кинетическая атомистика, полагающая, что она может обойтись без сил. Тот факт, что кинетическая атомистика древних была неспособна объяснить возникновение процесса из-за предположения о параллельных направлениях падения (несмотря на ложное предположение о различных скоростях падения в пустом пространстве), не мог остаться скрытым даже от глаз современников. Поэтому Аристотель выбрал лучшую часть этого атомизма, прибегнув к концепции качественного изменения элементов.
Когда Анаксагор (500—428) писал свой трактат о природе, он был знаком не только с учением Эмпедокла, но и с атомизмом Лейциппа и соглашался с обоими в том, что материальные субстраты вечны и качественно неизменны, то есть что все творение и все изменения основаны исключительно на смешении и разделении основных веществ. Вместе с Лейциппом против Эмпедокла он допускает бесконечное число (а не только четыре) различных материальных составляющих; вместе с Эмпедоклом против Лейциппа он ищет различие конечных первичных субстанций в их качественной природе (а не только в количественной) и придерживается их бесконечной делимости. Вместе с Анаксимандром и Эмпедоклом он предполагает хаотическое первобытное состояние, то есть такое, в котором все первоматерии тесно перемешаны, и ищет мировой процесс в постепенном разделении разнородного и объединении однородного, при этом, с одной стороны, как и у Эмпедокла, остается неразделенный остаток, а с другой – материальная однородность ни в одной вещи не является полной. Напротив, в каждой вещи, несмотря на преобладание одной или нескольких конкретных первичных субстанций, все же присутствуют следы всех бесконечно многих первичных субстанций. Следует признать, что эти сходные элементарные первичные субстанции Анаксагора (названные им χρήματα, σπέρματα или ίδέαι, т. е. вещи, семена или идеи, позднее – другими гомеомериями) ближе к современным химическим элементам, чем к четырем элементам Эмпдокла.
Во всех этих определениях Анаксагор остается чистым физиком, как и в более подробной реализации своей космогонии, который не пытается ничего иного, кроме физических объяснений в соответствии с механическими принципами, даже если он отклоняется от своих предшественников в некоторых пунктах своих физических гипотез. Но не в этом заключается его влияние на дальнейшее развитие философии, а в установлении метафизического принципа наряду с физическим, и оно не уменьшается от того, что он сам еще не знает, как правильно использовать этот принцип, а фактически ограничивает его применение первоначальным импульсом для начала физического процесса разделения. Такой второй принцип в дополнение к субстанции кажется ему необходимым для того, чтобы придать частицам материи движение, которое они не могут получить сами от себя. То, что он определяет движущую причину как разумный дух (νούς), оправдано тем, что движение, порождающее такое прекрасное и целеустремленное целое, как мир, должно быть представлено как упорядоченное.
В противоположность ведению жизни в соответствии со слепыми инстинктивными аффектами симпатии и антипатии, эллинизм в его наиболее развитых племенах в V веке достиг более яркого самоопределения в соответствии с одухотворенными целями, и это также должно было повлиять на эллинское мировоззрение и привести к попытке отвести место духовной целеустремленности и в космогонии, для чего монотеистическая концентрация понятия Бога Ксенофаном уже подготовила путь. Анаксагор отвергает и судьбу, и случай, чтобы подчеркнуть далеко идущую (для которого у него все еще нет соответствующего слова «провидение»). Конечно, на этой примитивной стадии развития концепции не может быть и речи о личности Нуса. В той мере, в какой нус не имеет ничего общего с теизмом, его деятельность в мировом процессе не распознается или, по крайней мере, не обсуждается; она скорее ограничивается деистическим импульсом к разводу, а затем, по-видимому, уходит на покой, поскольку единовременный импульс продолжает оказывать распространяющее воздействие. Конечно, часть нуса также входит в мировой процесс, оживляет растения и животных, действует в человеке как распознающий принцип; но в той мере, в какой он входит в мир таким образом, он предстает как тончайшая и тончайшая субстанция среди более грубых, как несмешанная первосущность среди других первосуществ, которые просто смешаны в вещах, как распознающая субстанция среди распознаваемых субстанций. Короче говоря, само понятие нуса все еще колеблется между метафизическим и физическим принципом; намерение, очевидно, состоит в том, чтобы резко противопоставить его всем физическим субстанциям, но в своей реализации оно незаметно погружается обратно в физическую сферу, поскольку язык имеет в своем распоряжении только физические обозначения и память о традиционном физическом представлении о духе невольно вкрадывается снова и снова. Из-за этого и дуализм буксует; хотя он значительно строже, чем дуализм Эмпедокла, который все еще довольно туманен, он еще не стоит на твердой ноге. Для этого прежде всего необходимо реализовать телеологический подход, на который здесь еще не было сделано ни одной попытки, так что у Анаксагора нус действительно предстает как совершенно лишняя и бессмысленная гипотеза. —
С демократическим устройством суда и государства искусство слова приобрело небывалую ценность, ибо стало средством выгодно вести свои частные дела путем тяжбы и общественные дела путем убеждения. Искусство плебея, рабулизм, умеющий из худшего дела сделать лучшее, эристика, умеющая довести противника до абсурда, риторика, умеющая ослеплять и убеждать словесной пышностью, стали теперь самым мощным оружием корысти и как таковые получили особое развитие. Обучение им становится прибыльным делом, а тех, кто посвящает себя этому, называют учителями мудрости или софистами. Поскольку личная респектабельность также является условием успеха в жизни, они также рекомендуют мораль и добродетель. Понятие цели, которое Анаксагор установил, но еще не мог определить более точно, теперь получает свое самое близкое определение как субъективная индивидуальная цель в смысле пользы; господство над языком и мыслью ищется только как средство для пользы. Для искусства пропаганды важно не то, что истинно, правильно, хорошо и прекрасно, а то, что и как можно сделать так, чтобы это показалось людям в таком свете. Наиболее уверенно этим искусством могут заниматься те, кто не подвержен никакому влиянию веры в объективную и универсально действительную истину, право, добро и красоту; но просвещение освобождает нас от традиционной веры в такие вещи. Вот почему софисты стремятся к просвещению со всеми его преимуществами и недостатками; они скептически противостоят всем односторонним позициям и незыблемым принципам, разоблачают их в их относительности и стремятся диалектически их растворить. Тем самым они приобретают и непредусмотренное значение для прогресса метафизики; во-первых, они составляют отрицательный момент прежнего натурфилософского и метафизического догматизма и его детской самоуверенности, а во-вторых, они вводят греческую мысль в формальную тренировку, благодаря которой она впервые становится способной решать более высокие задачи. Умение принимать в рассуждении все точки зрения и рассматривать вопрос с самых разных сторон, ловкость в отыскании противоречий, заложенных в проблеме, резкое различение синонимичных терминов как подготовка к определению, направление внимания на субъективный фактор во всех наших суждениях и ценностных оценках, указание на относительность того, что считается абсолютно достоверным, – все это великие и непреходящие заслуги софистов, без которых Сократ и Платон не стали бы теми, кем они предстают перед нами. Разумеется, эти достоинства компенсируются и связанными с ними недостатками. Если первые софисты были еще лично уважаемыми и нравственными людьми, то односторонний акцент на субъективности и относительности мнений быстро привел к растворению всякой объективной истины и убежденности и чем дольше, тем больше вырождался в легкомыслие, моральную разнузданность и бесстыдную алчность. Теоретически концом может быть только чистый скептицизм или агностицизм.
К сожалению, мы очень мало знаем о софистах; того немногого, что мы знаем, достаточно, чтобы показать, насколько по-детски софистичны были образованные люди того времени и насколько необходима была формальная подготовка мысли для людей, как бы они ни умели мыслить, чтобы они могли успешно заниматься метафизикой. Протагор (ок. 480—410 гг.) выступал за субъективизм познания и учил, что «мера всех вещей – человек», в том смысле, что для каждого истинно, хорошо и т. д. только то, что кажется ему в данный момент. Другая сторона этого положения, а именно, что вещи не должны быть несоизмеримы с человеком, если он должен быть их мерой, и что поэтому мы можем в любом случае заключить, что вещи соизмеримы с нами, конечно, еще не рассматривалась им, так же как и новейшими субъективистами. Протагор лишь выводил следствия из того, что его предшественники (Гераклит, Зенон, Эмпедокл, Анаксагор) учили о ненадежности, субъективности и относительности чувственного познания, и был настолько наивным сенсуалистом, что считал чувственное познание познанием вообще. Он даже не вдавался в исследование логических рассуждений и понятийного знания в отличие от мнений людей и их морального знания, и именно в этом вопросе он был побежден Сократом. Протагор также скептически относился к вере в богов. Даже его современник Горгий переходит к следствиям принципиального агностицизма, который, однако, странным образом проявляется как негативный догматизм. Вместо того чтобы довольствоваться утверждением, что если что-то есть, то оно непознаваемо и любое знание о нем было бы непознаваемым, он предваряет его утверждением, что ничего на самом деле нет. Аргументация представляет собой образец диалектики, которая все еще находится в младенческом возрасте. Если Протагор подчеркивал субъективность истины, то Горгий подчеркивает отсутствие объективности всего, что считается истинным. Кульминацией первой стороны становится утверждение Эвтидема о том, что все истинно всегда и в то же время, второй – утверждение Ксениада о том, что все человеческие мнения ложны. Гиппиас выступал против веры в естественное право и учил, что все законы – продукт человеческого суждения. Продикос, учитель Сократа, внес особый вклад в синонимику и объявил смерть желательной для того, чтобы избежать пороков жизни. —
Сократ (470/69—399) использует диалектику, которую софисты применяли лишь в случайных целях конкретного человека, в интересах концептуально универсального человека, сохраняя тем самым антропологический и телеологический характер софистики, но возводя ее в сферу универсально человеческого, а значит, объективного. Он тоже чистый эвдемонист и полностью ставит теоретические интересы на службу практическим; однако его главной заботой является не индивидуальная эвдемония отдельного человека, а социальная эвдемония целого, то есть прежде всего его афинского государства. Он также смело ставит мысль и действие на самостоятельное место, независимо от всех традиций, и тем самым учит полной свободе мысли и совести; но, пренебрегая случайной единичностью индивида, которая для софистов является всем, ставя «человека» на место этого произвола или каждого человека, он становится положительным там, где те были отрицательными. Автономия его совести не вступает в противоречие с его родными обычаями и законами, но, опираясь на разум, она осознает себя субъективным разумом в согласии с объективным разумом последнего; ощущая себя представителем концептуально универсального человека, он упускает из виду возможные столкновения, которые могут произойти между индивидуальным благом и универсальным человеческим благом в людях разной природы. Из наивного уравнения этих двух начал вытекает его убеждение, что никто не может стремиться ни к какой другой цели, кроме своего собственного блага, т. е. истинного блага человека, т. е. блага или объективной цели, действительной для всех людей, что все дурное поведение возникает только от недостатка ясности относительно этого истинного блага, что всякое улучшение, образование и продвижение в добродетели можно ожидать только от просвещения и улучшения проницательности, что добродетель, следовательно, поддается обучению, а все добродетели – только одна. Не касаясь юридических форм демократической афинской государственной конституции, он, тем не менее, стремился своим личным влиянием на молодежь воспитать среди себя круг интеллектуальных аристократов, которые, будучи интеллектуально, нравственно и технически более совершенными, должны были наполнить старые политические формы новым содержанием. Истинное знание, к которому он стремится, изначально является лишь средством для достижения этих практических целей. Чтобы прийти к истинному знанию, которое само по себе ведет к благу, путь – «Познай самого себя» дельфийского оракула, ибо для этого имеет ценность только знание о человеке, а не натурфилософия. Обыденное мнение, на субъективной достоверности и объективной никчемности которого останавливаются софисты, является для него отправной точкой, но не целью познания; напротив, он стремится индуктивно восходить от него через диалектическое исследование к концептуально общему знанию, кульминацией которого является определение. Как только достигнуто полное определение понятий, из него можно вывести все истины; ведь тогда человек знает как более общие родовые понятия, так и специфические различия, которые являются решающими для каждого понятия. Человек уже бессознательно носит понятия в себе; обучение – это только припоминание, то есть осознание бессознательного обладания, преподавание – это отвязывание обучающегося от его плодов или извлечение из них с помощью иронической (то есть вопросительной), скептической и эристической диалектики.
Телеология царит и в мире в целом, но и здесь Сократ представляет ее лишь как антропологическую телеологию, поскольку все устроено на благо человека. Такая организация мира может проистекать только из мудрости и благости мирообразующего разума, который он иногда (вместе со своими людьми) олицетворяет в невидимых богах, иногда (вместе с Ксенофаном и Анаксагором) ставит над народными богами как творца и правителя всего сущего, иногда (вместе с Гераклитом) помещает в тело мира как мировую душу.
Сократ впадает в противоречие: он основывает добродетель главным образом на сознательном понимании и знании блага, но утверждает, что на практике не имеет этого понимания для себя, сомнительно ищет его у других и помогает себе бессознательным гением наивного такта или чувства к правильному и доброму (daimonion). Его школа должна была прежде всего стремиться устранить это противоречие, пытаясь четко и определенно сформулировать знания, необходимые для добродетели: различные ветви школы опирались на различные аспекты учения мастера, каждая из которых была убеждена, что она уловила суть этого учения и выделила его из остальных.
Мегарская школа, основанная Эвклидом, подчеркивала единство добродетели и блага в формалистической манере и объединяла сократовскую идею блага с элеатским принципом Единого. Элианская школа, основанная Федоном, по-видимому, была связана с мегарской, но больше мы о ней ничего не знаем. Киническая школа Антисфена и киренейская школа Аристиппа стремились заполнить пробел в определении Сократом истинного блага человека: первые находили его в ненужном воздержании от удовольствий, вторые – в господстве над удовольствиями.
Эвклид и его последователи стремились дополнить и скрыть формалистическую пустоту своего принципа с помощью эристики против всех других точек зрения и поэтому снова взялись за зеноновскую диалектику, которую они расширили и обогатили в манере софистов. Антистен (р. 444) ходил по кругу, используя добродетель, которая, согласно Сократу, есть поведение, соответствующее истинному благу или высшему благу человека, в то же время для определения истинного блага или высшего блага; он призывал вернуться к простоте естественного состояния, признать единого Бога в противовес множеству популярных богов и самодостаточность человека, который изолирован от общества, несмотря на его космополитизм. Именно о его ученике Диогене народное остроумие слагает все анекдоты, обращенные против киников.





