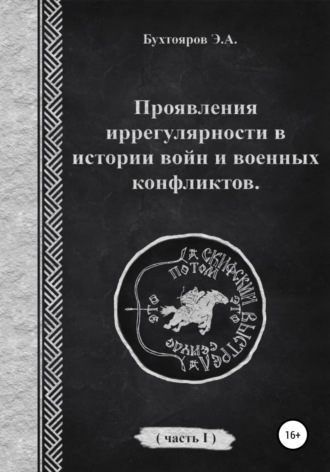
Эдуард Анатольевич Бухтояров
Проявления иррегулярности в истории войн и военных конфликтов. Часть 1
Ранние славяне (кинетика и пространство, малое и большое в рейдовой кампании)
В работе Прокопия была описана военная кампания трехтысячного отряда славян, вторгшегося в пределы Восточной Римской империи и нанесшего целый ряд военных поражений регулярным римским войскам в поле с последующим овладением римскими крепостями.
В 551 году после переправы через реку Гевр (Марица) славяне разделились на два отряда, создав видимость малочисленности своих сил и организовав эффективную разведку и взаимодействие между отрядами, внезапными упреждающими ударами успешно побеждали римские отряды. Римские военачальники, купившись на уловки славян и упиваясь своим военным превосходством, сразу же уступили военную инициативу.
Далее следовала эпопея взятия славянами довольно сильно укрепленной римской крепости Топер, гарнизон которой насчитывал около 15 тыс. человек мужского населения в противовес отряду славян, насчитывающему на момент перехода через реку Гевр в строю около 3 тыс. бойцов.
Именно этот эпизод является показательным в свете раскрытия темы асимметричности действий и иррегулярного подхода в деле вскрытия оборонительного укрепрайона противника меньшими силами, не прибегая к долговременной, кровопролитной и ресурсно-затратной классической осаде крепости.
Чтобы добавить больше красок в этот рассказ, следует отметить, что через крепость Топер (Топир) проходила стратегически важная для Константинополя Эгнатиева дорога (via Egnatia – римская дорога), которая через Балканы выходила к Адриатическому побережью и являлась важным участком общей дорожной линии, связывающей старую и новую столицы Римской империи.
Итак, в 551 году перед относительно небольшим войском славян, пришедших в район приморской крепости Топер, стояла непосильная задача в контексте прямой осады крепости и ожидающего его противоборства с крупными силами византийского гарнизона на выгодных для него условиях.
Однако славянские воеводы сумели правильно оценить обстановку и приняли решение об изменении тактического фона в свою пользу и уже на выгодных для себя условиях уничтожить военную силу гарнизона крепости Топер.
В первую очередь славянам необходимо было выманить значительную часть легионеров гарнизона за пределы фортификации, далее нарушить боевой порядок сил, предпринявших вылазку, чтобы потом, застав их врасплох, приступить к уничтожению византийцев.
Для начала славяне разделили свои силы на две неравные части, большая из которых в виде засадного отряда была искусно спрятана в складках сложного рельефа местности на пути возможного направления вылазки, а меньшая часть приступила к демонстрационным действиям у восточных ворот крепости.
Гарнизон крепости, неправильно оценив обстановку и приняв малый отряд славян за их основные силы, предпринял вылазку бо́льшими своими силами. Обманный отряд, обратившись в бегство, повлек за собой противника в нужном для себя направлении. Таким образом римские воины, беспечно увлекшись преследованием убегающего противника, полностью расстроили свои боевые порядки вдали от стен крепости, втянулись в район организованной для них засады.
В свою очередь большой засадный отряд, пропустив своего противника вперед, неожиданно для него ударил с тыла, а еще недавно спасавшийся бегством малый отряд славян предпринял неожиданный маневр и с разворота атаковал своих преследователей с фронта. Ловушка была захлопнута.
Так были перебиты основные силы гарнизона римской крепости Топер, а славянам был открыт путь к непосредственному ее штурму.
Второй волной, отсекая лучниками обороняющихся со стен крепости, штурмовые отряды славян с лестницами успешно взобрались на них, после чего римский город пал.
Данный эпизод борьбы диких племен славян против просвещенных ромеев наглядно продемонстрировал превосходство незашоренной военной мысли варваров над академичностью военного искусства Римской империи, имевшего глубокие и устоявшиеся военные традиции.
Более того, дальнейший ход событий на данном театре военных действий показал, что поход трехтысячного отряда славян в пределы Римской империи оказался разведывательно-рейдовой кампанией, что предвосхищала вторжение основных сил славянского войска в следующем 552 году.
В кампании 552 года славянское войско, пользуясь данными разведки и сведениями, полученными от взятых в плен воинов, отказалось от исполнения первоначального плана по взятию города Фессалоники, где их уже ждало большое римское войско под командованием Германа.
Таким образом полководцами славян была проявлена гибкость в проведении военной кампании, и после небольшой оперативной паузы славянское войско перешло на другое оперативное направление и вторглось в пределы Восточной Римской империи. Силы славянских племен были поделены на три части, и, естественно, продвижение проходило по трем направлениям. Не встречая особого сопротивления, были заняты значительные земли Византии, где войско славян успешно перезимовало.
Далее была битва с отборным войском новых римлян у Адрианополя, в которой славяне одержали верх. После успеха под Адрианаполем войско славян, потеряв бдительность, углубилось внутрь Византии, где и было наказано у «Длинных стен» внезапной атакой войск ромеев, оправившихся после поражения под Адрианаполем и следовавших вслед за войском вторжения до места следующего сражения. После поражения у стен Константинополя войско славян было вынуждено оставить пределы Византии, отступив обратно за Истр.
В войске древних славян царила необходимая для успешных действий в походе воинская дисциплина и сплоченность в бою, которая обеспечивалась родоплеменной формой организации войска. Во главе войска племени стоял его вождь. Статус его в родовой общине быстро менялся с началом войны, которая способствовала упрочению власти военачальника уже как князя, имевшего свою дружину.
С конца V века начался процесс объединения славянских племен вокруг наиболее сильного и удачливого князя. Органом управления такого общественного объединения было народное вече – собрание племен, во главе которого находились совет старейшин и князь.
В общественном устройстве взаимоотношений славянских племен был один, но очень большой минус, выраженный в наличии межплеменной розни. Маврикий в своем «Стратегиконе» по этому поводу писал:
«Не имея над собою главы, они враждуют друг с другом; так как между ними нет единомыслия, то они не собираются вместе, а если и соберутся, то не приходят к единому решению, так как никто не хочет уступить другому».
Маврикий отмечал, что по отношению к славянам крайне эффективна стратегия непрямых действий, мероприятия которой в первую очередь направлены на разжигание межплеменной розни, тем самым ослабляя союз славян, вместо прямого военного давления на них.
Нельзя сказать, что данное качество было характерным только для славянских народов, данная «социальная болезнь» присуща всем большим народностям, а также крупным государственным образованиям, поэтому полагать, что славяне в этом плане чем-то отличались от других народов, будет неверно.
Однако ситуацию во взаимоотношениях между племенами славян коренным образом меняло наличие общей внешней угрозы. Как только появлялась опасность, славяне прекращали междоусобицы и объединялись для отражения внешней угрозы или проведения совместного военного похода. Примером тому является военная кампания славян против Византии 551–552 годов, в ходе которой не отмечалась, по прямому или косвенному признаку, несогласованность действий славянских отрядов.
Таким образом факт военной организации войска славян на основе общепринятых для всех родов и общин правилу – традиции также свидетельствует в пользу общей сплоченности войска древних славян и является достаточно сильным коллективным и личностным мотивирующим фактором.
Анализ действий войска славян на северо-западном приграничье Византийской империи в 551–552 годах, кроме фиксации факта пассионарного всплеска, показывает также уровень военной школы ранних славян, которого оказалось достаточно, чтобы указать на тонкие места военного искусства находящейся на пике своего могущества Восточной Римской империи. Военные победы ранних славян оказались столь чувствительными для новых римлян, что противостоянию Византии и славян было уделено отдельное внимание у византийских хроникеров в их исторических трудах, посвященных кампаниям, направленным на возвращение величия великой империи.
В своих работах Прокопий из Кессарии и Маврикий отмечали индивидуальную силу и выучку славянского воина. В историческом труде «Война с готами» Прокопий так описывал качества славянина:
«…привыкли прятаться даже за маленькими камнями или за первым встречным кустом и ловить неприятелей. Это они не раз проделывали у реки Истр».
Византийский император Маврикий на страницах своего «Стратегикона» рассказал о незаурядных способностях воинов славянского племени подолгу скрываться от своих преследователей под водой:
«Мужественно выдерживают они пребывание в воде, так что часто некоторые из числа остающихся дома, будучи застигнуты внезапным нападением, погружаются в пучину вод. При этом они держат во рту специально изготовленные большие, выдолбленные внутри камыши, доходящие до поверхности воды, а сами лежат навзничь на дне (реки), дышат с помощью их; и это они могут проделывать в течение многих часов, так что совершенно нельзя догадываться об их (присутствии)».
Такая практика действий, помимо возможности скрываться от неприятеля для сохранения собственной жизни, также позволяла славянским воинам вести разведку и добывать разведывательные сведения, скрытно выжидая своего часа в географических складках местности для того, чтобы взять языка. Естественно, что искусство индивидуальной маскировки рядового воина положительно отражалось и на эффективности коллективной маскировки, что обеспечивало войску славян возможность скрытного маневра и внезапность его действий, в том числе и засадных.
Военная доблесть славянина была обусловлена суровым укладом жизни древнеславянских общин. Из сказаний мусульманских писателей о славянах и русских (с половины VII века до конца X века по Р. Х.) можно четко определить ментальность славян того исторического периода. Воинственный нрав мужчины славянского племени проявлялся в традиции. Согласно ей славянский муж, у которого рождался сын, брал обнаженный меч, клал его перед новорожденным и говорил следующие слова:
«Не оставлю тебе в наследство никакого имущества, а будешь иметь только то, что приобретешь себе этим мечом».
В обычаях древних славян также существовало правило решать спор между двумя тяжущимися с помощью меча, если обе стороны были недовольны решением суда князя как первичной инстанции в разрешении спора. В таких случаях князь говорил:
«Судитесь мечом; у кого меч острее, тот и победитель».
Тяжущиеся сходились в личном поединке, а окончательную точку в споре ставили крепость и острота клинка, помноженные на силу и ловкость воина. Исходя из приложенных двух обычаев ранних славян, можно говорить о наличии в обществе славян культа силы и мужества – права сильного.
В личном вооружении и средствах защиты древнеславянские воины ничем особо не уступали воинам других народов того времени, кроме как, конечно, имперским ратоборцам Константинополя, чье вооружение и снаряжение, по очевидным причинам, на порядок превосходили образцы и комплекты варварских племен и народов.
Отличительной чертой славянского воина была его облегченного вида нательная защита – кольчужная рубаха, которая выгодно отличалась от ламеллярных и ламинарных доспехов предоставлением первой большей степени свободы действий в бою ее носителю при сохранении необходимого уровня защиты воина. При этом нельзя не отметить удобство и быстроту облачения в кольчужную рубаху, а также относительно низкую цену ее производства по отношению с образцами других видов доспехов, которые являлись более трудоемкими в производстве и сложными в эксплуатации. В общем кольчуга, как индивидуальное средство защиты, была наиболее распространена среди варварских народов со времен переселения народов вплоть до XIV–XVI веков, когда в военную моду возвратились более дорогие пластинчатые доспехи.
А вот в организации военной силы ранние славяне явно уступали другим или, если говорить по-другому, отличались от уже успевших себя проявить народов и состоявшихся государств. Находясь на более низкой стадии развития военной силы, славянская сила представляла собой некие боевые ватаги – вооруженные группы (отряды), не имеющие четко выработанного правила боевого построения на поле боя. Вернее сказать, регламентация боевого построения была и выражалась она в формировании подобия стены из славянских воинов, которая мало напоминала собой совокупность четко выраженных шеренг и колонн уже известных на то время конфигураций баталий.
Но, судя по результатам боевой работы таких вот ватаг, этот недостаток с лихвой компенсировался высоким уровнем пассионарности – боевым духом как рядовых славянских воинов, так и их архонтов, наряду с отсутствием зашоренности военной мысли, что было обусловлено отсутствием ограничительных регламентов, которые были присущи регулярной военной силе, в вопросе выбора тактики действий.
На то время у славян не отмечалось наличия полноценной кавалерии с ее разделением на легких и тяжелых всадников. Из-за своей дороговизны конница в классическом ее виде характерна лишь для развитых государственных образований или же родоплеменного союза, сумевшего заполучить богатые военные трофеи, позволяющие сформироваться военной знати рода, из которой и выкристаллизовывалась хорошо вооруженная дружина всадников. Наиболее быстро этот процесс шел в границах номадистической среды обитания, где культура всего, что было связано с лошадью, особенно в военном деле, была на более высоком уровне, чем у оседлых народов.
У ранних же славян кавалерия в чистом виде еще не была развита, поэтому лошади использовались в большей степени для перевозки грузов и как индивидуальное средство передвижения. Сражаться славянские воины того времени предпочитали в пешем строю.
Но несовершенство кавалерии у ранних славян привело к выработке у них хитрой тактики с соответствующими методами и способами ведения вооруженной борьбы. Эта тактика позволяла славянским ватагам побеждать регулярные византийские силы, у которых на то время кавалерия была совершенна, т. е. имела оформленное разделение на легкую и тяжелую ее части, успешный и богатый опыт выполнения боевых задач как в совместной тактической схеме применения, так и по отдельности.
Казалось бы, парадоксальная вещь: малое и несовершенное побеждает большее и совершенное. Но если поразмыслить, то нет ничего парадоксального. Меньший ресурс в своей пассионарной фазе развития всегда активнее ищет самый оптимальный путь достижения своей цели, находит его, а затем, нисколько не межуясь, использует его на практике. Так, к середине VI века славянские воины сумели выработать стратегию и тактику применения своих сил, которые не предусматривали прямого противостояния с большой регулярной военной силой противника, а предполагали оперирование методами и способами из области того, что сейчас называется малой формой вооруженной борьбы, прикладывая малую силу на слабые точки противника.
И мобильная пехота как нельзя лучше вписывалась в стратегию действий малыми партиями на уязвимых для противника направлениях и точках приложения силы. Именно универсализм мобильности и стойкости летучей пехоты стал тем самым ключиком, который мог закрывать и открывать пространство как перед противником, так и перед собой в любом месте операционного района.
Мобильная пехота пользовалась всеми преимуществами кавалерии в маневре и в то же время в спешенном порядке имела достаточную устойчивость к действиям кавалерии и пехоты противника, сохраняя за собой возможность быстро свернуться и выйти из-под удара. Быстрота, внезапность, устойчивость и гибкость – вот главные победные качества летучей пехоты.
Наличие у древнеславянского войска мобильной пехоты обуславливало ту успешность исполнения соответствующих тактики и приемов на поле боя, что были связаны с быстротой маневра и резким изменением рисунка боя – быстрого и своевременного перехода от обороны к наступлению и наоборот (выхода из-под удара).
К тому времени история уже знала отдельные и яркие примеры, когда всадники, прибыв на поле боя, спешивались и принимали бой в пешем порядке. Но это были единичные экстраординарные и вынужденные случаи, не имеющие никакого отношения к намеренному системному действу.
Наиболее яркие и известные примеры преднамеренного спешивания кавалерии для начала противостояния врагу в пешем порядке произошли сначала во второй половине I века до н. э. во время восстания Спартака, а затем в бытность так называемых Юстиниановых войн в середине VI века нашей эры.
Более подробно эти события ввиду большой их значимости для раскрытия темы будут описаны в последующих главах, пока же вкратце о случаях спешивания кавалерии в бою.
Итак, в январе 71 года до н. э. во время определяющих сражений между силами спартаковцев и римскими легионами произошли два примечательных случая, когда всадники сторон конфликта во время начавшихся сражений были вынуждены спешиться и перейти к рукопашному бою.
Сначала 1 января 71 года до н. э. римский полководец Квинт Аррий в сражении между армиями Спартака и римского проконсула Марка Красса был вынужден лично спешиться вместе со своими трибунами и, взяв в руки щиты, занять место в строю своей пехоты, в боевые порядки которой уперлись превосходящие силы Спартака. Этим героическим для военачальника поступком Аррий показал своим воинам, что намерен сражаться с ними плечом к плечу до последнего, не отделяя своей жизни от жизней рядовых легионеров.
Его поступок еще не являлся осмысленным преображением массы всадников в силу пешего порядка, потому и не мог стать прецедентом для того, чтобы подать правильный посыл для начала зарождения особого рода войск – летучей пехоты. Но поступок римского полководца стал эталонным проявлением воинской доблести командира, явившись незабываемым примером для следующих поколений командиров любых уровней в армейской иерархии.
Уже через пять дней после памятного поступка Аррия в финальном сражении восстания раненный в бедро Спартак под напором кавалерии Помпея был вынужден спешиться и принять свой последний бой на ногах. Получив ранение, Спартак демонстративно убил своего боевого коня, чтобы не иметь возможности выйти из боя, чем показал окружающим его солдатам, что команды на отступление не будет. В ответ на переход спартаковцев в плоскость рукопашного боя прибывшие к месту сражения римские всадники по команде Авла Габиния тоже спешились и приступили к давлению на отряд Спартака в пешем порядке.
В общем итоге прибывшее на поле боя подкрепление для римлян в виде конницы Габиния внесло свои весомые коррективы в рисунок проходившего далеко не в пользу римлян сражения. Помпейские кавалеристы своим своевременным приходом на критический участок сражения не только спасли своего проконсула Красса, но и поставили армию восставших в крайне невыгодное положение, после чего у Спартака оставалось единственное правильное решение для того, чтобы спасти свои силы, но он им не воспользовался. Вместо того чтобы вовремя отступить, вождь восставших решил продолжить рубку, за что, собственно говоря, и поплатился. Так как восстание формировалось вокруг личности единственного человека – военного лидера, то и конец восстания связан с гибелью того самого незаменимого лидера – Спартака.
В свою очередь командир кавалерийского корпуса римлян Габиний, отвечая на вызов Спартака, принял для себя нестандартное, но, как оказалось, правильное решение, приказав своим всадникам спешиться. Со свежими силами летучие пехотинцы в рукопашной схватке сломили сопротивление группы Спартака, чем нанесли всему восстанию смертельный удар.
Таким образом корпус римской кавалерии в нестандартной для себя манере помог разрешить спор на поле брани в сторону своих сил, благодаря своевременному маневру и перестроению в новый боевой порядок, сделав тактический ход, поставивший мат Спартаку в сражении.
Спустя почти шесть столетий в период Юстиниановых войн был отмечен следующий случай спешивания всадников кавалерийских подразделений с последующим занятием места в пешем боевом порядке. Произошло это 19 апреля 531 года в разгар Ирано-византийской войны 527–532 годов, когда при Каллиниках византийская армия противостояла армии персов.
В процессе сражения конная дружина прославленного византийского полководца Велизария отступая совершила тактический маневр, перейдя на левый фланг своих сил. Как только конница Велизария прибыла на указанный фланг, где стояли пехотинцы Петра, константинопольский полководец спешился сам и приказал спешиться своим всадникам, после чего они заняли свои места в пешем строю новоримской пехоты. С приходом пополнения византийцы спешно перестроились так, чтобы их спины оказались прикрыты руслом Евфрата, избегая таким образом возможности окружения. Теперь персы могли атаковать плотный строй византийской пехоты только с невыгодного направления – во фронт, а сами новые римляне могли покинуть поле боя на своих ногах только после того, как персы будут вынуждены отказаться от своих намерений и уступят поле боя.
К этому моменту сражения уже все силы персов были сосредоточенны на пехоте Петра, солдаты которого сохраняли свой боевой порядок в строю. Силы были неравны, и персы вели сражение, но поступок константинопольского полководца Велизария значительно увеличил силу сопротивления византийцев, тем более что расположение боевого порядка новых римлян на поле боя относительно рельефа местности не давало им какой-либо возможности выйти из-под удара противника. Не имея возможности ретироваться, солдаты оставшейся части византийского войска, плотно сомкнув свои ряды, самоотверженно оборонялись на ограниченном пространстве, отражая нападки отрядов персов до самого позднего вечера того дня.
Храбрость и стойкость византийских воинов в тот день была оценена крылатой богиней победы Викторией, которая вознаградила ратоборцев за их ратные труды и подвиги.
С наступлением темноты воины Сасанидского Ирана, не добившись желаемого для себя результата, прекратили боевые действия и отошли на ночлег в свой полевой лагерь, оставляя непокоренного противника на поле боя без внимания.
Персидский полководец Азарет почему-то посчитал, что партия была завершена. И несмотря на то, что в их корзинах еще оставалось достаточное количество стрел, а византийцы сохраняли свои боевые порядки, персидские воины были опрометчиво отведены на отдых в свой полевой лагерь, оставляя непобежденного противника на поле боя, не позаботившись даже о его временном кордонировании и визуальном сторожевом контроле, чтобы не допустить организованного отступления византийцев.
Азарет упустил хорошую возможность организовать засаду и атаковать Велизария в момент отступления войска последнего, когда боевые порядки византийцев были бы максимально дезорганизованы и уязвимы. Если бы Азарет решился на продолжение сражения у Киллиника в другом формате, то он мог бы прославиться в истории противостоянии Константинополя и Ктесифона и получить свою порцию законного триумфа за кампанию. Но он поступил так, как поступил и за это получил свою законную порцию «славы», вернувшись к своему царю с корзинами нерастраченных персидских стрел.
В свою очередь византийцы, воспользовавшись малодушием персов и убедившись в безопасности для себя в районе боевых действий, успешно переправились на другой берег реки, после чего уцелевшая часть новоримских воинов беспрепятственно укрылась за стенами Киллиника.
Таким образом Велизарий тактическим маневром своей конницы и последующими за ним сменой и перестроением ее боевого порядка во время сражения не только сохранил жизни своей кавалерии и пехоты Петра, но и сохранил свое лицо как полководец Константинополя и стратег Востока, не допустив полного разгрома своих сил и заставив своего противника, понесшего потери критического уровня, для возможности дальнейшего проведения крупной рейдовой операции отказаться от своих намерений и отступить в границы Персии.
Более того, результат этого сражения вместе с общим итогом бесславной кампании весны 531 года для вернувшегося в Ктесифон персидского полководца Азарета оказался слишком постыдным. Шахиншах Кавад I поставил эту победу в разряд позорнейших, а своего полководца Азарета, которому была доверена данная миссия, стал почитать одним из наименее достойных.
Таковы были самые яркие и единичные случаи в мировой истории войн, когда кавалерия, исполнив тактический маневр, спешивалась и принимала бой в пешем порядке, разворачивая ход сражения в свою пользу.
Но еще долго пример спешивания кавалерии будет считаться унизительным и постыдным действом для элитного верхового воина.
В феодальный период истории за всадниками еще больше закрепился элитарный статус, что, собственно говоря, и не позволило развиться военной мысли о формировании летучей пехоты, тормозя процесс эволюции военного искусства.
Вглядываясь в будущее военного искусства с отметки VI века нашей эры, когда на страницах его истории были отмечены признаки осмысленного перехода кавалерии к действиям в пешем порядке, становится очевидным, что как минимум до середины XVI века заковывающие себя в дорогое латное облачение всадники – рыцари крайне редко будут спускаться с седла на землю для ведения рукопашного боя не только ввиду своих мировоззренческих понятий, но и из-за своих доспехов и копий, которые со временем все больше делали из всадников неповоротливых операторов своих коней, не способных эффективно сражаться не только в пешем порядке, но и вдолгую в седле.
Следует особо подчеркнуть, что данные выводы касаются лишь европейского ареола эволюции военной мысли, где кавалерия развивалась по самому примитивному пути своего развития, полагаясь лишь на удельную мощь всадника-рыцаря, а не на функциональное разделение кавалерии на ее легкую и тяжелую части вместе с широким спектром маневра и тактических комбинаций применения кавалерии как в операционной зоне, так и на поле боя – оперативном и тактическом уровнях.
Не стоит упускать из виду развитие военной мысли проходивший на просторах Великой степи и в географической полосе встречи оседлого населения европейского континента и его кочевой части. Кочевая культура организации и применения кавалерии в военных кампаниях в разы превосходила западноевропейскую, что, собственно, и было доказано во время великих монгольских завоеваний и крестовых походов европейских рыцарей на Русь в первой половине XIII века. Однако горькие поражения западноевропейских войск так и не послужили для их военной школы поводом к началу переосмысления военной мысли. Наверное, сказалась та ограниченность воздействия внешней военной силы на феодальную Европу – разовость военной акции монголов и последующий полный уход кочевой военной силы в свою традиционную среду обитания, которая была достаточно удалена от территории западной Европы.
А вот процесс исторического «воспитания» европейских рыцарей-феодалов начнется, как мы уже знаем, лишь в самом начале XIV века, когда горькие военные поражения в рамках внутри европейских противостояний будут заставлять спесивую средневековую элиту эволюционировать природно в сторону универсальности, а усовершенствование огнестрельного оружия значительно ускорит этот процесс.
Развитие огнестрельного оружия как эффективного индивидуального средства дистанционного поражения живой силы противника подтолкнуло к смене настроений в конном воинстве с последующим появлением и закреплением в регулярной армии всадников, заточенных на ведение боевых действий как верхом на лошади, так и в пешем строю.
Так, в ходе Итальянской войны 1551–1559 годов во французской армии маршала Биссака официально появилась конная пехота (конные стрелки), которая получила свое название от названия короткого мушкета Dragon (дракон), стоявшего у них на вооружении. Далее происходил процесс интенсивного развития данного рода кавалерии, и уже на стыке XVII–XVIII веков драгуны составляли большую часть кавалерии в таких европейских странах, как Франция, Австрия, Англия и Пруссия.
Помимо появления летучей пехоты в регулярных армиях, развитие конных стрелков происходило в иррегулярной среде независимых и полунезависимых вооруженных формирований.
Как уже упоминалось выше, отдельно от западноевропейской военной школы эволюция военной мысли происходила в зонах влияния кочевой военной культуры.
На стыке зон обитания оседлого народа Руси и кочевых племен Великой Степи с распадом Золотой Орды зародилось новое войско-народ, более известное под названием казаки, которое в дальнейшем на приграничных территориях Руси преобразуется в полноценный субэтнос православных воинов. Именно иррегулярная военная школа казачества, впитав в себя все самое лучшее из военного искусства славян и тюрок-кочевников, воспитает вольное воинство, которое на протяжении веков станет эталоном иррегулярности в организации и применении военной силы, всадники которой легко переходили в пешие порядки и обратно в зависимости от требований сложившейся обстановки на поле боя.
На протяжении всего своего существования казачья иррегулярная сила не только несла службу в приграничье, но и дополняла действия частей регулярной армии во время официальных военных кампаний. Не стоит также забывать о казаках-землепроходцах, которые благодаря своей пассионарности не только открывали новые земли, но и своим присутствием утверждали власть православного царя на открытых новых землях для последующего их освоения.
Следующим толчком для развития тактики действий летучей пехоты стало англо-бурское противостояние, выразившееся в цепочке двух последовательных войн (1880–1881 годы, 1899–1902 годы). В этом военном состязании иррегулярная сила европейских переселенцев в Африке, являвшаяся по сути таким же войском-народом, как и казаки, противостояла английским колонизационным войскам регулярного порядка. Несмотря на то, что в итоге буры по определенным причинам, которые совсем не имели отношения к превосходству военного искусства англичан, покорились силе британской короны, европейские колонисты на практике доказали эффективность и преимущество высокомобильной пехоты с высоким уровнем индивидуальных военных навыков и мотивации заключенных в оболочку иррегулярной формы вооруженной борьбы над военной регулярностью великой империи.


