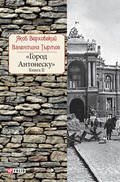Яков Верховский
Город Антонеску. Книга 1
Тюремный замок
Рассказывает старый одесский врач Израиль Адесман:
«Тот пункт, куда погнали меня и мою жену, помещался в темном и холодном здании школы. Нас там собрали свыше 500 человек. Сидеть было негде. Мы провели всю ночь стоя, тесно прижатые друг к другу.
Мы изнемогали от усталости, голода, жажды и неизвестности. Всю ночь слышался плач детей и стоны взрослых. Утром из нескольких групп был составлен эшелон в 3–4 тысячи человек. Всех погнали в тюрьму…»
Старая городская тюрьма…
Тюремный замок…
Сложенный из темно-красного кирпича в виде креста с круглой 40-метровой башней в центре, он отличается какой-то чудовищной красотой. В 1895-м на 5-м Международном конгрессе в Париже одесский Тюремный замок был признан самой красивой тюрьмой из всех подобных заведений Российской империи.
И не случайно – ведь даже арка главных тюремных ворот была построена по проекту великого Александра Бернардацци.
За долгую свою жизнь много чего повидал наш Тюремный замок – все, чем жил город, все, чем жила страна, отражалось, как в капле воды, в микрокосме одесской тюрьмы.
В царские времена здесь сидели закованные в кандалы разбойники и конокрады. В «золотуху» 20-х разбойников и конокрадов сменили «буржуи» и «нэпманы». В голодомор 30-х к ним присоединились людоеды.
А в 37-м, в дни Большого террора, настал черед «врагов народа».
Эти годы были особенно тороваты для Замка. Вместо положенных четырех в камеры помещали 15, а то и 20 «преступников». Спали по очереди. И с каждым днем количество заключенных увеличивалось.
Но наступил 41-й. Еще в начале войны часть «врагов» расстреляли, а остальных угнали на восток. Так что вошедшим в Одессу румынам досталась в наследство абсолютно пустая огромная тюрьма – идеальное место для заключения «жидов».
К вечеру 20 октября 1941-го заместителю командующего 10-й пехотной дивизией – генерал-майору Константину Трестиореану, отвечавшему за «очистку» города, доложили, что «до сего времени было интернировано: 11 306 жидов, 3481 пленных и 11 террористов…»
Тюремный замок был переполнен.
Во всех камерах, коридорах, во всех закоулках люди. На нарах, под нарами, на ступеньках лестниц, на голом цементном полу знаменитого «Круга», по которому растекается желтая зловонная жижа.
По вечерам жандармы, освещая людское месиво ручными электрическими фонариками, выискивают и уводят с собой плачущих девушек. Истерзанные их трупы потом еще долго валяются на грязно-серых каменных плитах тюремного двора.
А по утрам забирают мужчин.
«Лукру-лукру! – орут жандармы. – Работа-работа!».
Эта так называемая «работа» заключается в очистке одесского аэродрома от мин, установленных большевиками при отступлении.
Большинство мужчин подрываются на минах. А тех, которые остаются в живых, расстреливают или сбрасывают в шахты-каменоломни на Новоаркадийской дороге. Так что в тюрьму они больше не возвращаются, и на следующий день на «лукру» отправляется другая партия.
В это ужасное место 20 октября 1941 года из дома № 18 по Красному переулку пригнали 75-летнего еврея Гельмана, из дома № 30 по улице Петра Великого – молодую женщину Крупник с сыном, из дома № 49 по улице Торговой – семью Розен: отца, мать и троих детей, младшему из которых было два года.
Все они погибли.
Об этом свидетельствуют акты, составленные той самой специальной Областной комиссией по установлению злодеяний.
Сколько месяцев, дней, часов провели мы в архиве Иерусалимского мемориального комплекса «Яд-Ва-Шем», перелистывая листы этих актов…
Акты…Акты…
Каждый акт – имя…
«У каждого человека есть имя, которое дал ему Бог, и дали отец и мать…»
Каждый акт – имя расстрелянного, повешенного, сожженного.
«У каждого человека есть имя, которое дала ему его смерть…»
Как символичны именно в данном случае строчки израильской поэтессы Зельды.
Каждый акт – имя, которое дала человеку его смерть.
Додика Стародинского пригнали в Тюрьму 20 октября 1941-го, ему было 17: «Многих, очень многих гнали по этой дороге… Первые группы людей расстреляли возле кладбища, не доходя до Тюрьмы, и нам приходилось переступать через трупы… Когда мы проходили мимо горы Чумки, я впервые увидел виселицу с четырьмя повешенными. Это были трое мужчин и одна женщина… Вторая виселица стояла напротив ворот Тюрьмы…»
Лелика Дусмана пригнали в Тюрьму 21 октября, ему было всего 11: «Колонну прогнали по улицам, и поздно вечером мы попали в тюрьму. Огромное количество людей… Удушающее зловонье…»
Ролли тоже пригнали в Тюрьму 21 октября.
В этот день ей исполнилось 5 лет…
От Ролли: Кукла с чернильным носом
Одесса, 21 октября 1941 г. Тюремный замок 5 дней и ночей под страхом смерти
А мы все бежим и бежим…
С тех самых пор, как выскочили из этой школы, когда все вокруг нас горело и стало светло, как днем, и люди все закричали: «Пожар! Пожар!» — и стали толкаться и давить на дверь, и дверь затрещала и упала – вывалилась прямо на улицу.
И мы вместе с ней тоже вывалились и побежали…
И зачем только нас притолкали в эту дурацкую школу?
Сначала мы были дома. Ну, не у нас на Петра Великого, в доме дедушки Тырмоса, а почему-то в другой, чужой и пустой квартире на первом этаже.
И вдруг в двери этой пустой квартиры начали тарабанить и орать.
Сначала орали: «Откройте! Это дворник!»
А потом непонятно: «Дексидэць! Мама востра!»
Папа сразу схватил меня и тихо так закричал Тасе: «Это румыны! Нужно открыть!»
Но Тася открывать не захотела и закричала: «Нет! Нет! Бежим! Быстрее!»
И побежала. По комнате. Быстро так. К окошку. И стала дергать его и открывать, и открыла, и протиснулась через него на улицу, и закричала уже оттуда, с улицы: «Тут низко! Давай ребенка!»
Папа поднял меня и передал Тасе через окошко. И сам тоже вылез. И тут нас как раз и поймали, те самые чужие солдаты, которые тарабанили раньше в дверь.
Ух, как они сердились. И размахивали руками и винтовками.
И ругались по-ихнему. А потом успокоились немножко и погнали нас этими винтовками по улице. Сначала по нашей, по Петра Великого. А потом по Садовой. Мимо Цирка, куда я ходила с папой смотреть лошадок и клоунов.
Гнали нас, гнали и подталкивали и в конце концов притолкали на наш Новый базар, куда я ходила с бабушкой Идой за черешнями.
Бежим по базару…
А на земле, странно как-то, вещи всякие валяются – шапки какие-то, и сумки, и куклы, и еще что-то совсем уже непонятное. А на карусели, на большой круглой карусели с разноцветными лошадками и колясочками, на которой все дети катаются, когда приходят на базар с бабушками за черешнями, теперь почему-то люди висят. И тетки, и дядьки. Грязные. Растрепанные.
Ничего себе!
Я хотела поднять одну куколку, маленькую, и нагнулась уже и руку протянула, но папа закричал на меня: «Не смей! Не трогай! Ничего не трогай! И не смотри! Никуда не смотри!»
Я обиделась.
Ну и ладно. Не буду я ничего трогать. Подумаешь, очень нужно!
Но как это не смотреть? Закрыть глаза, что ли?
Тут папа схватил мою голову и больно прижал ее к своему боку, и мне взаправду пришлось закрыть глаза.
Но мы на самом деле уже прибежали. В эту школу дурацкую прибежали. Поднялись по лестничке и хотели войти в класс. Но никак не могли, потому что людей там целое море было. И все почему-то плачут и кричат.
Ну, мы немножко постояли у двери, возле шкафа с книгами. А потом папа осторожненько взял этот шкаф и положил на пол. И мы все чудесно на нем устроились. Папа сказал, что теперь ночь, и что нужно спать, и что этот шкаф теперь будет наша кровать.
Но я совсем не хотела спать. Я хотела кушать, и вообще я хотела домой. И уже совсем-совсем собралась плакать, но папа открыл дверцу шкафа и вытащил оттуда большую книжку с картинками и стал читать мне сказку: «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку…».
Я эту сказку и сама давно знаю, у меня и книжка про нее дома есть, но все равно было интересно, особенно потому, что на картинке была нарисована маленькая собачка и тетка такая в шляпе.
А на другой картинке – большущая злая собака.
Ну, вы знаете – это когда маленькая уже выросла.
Я, наверное, слушала-слушала и заснула, потому что вдруг слышу кричат: «Пожар! Пожар! Нас подожгли!»
И мы уже не лежим на шкафу, а стоим у двери и вокруг нас светло, как днем.
Я на руках у папы. А вокруг нас люди. И дышат на нас, и толкаются. И мы все вместе давим на дверь.
И дверь затрещала и… вывалилась.
И мы вместе с ней тоже вывалились и побежали по улице.
Тася бежала впереди, а мы папой сзади.
И тут я вдруг вспомнила и закричала: «Папа, папа! А где моя большая книжка с картинками? Дама сдавала в багаж – диван, чемодан, саквояж? Мы забыли ее там на шкафу! Давай вернемся! Я хочу вернуться за книжкой!»
Но папа, сердитый такой, бежит и молчит, и даже говорить ничего не хочет.
А потом мы почему-то уже не бежим, а идем тихонько, и папа уже не несет меня на руках, а держит за руку и все вокруг нас темно, потому что ночь.
А потом стало как будто немножко светлее, но я уже очень устала и заплакала, и папа, как всегда, стал меня уговаривать: «Ну, не хнычь, не хнычь. Видишь, уже светает. И мы уже на Пушкинской. Сейчас повернем на Троицкую, а там, за углом, дом дяди Тимы. Дядя Тима нас спрячет. Мы покушаем, отдохнем. Там нас никто не найдет».
Да я знаю, конечно, дядя Тима – большой папин друг, он нас спрячет. Стоит только завернуть за угол на Троицкую, и зайти в подъезд дяди Тиминого дома, и подняться по деревянной лестнице на стеклянную дяди Тимину веранду, и там нас уже никто не найдет.
Я сама много раз пряталась на этой веранде, когда мы играли в прятки с Вовкой, дяди Тиминым сыном. Когда еще не было войны, и Вовка еще не ушел на фронт.
«Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать,
Кто не спрятался, я не виновата».
Нет, на той стеклянной веранде нас уж точно никто не найдет.
Было уже совсем светло, когда мы повернули за угол, на Троицкую. И тут нас как раз и нашли. Нашли и поймали чужие солдаты, похожие на тех, которые гнали нас вчера через Новый базар, в школу, которую подожгли и которая теперь, наверное, совсем сгорела, вместе со всеми людьми, которых туда натыкали
Солдаты стали кричать: «Жидан, жидан!» — и толкать нас, и подгонять своими ружьями к другим людям, которые сидели посреди улицы, на камнях, как раз напротив дяди Тиминого дома, в который мы так и не успели забежать.
Мы немножко посидели вместе с ними, а потом пошли дальше. По мостовой. Сначала быстро-быстро. А потом медленно. А потом, снова сидим, прямо на камнях.
И все бабушки охают:«Вей змир! Вей змир!»
И все дети плачут.
И вокруг чужие солдаты и большие злые собаки, как та нарисованная, в книжке про даму, которую я забыла в школе, которую подожгли.
Солдаты почему-то все время сердятся и командуют на своем языке – то туда, то сюда, то туда, то сюда. Собаки тоже сердятся – и рычат, и лают, и плюются. Хорошо еще, что у них есть ошейники, а то бы они всех нас перекусали.
На Куликовом поле мы снова долго сидели прямо в пыли. Я уже очень хотела кушать, и Тася дала мне одну конфетку – ириску. Ириска была коричневая и скользкая – растаяла, наверное, в кармане у Таси, пока мы бежали из школы, которую подожгли.
Тася вынула ириску из кармана и сунула мне ее прямо в рот. Но ириска вдруг выскользнула, упала на пол и стала медленно-медленно тонуть в пыли.
Тася подумала, что я нарочно выплюнула эту ириску и очень на меня рассердилась. Мне тоже было жалко ириску, особенно потому, что у Таси больше ирисок не было, а эту она не разрешила мне выковыривать из пыли, и ириска пропала. Я заплакала.
И папа, как всегда, стал меня уговаривать: «Сегодня тебе нельзя плакать. У тебя сегодня день рождения. Тебе исполнилось пять лет».
В день рождения дети всегда получают подарки. В этот день рождения я тоже получила подарок – Куклу!
Тася сделала ее очень быстро – оторвала от своей нижней юбки кусочек тряпочки и скрутила из него самую настоящую куклу. У куклы, правда, не было ручек и ножек, но зато была голова и лицо. И папа нарисовал ей глаза, и рот, и нос. Послюнил маленький чернильный карандашик и нарисовал.
И получилась «Кукла с чернильным носом».
Чудесная была кукла!
Так мы шли и шли вместе с куклой, и со всеми бабушками, которые кричали «Вей змир!», и со всеми детьми, которые плакали, пока не остановились перед огромными железными воротами.
За воротами был большущий красный дом.
Это была Тюрьма.
Тася, правда, давно уже знала, куда мы идем. Она еще по дороге говорила папе: «Нас гонят в старую городскую тюрьму. Видишь, справа трамвайное депо».
«Я тоже, я тоже вижу трам-вай-ное, – закричала я. – Вон там, там стоят поломанные трамвайчики!»
Но Тася на меня даже не посмотрела. И папа тоже со мной совсем разговаривать перестал – тащит и тащит за руку, а сам слушает Тасю, которая все удивляется и удивляется: «Не знаю почему, но нас всех гонят в тюрьму. С ума они что ли сошли – гонят в тюрьму детей? Но это точно дорога на тюрьму. Вон там – Чумка. За ней будет Христианское кладбище, а напротив него, сразу за старым Еврейским – тюрьма. Я хорошо помню эту дорогу. Меня часто возили по ней на допросы, когда я сидела здесь в 1938-м…»
Ворота Тюрьмы раскрылись, и мы все вместе потихонечку начали в них входить. И тут папа обнял меня, повернул мою голову и прижал ее к своему боку. Так же, как он это сделал вчера по дороге в школу, когда мы проходили через Новый базар, где люди висели на карусели, на которой я раньше всегда каталась, когда приходила с бабушкой за черешнями.
«Не смотри туда, не смотри», – зашептал папа.
А мне туда и смотреть было нечего, я и так уже все видела.
И ничего там такого интересного не было. Просто стенка. Грязная стенка. И стекает по ней что-то черное. И люди валяются. Целая куча. И солдаты. Что-то там делают. И кричат.
Но папа все прижимает мою голову к своему боку и наклоняет ее вниз, и я вижу плиточки, по которым мы идем. Красивые такие, серенькие. Хорошо бы на них попрыгать, в классики поиграть!
Но тут двор кончился, и мы вошли в Тюрьму. Огромная она такая, высоченная и круглая-круглая. И похожа она, прямо очень похожа на мой любимый Цирк на Садовой, где так вкусно пахнет лошадками, наверху летают акробатики, а внизу, на «круге», который называется «манеж», кувыркаются клоуны.
Здесь тоже чем-то сильно пахнет и лестницы железные до самого потолка, как трапеции, только нет акробатиков, а на «круге», вместо клоунов, – люди и дети. Сидят и лежат на полу на всяких тряпках и без тряпок, и жижа какая-то течет.
Мы, наверное, по улицам все-таки медленно бежали, потому что в Тюрьму опоздали. И теперь нам даже сесть негде.
Но тут вдруг в углу под лестницей мы увидели бабушку Иду. Она сидела, как все, на полу, на своем расстеленном пальто, и мы сначала ее не узнали, потому что там было темно и потому что она вся была какая-то растрепанная, и даже лицо и руки у нее были грязные. А сама всегда раньше на меня орала: «Руки, руки, немедленно мыть руки!»
Но теперь мы все, конечно, обрадовались, залезли тоже под лестницу и очень удобно устроились на бабушкином пальто, и Тася даже дала мне один сухарик из ее мешочка. Бабушка тоже, конечно, обрадовалась и сразу стала плакать и верещать: оч-ч-ень не нравится ей в этой тюрьме, она в ней совершенно сидеть не может, потому что она в ней никогда не сидела и шпионкой тоже никогда не была, никакой шпионкой не была – ни японской, как Тася, ни греческой, как моя другая бабушка Лиза. И еще, и еще…
Тася стала ее успокаивать и сказала, что выведет ее из тюрьмы.
«Ты не сможешь», – плакала бабушка Ида.
«Смогу!» – «Не сможешь!» – «Вот увидишь – смогу».
И правда, она смогла. Только это получилось потом.
Уже наступил вечер, когда Тася взяла бабушку за руку и быстро пошла с ней к воротам. «Я скоро вернусь», – сказала она папе.
Мы с папой долго смотрели им вслед из открытых дверей и видели, как Тася подошла к солдату, охранявшему ворота, что-то сказала ему и что-то такое дала ему.
А потом они с Идой – высокая прямая Тася впереди и маленькая сгорбленная Ида близко-близко за ее спиной – прошли через ворота и ушли совсем…
А мы с папой и с Куклой с чернильным носом остались в Тюрьме, в темном углу под лестницей, где лежало на полу бабушкино пальто. Без Таси нам было немножко страшно. И папа уговаривал меня не бояться, а я старалась уговорить Куклу.
Но Тася действительно вернулась – то ли ночью, то ли на следующее утро. Утром ей обязательно нужно было быть в Тюрьме, потому что по утрам всех мужчин, таких как мой папа, забирали на работу.
Солдаты стояли у самой двери и на «круг» не заходили. Боялись, наверное, испачкать свои боканчи в той желтой жиже, которая текла по полу.
Стояли у двери, тыкали пальцем во всех мужчин, которые попадались им на глаза, и кричали: «Ту! Ту! Ту!» – «Ты! Ты! Ты!»
И все, в кого они тыкали, должны были выходить во двор и строиться, как пионеры. На папу они не могли тыкнуть, потому что они его не видели. Мой папа все это время, пока они тыкали, лежал в углу под лестницей, накрытый всякими вещами, а мы с Тасей и с Куклой сидели у него на спине.
Когда солдаты уводили всех, на кого они тыкнули, папа вылезал из-под вещей, но из угла не высовывался.
Тася ему не разрешала, потому что те, которые уходили, обратно не возвращались.
«Они остаются на работе, – объясняла мне Тася. – Сиди тихо. Ты же не хочешь, чтобы твой папа остался на работе…»
Я сидела тихо.
Действие второе: «Концерт на Маразлиевской»
…куда ни кинешь глазом, кругом виселицы… наш город представляет собой страшное зрелище: город повешенных…
Свидетельство очевидца
Румыны в шоке
Одесса, 22 октября 1941 г. 17 часов 45 минут
Оглушительный взрыв потряс город.
Это взлетело на воздух здание НКВД на Маразлиевской, где в эти дни помещалась румынская Военная комендатура и штаб 10-й пехотной дивизии 4-й румынской армии.
Центр здания и правое крыло были полностью разрушены.
Под развалинами были погребены многие офицеры штаба и среди них военный комендант Одессы – командующий 10-й пехотной дивизией генерал Ион Глогоджану.
Румыны в шоке…
Стало как-то быстро темнеть, и сгущавшаяся темнота только усилила хаос и панику.
Около восьми часов вечера из развалин выбрался окровавленный заместитель командующего – генерал-майор Трестиореану. Оказавшись старшим по званию, он взял на себя обязанности военного коменданта и в первую очередь направил телеграмму командующему 4-й армией генералу Иосифу Якобичу[5].
В этой исторической телеграмме он сообщал о взрыве комендатуры и тех карательных мерах, которые собирается применить к виновникам взрыва… жидам и коммунистам.
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ТРЕСТИОРЕАНУ
22 октября 1941 г., 20 часов 40 минут
До настоящего времени генерал Глогоджану не найден. Видимо, находится под развалинами. Количество погибших и раненых невозможно определить…
Принял меры, чтобы повесить на площадях Одессы жидов и коммунистов.
Зам. командующего «ГУРУН», генерал Трестиореану
[Выделено нами. – Авт.]
«Меры», которые собирается применить Трестиореану, вызывают недоумение.
После взрыва прошло всего три часа.
Еще не развеялся дым, не осела пыль, не остыли камни.
Еще не замолкли крики заваленных обломками людей.
Военный комендант города не найден.
Число убитых и раненых неизвестно.
Сам Трестиореану чудом остался в живых.
Паника, хаос…
А генерал, едва приняв на себя обязанности военного коменданта, уже собирается повесить на площадях Одессы жидов и коммунистов?!
Ну, «коммунистов» – это можно еще как-то понять – какие-то коммунисты, наверное, были оставлены в городе при отступлении.
Но почему евреи?
Почему, прежде всего, евреи?
Что знал и чего не знал генерал Трестиореану?
У генерала, конечно, было «особое» отношение к евреям – ведь именно он отвечал за «очистку» города и именно ему 20 октября был представлен доклад о числе загнанных в Тюремный замок женщин и детей.
Но вот что касается взрыва, то не мог он не знать, что евреи как раз к этому взрыву не причастны. И, более того, румынское командование изначально опасалось, что здание НКВД заминировано, и прежде, чем занять его, провело тщательную проверку. Так, за четыре дня до взрыва, 18 октября 1941-го, здание проверяли саперы 11-й германской армии, а на следующий день, 19 октября, саперы 4-й румынской армии. И только после всех этих проверок, 20 октября, штаб 10-й пехотной дивизии перебрался из Тюремного замка, где поначалу расположился, на Маразлиевскую.
Но и на этом дело не кончилось. За день до взрыва, 21 октября, в комендатуру явилась некая Людмила Петрова и сообщила, что здание заминировано и что в закладке мин принимал участие ее сын – электрик по профессии. Эта невероятная история стала известна со слов нового градоначальника Одессы – примаря Германа Пыньти[6].
Герман Пыньтя, хитроватый бессарабец, юность свою провел в Одессе, учился здесь в царские времена в Новороссийском университете и, можно сказать, по-своему любил этот город.
Получив пост примаря, Пыньтя был несказанно горд. Он уже видел себя в когорте бессмертных, служивших Одессе и украсивших ее своими памятниками.
Дюк де Ришелье, граф Воронцов и… Герман Пыньтя.
Полный великих планов, 18 октября 1941 года Пыньтя прибыл в Одессу и сразу же обратился к жителям с призывом восстановить разрушенный войной город и возродить его былую славу: «Твердо веря, что наш призыв будет услышан и правильно понят, мы вместе с вами приступаем к тяжелому восстановительному труду. С Богом вперед!» [ «Одесская газета» № 1, 26 октября 1941-го.]
Все так прекрасно складывалось, и тут – этот взрыв!
Пыньтя нервничает, боится ответственности и направляет в Бухарест личное письмо маршалу Антонеску, в котором пытается на всякий случай возложить вину за случившееся на погибшего военного коменданта Глогоджану.
ИЗ ПИСЬМА ПЫНЬТИ
«21 октября в 11 часов, когда нижеподписавшийся находился в кабинете г-на генерала Глогоджану, сюда вошла русская женщина, которая заявила, что органы НКВД, при уходе, заминировали здание, чтобы в нужный момент взорвать…
Нижеподписавшийся служил переводчиком.
Господин генерал поблагодарил женщину и приказал полковнику Ионеску Ману принять меры по новой проверке здания.
На второй день, 22 октября, генерал сказал мне, что здание снова проверили и никакой опасности нет. Но я все же просил его поменять помещение…»
Пыньтя якобы просил Глогоджану «поменять помещение».
Но тот не внял его совету – уж очень комфортно, видимо, было генералу в этом… Доме на Маразлиевской…