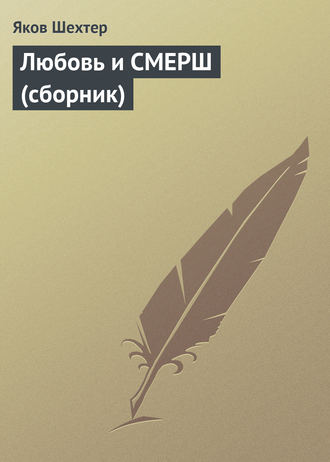
Яков Шехтер
Любовь и СМЕРШ (сборник)
Сёма завыл. Говорить он не мог, судороги икоты разрывали гортань. Тяжелые, словно расплавленный свинец, слезы наполнили рот.
– За что, – с трудом выдавил Сёма, – за что?!
Тень жалости промелькнула по лицу Вики.
– Неужели ты еще не понял, дурачок? – почти ласково сказала она. – Жена Лазаря ужасно ревнива, вот я и взяла тебя в дом, чтобы отвести подозрения.
Дверь захлопнулась. Жить дальше было совершенно незачем. Оставалось только решить, каким способом уйти из этого мира.
Долго мучиться Сёма не хотел, мгновенная смерть от яда или пули представлялась ему наиболее желанным исходом. Он сидел на скамейке и, устремив остановившийся взгляд на скалу Андромеды, соображал, где достать оружие. Как назло, голова плохо работала, мысли скакали, словно волны перед волнорезом, – с трудом собранные вместе, они тут же разлетались в стороны, будто морские чайки за кормой корабля. Пахло соленой водой, свежий ветер перебирал листья над головой у Сёмы, промокшая от слез рубашка холодила грудь, а он все сидел и сидел, не в силах сдвинуться с места…
В первой же аптеке Сёма купил снотворного – немного, потому что без рецепта. Поехал во вторую, третью. Через час он проглотил целую горсть выпрошенных у сердобольных аптекарей таблеток, запил водой из фонтанчика и снова уселся на скамейку. Ничто не изменилось: ветки над головой шуршали свою мелодию; тарахтя моторами, возвращались рыбачьи лодки с ночного лова. Он подумал: «Что будет с мамой?» Его похоронят скорее всего в Реховоте, где-нибудь у ограды, а может быть и нет, она будет приезжать к нему два раза в день, приносить свежее молоко, булочки, голландский сыр…
«Какое молоко, какие булочки, – оборвал себя Сёма. – Зачем ему голландский сыр, даже такой вкусный, как у Вики, она покупает его в магазине деликатесов, совсем недорого, а за сколько, вот за сколько, он никак не может сообразить, сколько же стоит голландский сыр, в русском магазине, прямо напротив остановки автобуса…»
Он попытался вспомнить вчерашний список покупок и тоже не сумел. Мысль могла охватить лишь близкое, расположенное прямо напротив глаз. Мир сузился до размеров век, с их черной бархатистой основы медленно стаивал серебристый оттиск списка покупок. Если быстро перефокусировать глаза – как бинокль – может, удастся рассмотреть, сколько же стоит голландский сыр, и кто стоит там, в глубине, за сиреневой завесой поперек бегущих облаков.
Послесловие
Если вы хотите спокойно покончить с собой – никогда не делайте этого в Тель-Авиве. Выберите какой-нибудь другой город, а лучше всего – другую страну. Евреи слишком любопытный народ, чтобы дать кому-нибудь умереть в одиночестве.
Не успела Сёмина голова склониться на грудь, как старичок, выгуливающий спозаранку свою собачку, заподозрил неладное.
Якобы влекомый собакой, он несколько минут описывал вокруг скамейки сужающиеся круги, пока не приблизился вплотную.
– Молодой человек, вам нехорошо? – спросил старичок, слегка встряхивая Сёму.
Сёма не ответил. Старичок повторил вопрос. Вновь не получив ответа, он с ловкостью старого сердечника прощупал пульс и побежал к телефонной будке.
Из больницы Сёма вышел совсем седым. Где витала его душа, к каким тайнам успела прикоснуться, в какие бездны заглянуть – никто не знает. Он развелся с Сагит, порвал старые связи и, неожиданно для всех, переехал жить в ешиву.
– Ход конем, – рассудили многоопытные родственники. – Лучше таскать груз заповедей, чем поддон с кирпичами. Идиёт, идиёт, а свою пользу знает!
– Еще один паразит, – постановил Лазарь. – Впрочем, он всегда норовил на дармовщинку.
– Самые злые критики выходят из неудавшихся писателей, – решила журналистская компания Вики. – Вот выучится Сёма на раввина и будет нас, многогрешных, учить уму-разуму. Со всей беспощадностью неофита.
Мама несколько дней плакала и рылась в семейном альбоме. Отыскав пожелтевшую фотографию сурового старика в высокой черной ермолке, она успокоилась.
– Сёмин прадедушка был старостой синагоги, – сказала она папе. – Может, это у него фамильное…
И лишь Овадия, узнав о безрассудном поступке бывшего зятя, уважительно покачал головой.
Учение у Сёмы не пошло. На уроках он моментально засыпал, а разобрать лист Талмуда было для него непосильной задачей.
Через полгода он сдался и устроился на работу в той же ешиве.
Сёма моет полы, чистит кастрюли, сдает в стирку белье. От брачных предложений он отказывается наотрез; женщины его больше не интересуют. Живет он в маленькой комнатке подвального типа на первом этаже ешивы. Все заработанные деньги Сёма тратит на ешиботников, покупает им лакомства, чтобы лучше учились, новые галстуки, носовые платки. Он по-прежнему посещает уроки и по-прежнему засыпает после второй фразы преподавателя.
На вопросы любопытных Сёма отвечает:
– Душа… душа слышит…
Ешиботники за глаза называют его праведником и перед экзаменами приходят просить благословения.
– Какое еще благословение, – ворчит Сёма, – учиться нужно как следует…
Прошлое словно стерлось из его памяти. Иногда ему кажется, будто он родился и вырос здесь, в цокольном этаже ешивы. Плавное течение дней перемежают спокойные ночи; большой мир, наполненный опасностями и соблазнами, бушует снаружи, не в силах прорвать старые, толстые стены. Во сне Сёму навещают давно умершие раввины в шелковых сюртуках и шапках из лисьего меха. Они присаживаются на краешек кровати и, раскачиваясь, толкуют о заповеди «Не убий».
Перед самым рассветом Сёма просыпается и долго лежит с открытыми глазами, прислушиваясь к стуку собственного сердца.
Страшная гостья больше не приходит, он наконец обрел то, что безуспешно искал под хупой и в объятиях Виктории.
И лишь когда зимние тучи закрывают небо над Бней-Браком, а в его каморке становится темно, как в подвале, Сёма подходит к клетке с попугаем и перебирает прутья холодными пальцами.
Прутья звенят, словно голосок Лукреции. Попугай высовывает голову из-под крыла и кричит, подражая бывшей хозяйке:
– Ради всего святого, Соломон!
– Ради всего святого, – отвечает Сёма и горько, горько плачет.
Мэтр и Большая Берта
фуга в ми мажоре
…и шестикрылый серафим на перепутье мне явился…
А. С. Пушкин
«Религиозная. Совсем девчонка. Длинная синяя юбка из блестящего, льющегося материала, белая блузка с рукавами до запястий. Ворот застегнут по самое горло на ровные, глянцевые пуговички в три ряда.
Глаза – огромные, миндалевидные, брови как мохнатые шнурочки, припухлые губы без тени помады, ей бы еще шоколадки грызть или что они тут грызут, ан нет, уже выгнуты в преддверии поцелуев.
Нос, правда, можно уменьшить. Сейчас недорого берут, раз-два и какой хотите, с горбинкой или прямой аристократический. А вот грудь не мешало бы приободрить…
Восточная, наверное. Кожа хоть и светлая, но с темным налетом. Говорят, они как огонь, если приручишь. Где там, приручишь, ишь, косится, словно испуганная газель. А волосы собрала пучком на затылке, будто чеховская курсистка.
Хороши волосы! Густые, с блеском. На шампуни небось не жалеет. С деньгами проблем нет – такую кожаную сумку не всякий себе позволит. Значит, и на шампуни хватает. Конечно, хватает, вон как блестят, а пахнут, наверное, хвоей, будто нагретый солнцем бор в середине августа».
Все это просмотрел и продумал за несколько секунд журналист крупной тель-авивской газеты Аркадий Межиров, потея в автобусе кооператива «Эгед». Он стоял в конце прохода, устало повиснув на поручне, и от нечего делать разглядывал девушку. Ехали они вместе уже давно, но синее марево компьютерного экрана, перед которым Аркадий просидел десять часов, только сейчас расступилось, нехотя отпустив сначала девушку на переднем плане, а за ней других пассажиров, водителя, огни светофоров и лакированные спины машин. Девушка была симпатичной, нет, красивой, очень красивой, и Аркадий рассматривал ее с явным удовольствием. Удовольствие, впрочем, носило чисто платонический характер – шансов на сближение с красоткой было не больше чем на флирт с Венерой Милосской.
В автобусе работал кондиционер, но рука, сжимавшая поручень, все равно потела, и горячие капли стекали прямо под мышку. Возвращался Аркадий из редакции перечерканный, словно многократно правленный текст. Девушка лишь на минуту привлекла его внимание, он опустил глаза и вернулся к своим мыслям, серым и мятым, как дешевая туалетная бумага.
Работа выжимала из него все соки, заодно с той, не взвешиваемой, но весьма весомой субстанцией, именуемой «душа». Дни до рвоты походили один на другой; девять, десять часов в редакции, расслабуха с приятелями под водку и приевшиеся закуски, выходные, заполненные не приносящим облегчения сном. Хозяин газеты требовал от Аркадия две полосы в день, двенадцать в неделю, сорок восемь в месяц. И он давал, поскольку мыть туалеты на бензоколонках или подтирать сморщенные стариковские задницы было еще противней.
Писал Аркадий спинным мозгом, отключив голову, но получалось неплохо, зло и с оттягом; многим нравилось. Не нравилось только самому Аркадию, да деваться было некуда, и он строчил, дурея от мерцания экрана, а вечером тяжело и мучительно отходил, переживая нечто среднее между похмельем и угрызениями совести.
Он еще раз взглянул на девушку; осталось только рассмотреть пальцы, чтобы понять о ней все. Словно подвигаясь к выходу, Аркадий сделал несколько осторожных шагов, придвинувшись почти вплотную к объекту наблюдения. Объект разжал кулачок и брезгливо отодвинул руку. Ладонь раскрылась всего на несколько мгновений, но этого оказалось достаточно – ногти были выгрызены почти до мяса.
«Фикция, все фикция, – сурово отметил Аркадий. – И длинная юбка, и стыдливые пуговички у ворота. Под ними бушуют вполне понятные страсти, и пальчики эти наверняка уже проложили дорогу в другие, более заповедные места».
Он зажмурился, представив прохладные ложбины, тенистые бугорки, плавное течение воды, неспешно и влажно перебирающее водоросли на краю омута, мерное поскрипывание уключин и внезапный, как всегда, обвал комьев, от самой кромки обрыва прямо туда, в воспаленно дрожащее зеркало.
«А ведь тоже, учить начнет. Просвещать, указывать. Возлюби ближнего вместо самого себя! Но как главу государства убивать, так тут как тут, фарисеи недобитые. В Тель-Авив с поселений, небось, прикатила, вон кроссовки грязью перепачканы, а где ее отыщешь летом в Тель-Авиве, грязь-то?»
Он опустил голову и принялся укоризненно разглядывать перепачканные кроссовки.
«Привести себя в порядок некогда. До того ли! Все великие идеи в голове, планы миссионерские, по массовому возврату населения в лоно иудаизма. Обидно только, что такая хорошенькая!»
Девушка заметила наконец косые взгляды Аркадия и смутилась. Левой рукой она крепко прижала сумку, а правую, отпустив поручень, испуганно поднесла к груди. Было в ее смущении нечто чрезмерное, избыточное для простой автобусной переглядки.
«Интересно, что она прячет? Не деньги ведь, откуда у такой пигалицы большие деньги. Хотя, может, они большие только в ее представлении.
А может, – фантазия Аркадия, натренированная непрерывным писанием детективно-приключенческой бурды, понеслась вскачь, – может, там револьвер, листовки и план убийства нынешнего премьера».
Честно говоря, против убийства нынешнего премьера Аркадий не возражал, но смущение девушки и вправду перешло границы нормального, а на лице появилась гримаса совсем не нафантазированного страха.
«Ишь ты! – удивился Аркадий, отводя глаза и делая равнодушное лицо, – может, она меня за полицейского агента принимает, за провокатора. Морда моя в самый раз для такого дела; тусклая, без особых примет, если чем и выделяюсь, то трехдневной щетиной. А что бриться человеку больно, что кожа раздражается на жаре – понять не может. Писюшка наивная, но мысли исключительно о великом. Хлебом не корми, дай Отечество поспасать».
Провокатор! Перед глазами поплыли проулки южного Тель-Авива, сумрачные фасады старых домов на Алленби, таинственные лица заговорщиков в больших вязаных кипах, пакеты из плотной коричневой бумаги, «случайно» забытые на скамейке бульвара Ротшильд, и вообще весь сопутствующий сыску видовой ряд.
Мысль, поначалу безумная, стала нравиться ему все больше и больше. Он примерил на себя шпионское платье: надвинул поглубже серую шляпу, чуть приспустил темные очки и небрежно оттопырил руку с зонтиком-тростью, в недрах которого скрывались кинжал, портативный радиопередатчик и складной пулемет. Губы сами собой сложились в презрительную улыбку, а щетина на щеках встала дыбом, словно шерсть на спине у кота. Роль ему нравилась. Было в ней что-то от настоящей жизни, подлинное, как бергамотовый запах лондонского чая «Еаrl Grеy».
Он поднял голову и бросил осторожный взгляд на девицу. Перемена, произошедшая с Аркадием, испугала ее до неприличия. Пухлые губы задрожали. Вцепившись обеими руками в сумку, она бросилась к выходу.
«Нет, точно заговорщица, – подумал Аркадий. – Иначе с чего так мельтешить?»
Он взглянул в окно. Автобус давно проехал нужную остановку, приключение затянулось, пора было возвращаться.
Не обращая внимания на возмущенные взгляды и возгласы, Аркадий протолкался к выходу и выскочил на горячий асфальт тротуара. Девушка успела отбежать довольно далеко. Аркадий улыбнулся и вдруг, вместо того чтобы перейти на другую сторону улицы, к остановке автобуса, идущего в обратном направлении, припустил вслед за ней.
«А что, – подумал он на бегу, – славненько может получиться. Глядишь, и материал подсоберется, не все же лапу сосать».
Лапа, по правде говоря, была обсосана до самой кости. В ход пошли воспоминания детства, студенческие шутки и споры, анекдоты, рассказы родственников, друзей и случайных попутчиков – газета, будто гигантские жернова, перемолола жизнь Аркадия. Впечатления безвозвратно покидали организм, оставляя бледное пятно, словно закрытая для использования функция на экране компьютера. А тут материал сам шел, нет, сам бежал в руки, красивый, изящный, легконогий материал.
Перед столиками кафе, вынесенными прямо на тротуар, преследуемый объект приостановился и, обернувшись, взглянул прямо на Аркадия.
Бедная, наверное, она надеялась, что происходящее – просто игра ее воображения или случайное стечение обстоятельств. Увы, уколовшись о трехдневную щетину преследователя, надежда лопнула, словно воздушный шарик.
«Шалишь», – подумал Аркадий и, чтоб наподдать жару, грозно насупил брови.
Роль преследователя нравилась ему все больше и больше. Он тут же вообразил открытый процесс над выслеженными по его наводке членами еврейского подполья: «встать, суд идет», «последнее слово» и прочие атрибуты юридического протокола поползли муравьями вдоль позвоночника. Не славы, не славы искал Аркадий, а хлеба, скромного хлеба насущного, смоченного слезами и спинномозговой жидкостью.
«Б-р-р-р», – он представил себе такой кусочек и скривился, словно уже откусил и должен проглотить.
Девушку этот жест привел в настоящее отчаяние. Мотнув головой, она побежала напрямик сквозь кафе, грациозно лавируя между ногами посетителей и спинками стульев. Аркадий ломанулся было за ней, но его остановил официант, чернявый парнишка в белой форменной куртке. Куртка была плохо застегнута, и обильная для такого возраста растительность торчала из прорех на груди.
– Тут нет прохода, – вежливо, но твердо сказал официант, – обойди сбоку.
«Обойди, обойди, вот последить за тобой хорошенько, тоже найдется что сообщить. И счета небось завышаешь, и сдачу недодаешь, и порции заодно с поваром уменьшаешь. Воришка, жулье ресторанное!»
Обойти, конечно, пришлось – не драться же, в самом деле, с официантом, но девушка успела скрыться за углом дома. Пройдя на рысях последние двести метров и подняв с карниза, судя по шуму крыльев, целую стаю голубей, Аркадий настиг беглянку у двери парадного. Он подбежал почти вплотную, когда девушка юркнула внутрь и, бросив «негодяй!» прямо в лицо преследователю, захлопнула дверь.
«Негодяй» – наивное слово, из лексикона гимназисток и курсисточек. Детским садом пахнет, институтом благородных девиц. В Израиле он по-другому называется, Бейт-Яаков, дом Якова. Кстати, какой тут номер дома, надо бы записать…
Он огляделся: скудно освещенная улица, струи желтого света из редко расставленных фонарей тонут в пыльном кустарнике. Сплошной ряд машин вдоль тротуаров, мусор на мостовой. Жалюзи на окнах полуприкрыты, негромко звучит музыка, блюз, тихая раскачка, с носка на пятку, с носка на пятку…
«Номер, куда же запропастился номер. Вот он, лампочка разбита, но разглядеть можно. Итак, фиксируем – адрес подпольной квартиры: улица Пророков Израилевых, дом…»
Дверь отворилась. Нет, растворилась, словно всосанная гигантским пылесосом, бесшумно включившимся в глубине парадного. Воздух слегка вздрогнул, и на пороге возникли двое: чернявые, с нестриженными бородами и большими кипами на головах.
Дальше смутно. Темные улицы, топот преследователей, горячий, утративший кислород воздух, собачье дерьмо, прилипшее к сандалиям. Остановился Аркадий только на Алленби, возле полицейского джипа. Прислонился к синему борту и прерывисто задышал, проклиная сигареты, сидячий образ жизни и религиозный сионизм.
– Сержант Замир, – представился полицейский, осторожно тормоша Аркадия. – Что случилось?
Аркадий оглянулся. На улице никого не было; после закрытия магазинов шумная Алленби затихала, словно больной ребенок, принявший лекарство. Религиозные исчезли, точно их никогда не существовало. С внезапно возникшим опасением Аркадий принялся вспоминать подробности: да, большие вязаные кипы, бороды – он и сам по молодости ходил с бородой, как запустил на третьем курсе, так и не расставался, до самого развода – белые рубашки навыпуск, демонстративно свисающие кисточки цицит.
– Вызвать «скорую», – двое полицейских совещались, внимательно рассматривая лицо Аркадия, – или отвезти в участок, пусть там разбираются.
– Нет, нет, спасибо, все в порядке, – он даже слегка поклонился, – уже прошло.
«Замир, все они за мир, патриоты хреновы. Твари копченые, кто ж у нас в полиции служит, как не эти, с дерева слезли и туда же, за мир, за мир».
– Авишай, – второй полицейский, по всей видимости, был старшим, в голосе Замира явно проскальзывало подобострастие, – на пьяного не похож, вкололся, видать, и бегает в поисках приключений.
– Сажай его в машину, повезем в участок, – нехотя отозвался Авишай.
Полицейский поправил фуражку и начальственно ухватил Аркадия за руку.
– Садись.
Из-под форменной фуражки выполз замусоленный краешек вязаной кипы.
«Игаль Замир», – прочитал Аркадий на блестящей металлической пластинке, прикрепленной на груди полицейского, и вздрогнул от ужаса.
«Вот они где, как обошли меня, как подгадали. А я-то хорош, защиту прибежал искать, поддержку. Сейчас помогут, поддержат…»
– Да не надо, – взмолился Аркадий, вырывая руку, – отпустите, я тут живу на соседней улице.
На соседней улице жила Берта, старая подружка Аркадия.
– На соседней улице, – недоверчиво переспросил полицейский, – сможешь добраться?
– Возле рынка, раз-два, и там, – настаивал Аркадий. – Да я с работы, умаялся за день, сплю на ходу.
Он вытащил удостоверение журналиста и помахал им, словно тысячедолларовым банкнотом. Денег таких ему сроду держать не приходилось, но помогли фильмы и богатое воображение.
Замир осторожно вытащил из пальцев Аркадия пластиковый квадратик и передал Авишаю.
– Действительно, журналист. Куда пишешь, в «Едиет» или «Маарив»?
– Да я в русской газете работаю, для эмигрантов, вы не читаете, – голос Аркадия слегка вибрировал, – мне еще номер сдавать, к двенадцати. Пустите отдохнуть, вздремнуть пару часов.
– Ну, иди, – Авишай вернул удостоверение и, утратив интерес, полез в машину.
– Счастливо, – улыбнулся Замир. – Хороших снов.
Горячий желтый свет обливал элегантные костюмы на столь же элегантных манекенах, матово светились белые рубашки, вальяжно расстегнутые верхние пуговицы обнажали розовую пластмассу. Витрины жили своей отдельной жизнью; лились, никуда не впадая, потоки воды по затейливо изогнутым трубкам магазина «Душа душа», таинственно мерцали серебряные подсвечники и кубки на полках «Аксессуаров святости», хищно улыбались красотки с глянцевых обложек журналов мод. По тротуару, играя и пенясь, ползла темная полоска; пьяный румынский рабочий мочился прямо на асфальт.
«Вот обнаглел, – подумал Аркадий, – такая струя, и на виду у полицейских».
Он оглянулся. За спиной никого не было. Джип вместе с сержантом Замиром и его немногословным начальником испарился подчистую, словно вода в Мертвом море.
«Ловкачи, шустрые ловкачи. Покатили небось на улицу Пророков Израилевых, рассказывать, как провели простачка…»
Аркадий задохнулся от ужаса.
«Замир удостоверение видел, значит, запомнил фамилию. То-то пялился, перед глазами вертел. Идиот, какой же ты идиот!»
Он прислонился к витрине и отер проступивший пот. Стекло чуть вибрировало, наверное, внутри магазина работал забытый кондиционер.
«Б-же мой, какие полицейские, какие заговорщики. Аркадий, ты сходишь с ума, ты просто сходишь с ума!»
Он нащупал в кармане пачку сигарет.
«А ведь как могло быть славно: вернуться домой, попить ледяной колы из „голодильника“, перекусить чем найдется и на диван с сигаретой. Музычку, желательно Баха, синие завитки дыма, иней на зеленых крышах, свист ветра в черных голых деревьях, промерзшие стены старых соборов. А потом тишина, до самого утра тишина, лишь равномерный стук капель из крана на кухне. Починить, но когда… И так славно, так уютно, без суетливых знакомых, наглых работодателей, завистливых друзей, неверных женщин».
– Цигаретен, сигаретен! – румын помахивал рукой перед самым лицом Аркадия. – Пожялуйста, – он поднес руки к горлу и сжал, будто хотел покончить с собой столь оригинальным способом.
Аркадий усмехнулся. Это он понимает. Сколько раз сам задыхался без живительного дымка, особенно в подпитии.
Он вытащил пачку и протянул румыну. Покачиваясь, тот принялся ковыряться в ней неуклюжими пальцами разнорабочего. Аркадий вспомнил струю и, брезгливо улыбаясь, отдал румыну всю пачку.
– Спасьибо, дрюг!
«Понес тебя черт за этой девчонкой. Напридумал, накрутил шпионские страсти, сорок бочек бакинских комиссаров. Сдаешь, старик, сдаешь…»
Румын с достоинством принял протянутую пачку, надорвав края, вытащил сигарету, прикурил и, почти не качаясь, двинулся прямиком на красный свет светофора.
Аркадий встревоженно огляделся по сторонам. Алленби по-прежнему была пуста, водители, как видно, предпочитали не столь загроможденные светофорами маршруты.
Он посмотрел на другую сторону. Румын пропал. Куда можно исчезнуть на залитой огнями витрин улице?
«Ну и хрен с ним, одним румыном меньше, одним больше… Какая разница для железной поступи прогресса».
Аркадий отлепился от витрины и заглянул внутрь. Зоомагазин. За стеклом аквариума, энергично шевеля хвостами, сновали разноцветные рыбы. Вид у них был весьма деловой; как видно, незамысловатые для постороннего глаза проблемы рыбьего существования требовали, тем не менее, значительных усилий.
В голубом полумраке громоздились клетки со всякой живностью; попугаи наихитрейших расцветок, котята, щенки. Взъерошенный рыжий котенок привлек внимание Аркадия: высунув из клетки лапку с растопыренными когтями, он тревожно рассматривал кого-то в глубине магазина. Аркадий проследил за его взглядом – на полу противоположной клетки, удобно пристроившись друг к другу, дремало хомячиное семейство. Лапка котенка, протянутая к недостижимой добыче, беспомощно вздрагивала, являя собой овеществленный символ тщеты и бессмыслицы земной суеты.
«Звери, мойте лапы… В третьем классе он дружил с соседкой по парте, курносенькой, веснушчатой Ритой. Она ему безумно нравилась, и он ей тоже. Дружили совсем по-детски, без поцелуев и прочих знаков внимания, но наедине он вполне серьезно уговаривал ее пожениться. Рита смеялась, приоткрывая нежную полоску верхней десны и норовила щелкнуть его по носу.
– Фантазеркин, обманщик и водолей.
Он клялся в вечной любви, Рита не верила, требовала доказательств, он клялся снова, Рита опять смеялась, а время неслось и пропадало так, словно кто-то толкал изо всех сил часовую стрелку.
Они много гуляли, он катал ее на санках, самозабвенно, часами, без малейших признаков усталости. Потом Рита приглашала его обедать, они вваливались в маленькую прихожую ее квартиры, сбивали снег с ботинок, смеялись, подталкивая друг друга.
– Звери, мойте лапы, – кричала из кухни Ритина мама, – обед на столе.
Потом все распалось; честно говоря, он даже не помнит почему. В памяти остались только снег, скрип полозьев и „звери, мойте лапы“.
Рита стала модельером, деловой женщиной. После перестройки открыла сеть магазинов одежды. Полгода назад ее застрелили на пороге собственного ателье».
Он еще несколько минут понаблюдал за безмолвной суетой рыб, стараясь не смотреть на котенка, поскрипел, сам не понимая для чего, ногтями по стеклу витрины и побрел в сторону рынка.
* * *
Берта снимала подвал прямо посреди торговой зоны. В зарешеченные окошки, расположенные под самым потолком, днем заглядывали ноги прохожих, а ночью – жирные рыночные коты. Летом в подвале было жарко, зимой сыро, но сдавали его Берте за такую скромную сумму, что жалеть не приходилось. Злые языки утверждали, будто истинной платой за квартиру является Бертина скромность, но кто их проверял, злые эти языки. Впрочем, Берта, в ответ на намеки и подхихикиванья, заявляла напрямик:
– Да, даю. И не только ему. А стыдиться тут нечего – на мне выросло, значит мое.
По женской части Берта не задалась. Щупленькая, коротко стриженная под мальчика, в круглых очках «а-ля Леннон». Зимой джинсы и серый свитер в обтяжку, летом шорты и серая маечка. Обтягивать, честно говоря, было почти нечего, так, шарики для пинг-понга и две бадминтонные ракетки, но на отсутствие мужского внимания их обладательница не жаловалась. Скорее наоборот, спрос намного превышал предложение.
Работала Берта компьютерным графиком, а свободные силы души отдавала сочинению оперных либретто. Занималась она чистым искусством, поскольку музыку ни к одному из либретто пока не успели сочинить.
Но и помимо музыки проблем хватало. Берта разрабатывала ею же придуманный жанр – опера ужасов. Темы она выбирала исключительно пионерские: «Утро Трофима Морозова» или «Пляшущие октябрята». Неграмотным, коих, к сожалению, большинство, с полупрезрением сообщалось, что папу невинно убиенного Павлика звали Трофимом, а водка, для непонятливых, за углом продается.
– И что мне в этой шалаве, – регулярно спрашивал себя Аркадий, но столь же регулярно усаживаясь в подобранное на мусорке продавленное кресло, к собственному удивлению, ощущал некоторый уют и приязнь.
Предприимчивый владелец подвала установил гипсовые, не доходящие до потолка перегородки, превратив бывшее складское помещение в подобие трехкомнатной квартиры. Подобие, поскольку любые запахи и звуки, включая туалетные, одинаково хорошо были слышны в любом уголке. Посреди самой маленькой из образовавшихся клетушек Берта бросила на пол матрас и подушки, это называлась спальней; в чуть большей удобно расположился стол с компьютером, а в самой большой принимали гостей. Берта повесила на стены эскизы декораций к опере «Костер пионеров», разбросала по углам холодильник, газовую плиту, этажерку с книгами, водрузила посредине стол с перевязанными проволокой ногами и зажила.
Единственное, что менялось в обстановке подвала – это Бертины сожители. Одни приходили сюда на ночь, а исчезали через неделю, с тихой улыбкой сбывшихся ожиданий. Другие уверенно поселялись навечно и пропадали на следующий день. Постоянство, причем без всяких к тому усилий, получил только Аркадий. От щедрот Берты ему перепадало практически всегда, вне зависимости от того, был ли у нее в тот момент постоянный приятель. Иногда Аркадий даже перебирался к ней на несколько недель, а то и месяцев, но в конце концов не выдерживал и сбегал. Его приходы и уходы Берта воспринимала с деланным равнодушием. Лишь однажды, на дне рождения лучшей подруги, обнаружив пьяненького Аркадия в объятиях виновницы торжества, заметила в пространство:
– Не люблю терять вещи. Ищешь, ищешь, сходишь с ума от беспокойства, и все для того, чтобы потом обнаружить на ком-нибудь дорогой сердцу предмет.
Последним Бертиным кавалером был ревнивый владелец деликатесного магазина Валик. На Аркадия он косился нехорошо и злобно, то ли что подозревая, то ли прослышав от добрых людей про особый тип его отношений с Бертой.
«Зачем портить человеку настроение», – решил Аркадий и перестал приходить.
Берта звонила, выспрашивала, просила прощения, не понимая, впрочем, за что, но удовольствие видеть рожу Валика перевешивало даже сексуальный голод. И не пошел бы он никогда, тоже, понимаешь, товар, подсушенные прелести Берты, но эти двое, эти бакинские комиссары, переполошили, взбаламутили старые страхи и мании.
Под ногами захрустело. Значит, уже рынок. До полуночи будут сновать уборщики, собирая вываленные прямо на мостовую фрукты и овощи, потом пройдут со шлангом, смывая тугой струей все, что не заметили и пропустили. Утром на влажных от росы и ночного полива тротуарах снова раскинется пестрое, невообразимое богатство восточного рынка, с безумными выкриками продавцов, степенными покупателями, баррикадами еды, одежды, дешевой косметики, книг, будильников, видеокассет, портретами праведников и полуголых красоток, грохотом и звоном басурманской музыки.
Дверь в подвал, как всегда, была полуоткрыта.
– Аркаша, солнышко! – Берта поспешила навстречу.
Ну и: те же джинсы, та же маечка, тот же набор восклицаний и междометий. Он сухо прикоснулся губами к подставленной щеке и направился прямо к любимому креслу. Кресло оказалось занятым. У колченогого стола, уставленного дешевой снедью, удобно расположились двое.
– А где Валик?
– Иных уж нет… – Берта неопределенно помахала рукой, словно прощаясь с кем-то, только что улетевшим на помеле.
– Мэтр, – подал голос узурпатор из кресла, – присоединяйся.
Аркадий краем глаза был с ним знаком. Литературный мальчик хорошо за сорок, вечно бегал по редакциям, разнося чужое и пытаясь пристроить свое. Коротко, почти налысо стрижен, серьга в ухе, выбрит до синевы. Изъяснялся он дроблеными фразами, замолкая после каждой на долю секунды, словно готовясь угодливо прерваться в любой момент. Недавно редактор газеты, где работал Аркадий, не выдержав нажима, опубликовал один мальчуковый рассказ. Назывался он вполне авангардистски – «Дефекация». На трех страничках мальчонка описывал, как он делает, рассматривает, обнюхивает и подтирается. Заканчивался текст призывом запасаться туалетной бумагой, поскольку, не сумев достойно принять большую алию, Израиль скоро захлебнется в собственном дерьме.







