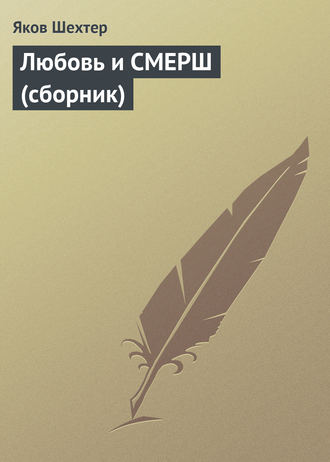
Яков Шехтер
Любовь и СМЕРШ (сборник)
Трубы прочистили, слупив за это ощутимую сумму, и когда фимиам фекалий окончательно выветрился, хильбе вернулось на свое место. Наверное, оно угнездилось в теле Сагит уже на генетическом уровне, осело в порах старых деревьев, пропитало стены.
«Даже если сжечь дом, – думал Сёма, – выкорчевать сад и перепахать землю, то все равно розы, посаженные на этом месте, будут пахнуть плохо выстиранными трусами».
Бесконечное распивание кофе отравляло его существование не меньше, чем хильбе. Кофе варили по любому поводу: обжигающе горячий, крепкий, с кардамоном. Первое время Сёма пил наравне со всеми, но скоро почувствовал, что поры его тела закупорены хрусткими коричневыми крупинками.
В Калараше Сёма употреблял исключительно чай. Горячая душистая влага распаривала кожу, выгоняя вместе с потом раздражение и обиды. Чай успокаивал, очищал, а от кофе Сёма становился нервным и озабоченным. Впрочем, оставаться спокойным в присутствии братьев Сагит можно было лишь после полной резекции нервной системы. Разговаривали братья только криком; любой завалящий вопрос обсуждался на пределе возможностей голосовых связок. Эти смуглые, цвета молочного шоколада ребята обладали завидным душевным здоровьем, энергия клокотала в них, словно бульон в кастрюле с закрытой крышкой. Выпускной клапан периодически открывался – размахивая руками, братья приносили мыслимые и немыслимые клятвы в доказательство своей правоты и, страшно закатывая глаза, били себя в грудь, как бабуины. Впрочем, спорили они беззлобно, если не сказать добродушно: крик представлял всего только форму, в которую с легкостью укладывалось любое содержание. Наоравшись, братья пили кофе и, маленько передохнув, принимались за новую тему. Сидели они на скамейке под окнами, кружевная тень, опускаясь на лица, создавала подобие боевой раскраски. Стекла окон время от времени нервно вздрагивали, будто при небольшом землетрясении.
Кофе для братьев варила Сагит. Сёма несколько раз запрещал ей обслуживать этих бездельников, но ни грозный тон, ни даже сурово насупленные брови не возымели должного воздействия.
Родственные связи явно перевешивали. Не раз и не два Сёма поворачивался к стене и засыпал в одиночестве, крепко подоткнув одеяло в знак отчуждения и обиды.
– Ах, – шептал он, прижав губы к подушке, – если б она только присела на край кровати, если б прижалась щекой к спине или просто просунула руку под одеяло, без слов, молча, тихонько посапывая носиком, – он простил бы ей все: и непокорность, и дурацкие правила семейной чистоты.
Но такого за всю их недолгую супружескую жизнь ни разу не произошло.
Сагит была переполнена суевериями. Обычаи и привычки, привезенные родителями Овадии из средневекового Йемена, составляли основу ее мировоззрения. Она свято верила в существование туалетного беса и не позволяла Сёме прикасаться к еде, пока он тщательно не ополаскивал руки из большой медной кружки с двумя позеленевшими ручками. Добавить молока в кофе после мясного обеда казалось ей страшным преступлением, а по мало-мальски серьезным вопросам она бегала советоваться к «хахаму» – старому тейманцу с седыми пейсами. При этом Сагит не считала себя религиозной; по субботам курила и до глубокой ночи смотрела телевизор.
«Деревня, – свысока улыбался Сёма, – пережитки феодализма».
Но как ни смейся, ему становилось не по себе от мысли, что дедушка его жены разжигал костер в самолете по дороге из Йемена в Израиль.
Возвращаясь с работы вместе с Овадией, Сёма искоса поглядывал на коричневый профиль тестя и с ужасом находил все больше общих черт со смешной коричневой обезьянкой.
Лицо и волосы Овадии покрывал мелкий иней известки.
– Мы с вами сегодня, папа, одинаково небрежны, – говорил Сёма, улыбаясь собственному неоцененному остроумию.
Овадия смотрел на свои руки, обтянутые белой сеткой застывшей в глубоких морщинах известки и согласно кивал головой.
Со всем этим еще как-то можно было мириться. Но самым нестерпимым, обидным и несправедливым оказались принципы семейной жизни. Если б только Сёма узнал, какой умник вбил в голову Сагит такую чушь, он бы, честное слово, не пожалел денег и нанял арабов из Газы отмутузить до полусмерти непрошеного советчика.
В первый же день месячных Сагит перебиралась на отдельную кровать и не подпускала Сёму две долгих недели. Нельзя было не то что поцеловать или пожулькать, а просто прикоснуться пальцем. В конце срока она отправлялась в микву и, возвращаясь, демонстративно перестилала белье на общей кровати.
– Наверное, в Йемене не хватало пресной воды, – злобно шипел Сёма, – вот твои бабушки и привыкли мыться один раз в месяц.
– Гой, – отвечала Сагит. – Дремучий, невежественный молдаванин. Давай, я запишу тебя на полгода в ешиву, может, перестанешь болтать глупости.
Ах, как это было обидно! Ворочаясь на пустой койке, Сёма окончательно уступил демону сомнений и скромный вопрос, висевший где-то у края обозреваемого сознанием пространства, вдруг превратился в главную проблему жизни.
Как порядочный еврейский муж, все заработанные деньги Сёма отдавал жене. Сагит мечтала о собственном домике, пусть небольшом, но отдельном. Собственный домик стоил безумно дорого, и поэтому она ввела режим строжайшей экономии.
Вечерние огни большого Тель-Авива, маняще помигав, вновь отдалились и мерцали где-то там, в туманном «после того, как купим дом». В итоге Сёма работал на двух работах, а по ночам высчитывал, сколько осталось до очередной миквы. Перед рассветом, когда тихое дыхание Сагит становилось почти неразличимым, приходила Лукреция. Жалобно сложив руки у ворота, она вновь молила о пощаде. Выдержать такое счастье мог только самый безоглядный оптимист.
Говорят, что человек окружен посланцами нечистой силы, словно дерево корой. Они слетаются на поступки, будто осы на малиновый сироп, трутся об ноги, как голодные коты. Размышляя о вечере, перевернувшем его жизнь, Сёма пришел к выводу, что беседовал и пил водку не со школьным приятелем Лёней, а с носителем злого начала, чертом.
Халтура в тот день закончилась сравнительно рано, и Сёма решил, наконец, помыть машину не тряпкой у забора, а в автосалоне. Пока две девчушки в красных комбинезонах драили и терли старую шкуру «Фиата», Сёма сидел в пластмассовом кресле и, попивая «Колу», лениво оценивал их женские достоинства.
– Сёмулика! – проревел за его спиной убежавший с пастбища осел. – Узнаешь друга Лазаря? Приглядевшись, Сёма с трудом опознал в толстом мужчине с лоснящимися щеками своего одноклассника Лёнчика. Много лет назад они вместе собирали марки, дрались, обменивались магнитофонными записями, курили за школой первые, вытащенные из отцовских карманов папиросы – словом, вели нормальный образ жизни, именуемый в литературе счастливым детством.
– Эк тебя разнесло, – сказал Сёма, осторожно протягивая руку. – Ты не по торговой линии пошел?
Отпихнув руку в сторону, Лёнчик с глухим хрюканьем обнял Сёму и принялся тыкать его носом в перхоть на воротнике своей черной кожаной куртки.
– Друг, – ревел он, – сколько лет… а помнишь… а Светка Плавская умерла от белокровия… а наши почти все здесь… про тебя говорят – защемился на шиксе… врут, гады, все врут… пойдем, посидим тут рядом, а бочковое, а холодное, сколько лет, друг!
От него пахло потом, крепким одеколоном и табаком. Сёма забился, как куренок под ножом резника, но все попытки освободиться ни к чему не привели – Лёнчик держал его мертвой хваткой.
– Узнаю, – прохрипел наконец Сёма, – узнаю друга Лёню. – Отпусти, кости сломаешь.
Ленчик разомкнул руки и счастливо улыбнулся.
– А ты все такой же, щуплый и с большими ушами. Я тебя по ним сразу узнал. А меня вот, прибавилось.
Он с удовольствием похлопал себя по брюшку и зареготал, как жеребец во время случки. В профиль Лёнчик удивительно походил на букву «я».
– Только знаешь, – он понизил голос до доверительного шепота, – а называй меня теперь Лазарем. С волками жить, сам понимаешь…
«Тут рядом» оказалось восточным рестораном, и к пиву в качестве закуски подали стандартный средиземноморский набор: коричневые, скользкие от масла маслины, маринованные баклажаны и хильбе. При виде любимого блюда Сёма тихонечко взвыл и осушил махом литровую кружку пива.
– Ты чего это? – подозрительно спросил Лазарь, с удовольствием окуная в хильбе солидный кус питы. – Еще не привык к местной кухне?
Сёма раскрыл рот. Слова скорби и печали, горькие признания и ядовитые комментарии, уже готовые сорваться с языка, застряли между зубами вместе с волокнами маслин. Лазарь пошел первым.
Он пил, ел и говорил одновременно. Капли пива, окрашенные в пунцовый цвет баклажанов, стекали с его подбородка, крошки питы, подхваченные фонтаном красноречия, разлетались во все стороны.
– Да, я приехал сюда без профессии, диплом сельскохозяйственного техникума со специализацией по выращиванию свинины просто боялся показывать, теперь понимаю, что зря, а жить надо, пошел на курсы поваров, сколько дерьма съел, пока учился, зато сейчас шеф русского кабака, а деньги, а молодые официантки, м-м-м-м-м, а каждый вечер обед в ресторане, а хильбе здесь, что надо, это я как специалист, ешь, дурачок…
Он разорвал на две части остаток питы и тщательно обтер тарелочку.
– Хильбе твоим я сыт по самые гогошары, – вставил наконец Сёма. – Жена у меня тейманка, так что сам понимаешь…
Лазарь застыл с раскрытым ртом. Но ненадолго.
– Как, – прошипел он сквозь мешанину из плохо пережеванной питы и хильбе, – настоящая, оттуда? Он махнул рукой в неопределенном направлении. Сёма помнил этот жест из детства, так отмахивался его дедушка, когда он донимал его вопросами типа: «Где живет Баба Яга?»
– Да, – сказал он с достоинством тяжелобольного человека, – настоящая, оттуда.
– Измена, – возопил Лазарь, – белые в городе!
Стены ресторанчика вздрогнули. Буйный вал марокканской музыки обрушился на головы посетителей. Вокруг размашистого гула барабанов пискляво обвивались дудки, неистово трещали трещотки, а грубые мужские голоса мрачно повторяли одну и ту же фразу на арабском языке. От восточных мотивов перед глазами Сёмы всегда возникала одна и та же картина: привязанный к столбу белый миссионер, треск костра, холодный лунный свет и сверкающие капли слюны на подбородках у полуголых барабанщиков.
«При чем здесь арабы, – каждый раз говорил он себе, – арабы не едят миссионеров».
Но его воображение считало иначе; видение возвращалось с завидным постоянством при первых звуках восточной музыки.
Из кухни высунулась курчавая голова хозяина. Он довольно оглядел зал и подмигнул посетителям – ну как, мол, – нравится?
«Сами виноваты, – подумал Сёма, – нечего ходить по восточным ресторанам. А чего ты ожидал услышать – Моцарта?» Мысль показалась ему настолько абсурдной, что он улыбнулся.
– А он еще смеется, – грустно прокричал Лазарь. – Сколько спиногрызов успел заделать?
– Чего-чего? – прокричал в ответ Сёма.
– Киндеров, – спрашиваю, – сколько?
– Пока нет.
– У-ф-ф, – Лазарь расслабленно улыбнулся. – Значит, можно спасать. Не волнуйся – никаких шикс – я тебе подберу, как субботнюю халу – побелее и послаще.
– Я женат, – прокричал Сёма, – понимаешь, хупа, свидетели, раввинат.
– Какая еще хупа, нет такого понятия – хупа с шиксой.
Теперь пришла Сёмина очередь остолбенеть.
– Ты что, сглузду зъихав, посмотри на фотографию ее дедушки, да у него пейсы до пояса!
– Маскировка! – объявил Лазарь. – Не было этого никогда. Во всем сионисты виноваты. Солдат у них не хватало, вот и завезли сюда арабское племя, натащили арабскую музыку, арабскую еду. Об этом тебе в любой ешиве расскажут.
Он брезгливо ткнул вилкой в блюдечко из-под хильбе. Его пальцы напоминали аккуратных, ухоженных кабанчиков.
– Не строй из себя идиёта – давай свой телефон и начнем лечиться.
Спустя два часа, когда полуоглохший и пьяненький Сёма стучал в свою дверь, предложение Лазаря еще казалось ему чудовищным. Прошло несколько дней. Мысль обтерлась, притулилась с краю и, найдя себе место где-то между «бред собачий» и «все может случиться», уже не казалась такой невозможной.
* * *
Лазарь позвонил через две недели.
– Приветик! – сказала трубка. – А приходи завтра к семи в «Свинтус» – литовский кабак на Герцль. Назови свое имя – столик я заказал. Посидим, потравим.
– Да я, – начал было Сёма, – халтурю до восьми, и вообще…
– Никаких вообще, – отрезал Лазарь. – Вообще передай, что старый друг, светлые года, у джигитов есть свои законы. Понял?
– Понял, – сказал Сёма.
Ему вдруг стало так просто и легко на душе – кто-то точно знал, как надо, кто-то желал ему добра и платил за это, и, в конце концов, о чем шла речь, посидеть два часа в ресторане со школьным другом – а сколько можно ишачить, в конце-то концов и у него есть право на личную жизнь, а хватит!
Ресторан оказался довольно уютным; приглушенный свет торшеров, массивные столы из светлого дерева, негромкий оркестрик.
– Не сыпь мне соль на рану, – полушептал в микрофон солист в расшитом блестками пиджаке, – она еще болит!
Руками он пытался изобразить, как невидимый публике злодей с невероятным упорством посыпает его солью. Ран, судя по жестикуляции, было много, но и соли хватало; пока солист отряхивал ее с одной половины тела, вражина успевал подобраться к другой.
Сёму усадили в глубине зала. Разбитной светлоголовый парнишка ловко приволок поднос, раскидал по столу два прибора, заиндевелую бутылку водки, тарелки с закусками, раскрыл меню на рубрике «Главные блюда» и удалился.
Оркестрик тянул знакомую мелодию, но Сёма никак не мог припомнить слов. Музыка нежно касалась его натруженных рук, обвивалась вокруг загорелой шеи и ласково заглядывала в усталые глаза под сурово нахмуренными бровями.
– Господи, да ведь это же «Синий троллейбус»! – ахнул Сёма.
Автоматически, словно повинуясь приказу, он сорвал жестяной колпачок, налил полный бокал ледяной водки и залпом выпил.
– Последний, случайный, – сразу всплыли слова.
Сёме стало грустно, потом обидно, потом отчаянно жалко чего-то хорошего и правильного, оставшегося там, за хрустальной линией судьбы. Защекотало в носу, слеза любви и жалости к себе холодной льдинкой скользнула по щеке.
Сёма достал из стаканчика салфетку и основательно высморкался. Прямо посредине второго сморка его окликнули.
– Извините, вы – Сёма?
Сёма поспешно скомкал наполненную соплями салфетку и поднял голову.
Все в ней казалось большим: широко подведенные глаза, ворох черных с проседью волос, небрежно заброшенных за спину, наполненная до треска черная блуза, серебряная пряжка на выпуклом животе и крупные, круглые колени, затянутые в сверкающий капрон.
– Лазарь задерживается, – сказала она, – и попросил вас немного развлечь. Меня зовут Виктория, Вика.
Рука была теплой и сильной, и у Сёмы вдруг заныло, защекотало между лопатками. Ощущение было таким, будто к спине приложили грелку.
Вика приехала из Белгорода-Днестровского, небольшого украинского городка, и работала в русской газете, составляя недельные гороскопы и кроссворды. Откуда она набралась астрологической премудрости, Сёма не стал выяснять, но разговор как-то сразу скатился на даты рождения, знаки Зодиака, предсказание будущего.
– Я и по руке умею, – сказала Вика после первой рюмки. – Хотите, погадаю?
Какой же человек не захочет узнать будущее? Даже самые откровенные скептики, обрушивающие на предсказателей и астрологов ниагары ядовитых замечаний и подколок, наедине с собой тоже заглядывают в недельный гороскоп. Каждому представляется, будто завтрашний день окажется лучше предыдущего. Ужасная, роковая ошибка!
Теперь грелку приложили и спереди. Объясняя смысл каждой линии, Вика осторожно поглаживала Сёмину ладонь мягкими подушечками пальцев, иногда чуть подцарапывая гладкими ноготками.
И хоть говорила она на полупонятном астрологическом жаргоне, составленном из неизвестных Сёме слов и понятий, речь шла о другом, совсем о другом, куда более простом и понятном.
– Потанцуем, – вдруг сменила тему Вика.
Она оказалась выше его, и Сёма в смущении затоптался перед столиком.
– Это туфли, – сказала Вика и нетерпеливым движением сбросила их с ног.
– Ну, как сейчас?
Сейчас тоже было высоковато, но отказаться после такой самоотверженности Сёма не мог.
– Женщина никогда не бывает выше мужчины, – шептала Вика, склонив голову ему на плечо, – только длиннее, только длиннее…
Лазарь так и не появился. На прощание она вытащила из сумочки маленький блокнот и быстро записала адрес и телефон.
Листок источал тяжелый, густой аромат и грел Сёмино бедро даже через карман брюк.
Братья, как обычно, сидели под деревом. Не успел Сёма постучать, как дверь распахнулась. Сагит с почтением провожала старого тейманца с седыми пейсами, «хахама». Он уже несколько раз приходил к ним, но Сёма никогда не интересовался целью его визитов.
«Их, тейманские дела, – думал он. – Зачем я буду вмешиваться? Подвоха от такого старика ожидать не приходится, пусть себе ходит».
Хахам ушел, но Сёмино любопытство, подогретое водкой и грелками, потянуло его за язык.
– Объясни наконец, зачем к нам таскается этот дед? – спросил он, удивляясь легкости, с какой слова слетали с его губ.
– Я отдаю ему нашу цдаку, – неожиданно просто призналась Сагит.
– Какую такую цдаку?
– Десять процентов от зарплаты. Тем, кто так поступает, везет в жизни.
Сёме показалось, что он ослышался.
– Десять процентов! Ты отдаешь этому старому болвану такую кучу денег! А почему мне ничего не известно?
– Вот теперь известно, – улыбнулась Сагит. – Меня этому научила бабушка, в нашей семье все так поступают.
Опять бабушка! Сколько можно строить жизнь по заветам немытой тейманки! Тепло переместилось вовнутрь, под ложечку, от обиды и горечи стало трудно дышать.
– Я пашу, как ишак, – заорал Сёма, – работа, халтура, откладываю каждый шекель… Домик, свой домик!.. А ты кидаешь неизвестно кому такие куски! Дрянь, мотовка бесстыжая!
Тепло выкатилось из-под ложечки и бросилось в пальцы правой руки. Сёме показалось, будто сердце непонятным образом сдвинулось с места и затрепетало в его ладони. Он поднял руку, чтобы показать его Сагит, и вдруг, неожиданно для себя самого, отвесил ей оглушительную оплеуху. Сагит отбросило назад, она ударилась головой о стенку шкафа и тоненько завыла. Щека мгновенно стала пунцовой, Сагит спрятала лицо между ладоней и продолжала выть, глядя на Сёму испуганными глазами. Что больше повлияло на него, этот тонкий, противный писк или черные, дрожащие от боли глаза? Сколько раз он пытался восстановить, разобраться, выяснить – откуда поднялась в нем дикая, головокружительная ненависть…
Он бросился к Сагит, разодрал, раскинул в стороны мокрые от слез ладони, и, обхватив обеими руками коричневую шейку, принялся душить. Сначала чуть-чуть, так, чтобы попугать, а затем все сильнее и сильнее. Сагит била его ногами, стараясь попасть в пах, рвала ногтями лицо, но скоро ее сопротивление ослабло, в уголках перекошенного рта показались пузырьки пены, тело задергалось в конвульсиях. Краем уха Сёма слышал глухие удары, словно кто-то с разбегу ломился в дверь.
Сагит захрипела. Дверь слетела с петель, и братья ворвались в комнату. Оторвать Сёму от сестры оказалось для них секундным делом. Пока один укладывал ее на диван, второй занялся Сёмой. Попытки сопротивляться ни к чему не привели, военную службу братья провели в парашютных войсках. После второго удара Сёма потерял сознание.
Когда он очнулся, в комнате никого не было. Преодолевая боль, он поднялся с пола. Голова гудела, ноги дрожали мелкой противной дрожью. Испуганный попугай метался по клетке.
– Ради всего святого, Соломон! Ради всего святого Соломон! – кричал попугай.
В пустом проеме двери показался один из братьев. Он молча вошел в комнату, сгреб с дивана шерстяной плед и направился к выходу. У порога он обернулся:
– Идиёт, – сказал брат скорее устало, чем злобно. – Иди, проверься как следует. Ты чуть не задушил ее до смерти.
«Вот и хорошо, вот и ладно, – подумал Сёма. – И ладно, и хорошо, и пусть, и замечательно…»
Он схватил клетку с попугаем, сумочку, в которой лежали водительское удостоверение и чековая книжка, и выбежал из комнаты. Из-за сильного волнения он поехал не как обычно, а вывернул сразу на центральную улицу и тут же попал в пробку. Куда ехать, Сёма не знал, но оставаться на месте было невозможно.
Заморосил дождь. Первые тяжелые капли, разбиваясь о пыльное ветровое стекло, оставляли на нем знаки, похожие на отпечатки кошачьих лап. Капля посередине и пять брызг по сторонам, капля посередине и пять брызг…
Дождь усилился, стекло затянуло слоем белой, похожей на саван, воды. Пробка не рассасывалась. Тормозные огни стоящей впереди машины окрашивали Сёмины руки в красный цвет. Он прикоснулся пальцем к лицу; палец тоже был красным, но уже по-другому.
«Кровь, – заплакал Сёма. – Она ведь разодрала мне все лицо».
Он сунул руку в карман за платком. Платка не оказалось, вместо него на ладони лежал листик бумаги, источавший тяжелый, густой аромат.
«Вот и хорошо, вот и ладно», – подумал Сёма.
Теперь он знал, куда ехать.
* * *
Первые полгода Сёма не работал. Вернуться на стройку Вика ему не разрешила.
– Хватит, наломался, теперь у тебя есть право немного отдохнуть.
Пособие по безработице оказалось неожиданно большим, особенно по сравнению с зарплатой, которую платили Вике в газете.
Сёма блаженствовал – вставал поздно, не спеша завтракал, надевал огромное соломенное сомбреро и уходил к морю. Вика снимала квартиру в Яффо, и до скамейки с видом на скалу Андромеды можно было дойти за пятнадцать минут.
К Средиземному морю лучше всего приходить утром. Солнце стоит высоко за спиной, его короткие горячие лучи пронзают зеленую воду до самого дна. Сёма усаживался на скамейку под деревом и несколько часов смотрел вниз: на шумную возню яффского порта, игру света в окнах высотных домов на плавной дуге тель-авивской набережной, неспешные забавы ленивых портовых котов. Во всем этом пестром, нескончаемом движении присутствовал свой неповторимый ритм; Сёма прислушивался, находил нужную точку и уплывал. Точка каждый раз оказывалась в другом месте: иногда в медленном накате прибоя, шипящем на черных камнях волнолома, иногда в тарахтении мотора рыбачьей лодки, скользящей по сверкающей глади внутренней гавани. Изломанное, прерывистое дыхание Сёмы сливалось с этим глубоким, спокойным ритмом, принося успокоение и прохладу. Он то ли спал, то ли впадал в транс, мир свободно входил в его душу через широко открытые глаза и так же спокойно возвращался обратно. Когда последние остатки страха и неуверенности вымывались из организма этим веселым, сияющим потоком, Сёма поднимался со скамейки, доставал из кармана составленный Викой список покупок и отправлялся по магазинам.
Гости к Вике приходили каждый вечер. В основном сотрудники разных русских газет, среднего возраста, шумные, хохотливые евреи. Почти все они приехали из маленьких городов южных республик бывшего Союза, где работали в заводских многотиражках или на районном радио. Этих в общем-то симпатичных и остроумных людей объединял общий комплекс неполноценности; они без конца рассказывали невероятные истории про победы на литконкурсах, публикации в центральной прессе, знакомства с известными журналистами и писателями. Рассказчики беззастенчиво врали – слушатели, прекрасно зная, что девяносто процентов рассказанного враки, тем не менее, искренне удивлялись и сопереживали. Все это походило на некую игру, групповую психотерапию.
Гости приходили со своей водкой, благо стоила она сущие пустяки, а хозяйка выставляла символическую закуску. Пьянели быстро, но не глубоко. Разговор начинался с очередного вранья, обязательного, как прием лекарства, а после рассыпался, раскатывался по всей квартире. Говорили о литературе, в основном о русской, вспоминали стихи, свои и чужие, пели песни, о синем московском снеге, сырой палатке, таежных закатах. Иногда Вика низким грудным голосом декламировала стихотворение, всегда одно и то же. Гости замолкали, напряженно прислушиваясь, то ли к ее голосу, то ли к тому, что происходило внутри у каждого.
– Но мы сохраним тебя, русская речь, – почти выпевала Вика, – великое русское слово!
Судя по частоте употребления, этим великим словом являлось нецензурное обозначение мужского члена. С него начинали и им же заканчивали, оно было запятой, многоточием и восклицательным знаком. Половина всех шуток и каламбуров вертелось вокруг него, коротенького, как выдох астматика.
Расходились поздно, обкурив квартиру до посинения. Попугай дурел от никотина, прятал голову под крыло и сердито кричал:
– Nevermore! Nevermore!
Такая жизнь представлялось Сёме необычной и увлекательной. Услышав по русскому радио знакомый голос, он вспоминал вчерашние проделки его обладателя и улыбался улыбкой понимания и причастности.
Изредка появлялся Лазарь. Он приволакивал с собой огромную сумку ресторанных лакомств, Вика раскладывала деликатесы по пластмассовым одноразовым тарелочкам, и начинался пир. Громовой голос Лазаря с легкостью перекрывал говорок журналистов; он шутил и сам смеялся над своими шутками, предлагал петь и тут же запевал, нимало не смущаясь полным отсутствием слуха.
Сёму он покровительственно хлопал по заднице и беззастенчиво объявлял во всеуслышание:
– Ну, не жалеешь? Сравни, что имел раньше и что держишь теперь. Не женщина, а сахар, а вата! а мальвазия! цветок душистый, пряник лакомый!
Про Сагит Сёма почти не вспоминал. Несколько раз звонила мама, пересказывала последние реховотские новости. Овадия приходил к ней, просил подействовать на Сёму.
– Или вернись обратно, – передавала мама, – или дай девочке гет, разводное письмо.
Но о разводе Сёма и слышать не хотел. Шрамы от ногтей Сагит жгли лицо, неистребимое зловоние хильбе мутило голову. Одно только воспоминание о братьях приводило его в бешенство.
Душа жаждала мести, кровавой и беспощадной, как сицилийская вендетта.
– Успокойся, дурачок, – осаживала его Вика. – Возьми лучше деньгами. Ведь эта копченая семейка в твоих руках. Поводи, поводи их за нос, а потом назначь достойную сумму. Пусть знают, как поднимать руку на белого человека!
Всему на свете приходит конец – и хорошему и плохому.
Пособие по безработице кончилось, и, хоть деньги на счету еще оставались, сухое томление овладело Сёминым сердцем. Расслабиться на скамейке больше не удавалось, ритм ускользал от его слуха, а мысли, как заведенные, возвращались к одной и той же мысли: что будет завтра, что будет завтра, что будет завтра…
Однажды Вика вернулась из редакции в приподнятом настроении:
– Ну, котик, пляши, – сказала она, едва переступив порог. – Я нашла для тебя хорошую работу.
Место и вправду оказалось удачным. Сёма устроился ночным сторожем в громадном здании, битком набитом разными конторами и офисами. Среди них была и редакция Викиной газеты. Делать ничего особенного не требовалось: за ночь Сёма обходил три-четыре раза этажи, проверял, не пахнет ли паленым, не течет ли вода из незакрученных кранов, а все оставшееся время дремал в своей каморке перед телефоном. Несколько раз за ночь звонили из центральной конторы, спрашивали, все ли в порядке. Сёма рапортовал бодрым голосом и дремал дальше. Платили за это немного, но Вика не привередничала:
– Проживем как-нибудь, – говорила она, поглаживая Сёму вдоль позвоночника. – Сколько коту нужно для счастья – миску молочка и чтоб кто-нибудь погладил по шерстке.
Вика мурлыкала, прижималась к Сёме горячим, мягким телом, и все напасти и проблемы начинали казаться мелкими и преходящими.
У новой работы был только один недостаток – ночь Сёма проводил не рядом с Викой, а на деревянном стуле. Поставить раскладушку или хотя бы кресло начальство не позволяло, справедливо полагая, что такое нововведение резко снизит бдительность сторожа. Кроме того, уходить на работу приходилось каждый раз в самый разгар застолья, и контраст между шумным, веселым домом и темными, безмолвными коридорами действовал на Сёму не лучшим образом. Когда гости расходились, Вика звонила. Они мило болтали несколько минут, и Сёма вновь оставался один.
К середине ночи тишина достигала своего пика. Переставали шуметь машины, развозившие зрителей из ночных ресторанов и вечерних спектаклей, и все вокруг погружалось в тяжелое, густое безмолвие. Сёма включал радио, но тонкий писк динамика только подчеркивал громадность и всевластие тишины, ее глухая стена словно отгораживала Сёму от живого, трепещущего мира. В голову лезли дурацкие мысли, ему чудилась Лукреция, ее протяжный, умоляющий голосок. Не хватало воздуха, Сёма выбегал из здания, смотрел на теплый свет уличных фонарей, пытаясь уловить шум далекого моря. Одиночество становилось немыслимым, невозможным; ему казалось, будто он замурован в нем навечно, навсегда, и гибнет, задыхаясь от миазмов собственного дыхания.
В одну из таких ночей Сёма не выдержал. От работы до Вики его отделяли пятнадцать минут езды, а ночью – и того десять.
«Проверяющим скажу, что был на обходе, – решил Сёма, – десять минут туда, десять обратно, полчаса с Викой – никто и не заметит».
Дверь он открывал потихоньку, изо всех сил стараясь не шуметь.
Ему хотелось незаметно проскользнуть к постели и разбудить Вику поцелуем, как принц из старой сказки.
В спальне горел свет.
– Наверное, уснула над книжкой, – с нежностью подумал Сёма и открыл дверь.
Они лежали на постели, мокрые от недавно законченной любовной игры. Покрытое черными, блестящими волосами, тело Лазаря казалось еще чернее по сравнению с белизной Викиной кожи.
Сёма онемел. О таком он читал только в книжках и представить себе не мог, что с ним может случиться нечто подобное.
Кровь гулко заходила, зажужжала в артериях, прилила к лицу, зашумела в ушах.
– Не сопи, словно буйвол, – сказал Лазарь нарочито небрежным голосом, – человеком надо оставаться в любой ситуации.
Сёма сжал зубы и бросился на него. Шансов не было никаких, даже из детских схваток Лазарь всегда выходил победителем. Но подобраться к другу юности Сёма не успел. Вика, изогнувшись, ударила его в грудь своей круглой, похожей на полированное копыто пяткой.
У Сёмы перехватило дыхание. Удар пришелся точно под ложечку – магма всех вулканов мира взорвалась в его груди. Он перегнулся пополам, горячая лава заполнила гортань, не давая вдохнуть. Судорожно, глоток за глотком, он пытался втянуть воздух в онемевшие легкие. Вика нацепила на его склоненную шею сумку с документами, подтащила к входной двери и коротким пинком выставила наружу. Через минуту дверь приоткрылась, и на коврике возле скрюченного Сёмы появилась клетка с попугаем.
– Забирай свое насекомое, – злобно бросила Вика.







