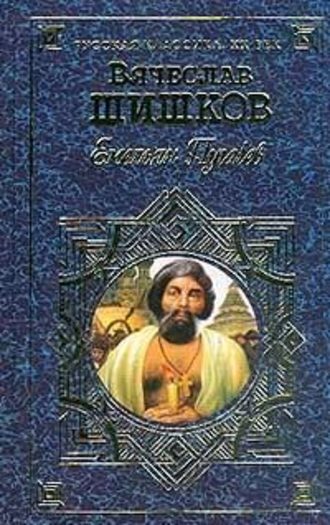
Вячеслав Шишков
Емельян Пугачев, т.2
– Хоть, может, он и не царь, а лучше царя дела вершит, – сказал Перфильев, сверкая исподлобья на Чумакова злобными глазами.
– А поди-ка ты, Перфиша, к журавлю на кочку! – крикнул Творогов. – Не он, а мы воюем, тот же Овчинников. В цари-то мы кого хошь могли поставить.
– Кого хошь? Хе! – сказал Перфильев, и усатое шадривое лицо его передернулось в ухмылке. – Чего ж вы не кого хошь, а батюшку над собой поставили? Да и не ошиблись. Батюшку народ любит, идет за ним.
– Кто его ставил, тех нет, – выплевывая арбузные семечки, проговорил Чумаков.
– Стало, вы на готовенькое пришли? Ну, так и не рыпайтесь, – строго сказал Перфильев.
– Батюшка – царь есть, Петр Федорыч Третий! – вскинув мужественное горбоносое лицо, воскликнул Овчинников. – И вы, казаки, не дурите.
– Полно-ка ты, Андрей Афанасьич, лукавить-то, – укорчиво перебил его Творогов. – Ежели и царь, так подставной.
– А уж это не наше дело, – сказал Овчинников.
– А чье же?! – сорвав с головы шапку и ударив ею в ладонь, заорал Федульев.
– Всеобщее – вот чье! – прикрикнул на него Перфильев. – И казацкое, и мужиковское... И всей России, ежели хочешь знать!
Помолчали. Ожерелье костров меркло: лагерь укладывался спать. Творогов вынул золотые часы, посмотрел время, спросил:
– А все ж таки, там царь он алибо приблудыш, как же нам, братья казаки, быть-то? Ведь нас царицыны-то войска, как рыбу в неводу, к берегу подводят... Каюк нам всем!..
Никто не ответил. Все чувствовали себя несчастными, все покашивались на Перфильева, хмуро смотревшего на огоньки костра. Федульев, испитой и длинный, со втянутыми щеками, прищурив узкие татарского склада глаза, сказал срывающимся голосом:
– Связать надо да по начальству представить... Пока не поздно... Изрядно мы набедокурили. Авось чрез это милость себе найдем.
– Кого это связать?.. – повернул к нему Перфильев усатую голову.
– Пугачева, вот кого, – раздраженно ответил Творогов.
– А тебя, Перфиша, упреждаем, – вставил Федульев, – пикнешь, в землю ляжешь, с белым светом распрощаешься.
– Да уж это так, – поддержал его Федор Чумаков.
Перфильев ожег их обоих взглядом, крепко, с азартом обругался, встал и, волоча за рукав азям верблюжьего сукна, быстро пошагал от костра в тьму августовской ночи.
– Стой, Перфильев! – нежданно поймал его за руку Емельян Иваныч. – Вертай назад, слышал я разговорчик-та. Пойдем! – И, приблизясь к костру, поприветствовал сидевших: – Здорово, атаманы!
– Будь здрав, батюшка!.. Петр Федорыч... Ваше величество... – ответили казаки, поднялись: Овчинников с Твороговым проворно, Федульев с Чумаковым нехотя. В колеблющихся отблесках костра лицо Пугачева казалось сумрачным, суровым и встревоженным. Он еще не остыл после дикой скачки по степи, тело млело и томилось, как в жаркой бане, и вся душа была взбаламучена разговором с дивным старцем.
– Ну, атаманы, – помедля, начал Пугачев. – Ругаться мне с вами негоже, а я вижу вас насквозь: глаза отводить да концы хоронить вы мастаки... Ну, да ведь меня не вдруг обморочишь... Я одним глазом сплю, другим стерегу.
– К чему это ты, батюшка? – в бороду буркнул Чумаков.
– А вот к чему. – И Пугачев подбоченился. – Я восчувствовал в себе мочь и силу объявиться народу своим именем. Надоело мне в прятки-то играть, люд честной обманывать. Зазорно!..
– Дурак, ваше величество... – как топором, рубнул Федульев, сердито прищуривая на Пугачева татарские глаза.
– Да как ты смеешь?! – вскричал Пугачев, сжимая кулаки.
– А вот так... Объявишься – скончают тебя, на части разорвут.
– Полоумнай! Не скончают, а в книжицу мое имя впишут. В историю! Слыхал? И вас всех впишут...
– Оно и видать... Впишут, вот в это место, – с издевкой сказал Творогов, прихлопнув себя по заду.
– Разина Степана вписали жа, – не унимался Пугачев, – а ведь он себя царем не величал.
– Ха, вписали... Как не так! Разина в церквах каждогодно проклинают. Дьякон так во всю глотку и вопит: «Стеньке – анафема».
– Народ меня вспомянет... В песнях али как...
– Держи карман шире... Вспомянет! Царей да генералов в книжицу вписывают, а не нас с тобой. А наших могил и не знатко будет. Брось дурить, батюшка! Ты об этом самом забудь и думать, чтоб объявляться!
– Запозднились с эфтим делом-то, батюшка Петр Федорыч, – сказал Овчинников, покручивая кудрявую бородку. – Поздно, мол... Ежели объявляться, в Оренбурге надо бы. А то народ сочтет себя обманутым и вас, батюшка Петр Федорыч, не помилует, да и нас, слуг ваших, разразит всех.
– И ты, Андрей Афанасьевич, туда же гнешь? А я тебе верил.
– И напредки верьте, батюшка. Не зазря же я присягу вам чинил.
– Так что же мне делать? – с внезапной обреченностью в голосе воскликнул Пугачев и, вложив пальцы в пальцы, захрустел суставами. – Неужто ни единая душа не узнает обо мне? – Он качнул плечами, сдвинул брови и, сверкая полыхнувшим взором, бросил: – Объявлюсь! Завтра же в соборе объявлюсь. Н-на!
Костер почти погас. Черная головешка шипела по-змеиному. Мрак охватывал стоявших лицо в лицо казаков. Слышалось пыхтенье, вздохи. И сквозь сутемень вдруг раздались угрожающие голоса:
– Попробуй... Объявись... Только смотри, как бы не спокаяться.
Пугачева как взорвало. Он так закричал, что на голос бросились от недалекой его палатки Идорка и Давилин.
– А вот не по-вашему будет, а по-моему! Слышали?! – притопывая, кричал Пугачев. – Не расти ушам выше головы... Согрубители! Изменники! – Он круто повернулся и, в сопровождении Перфильева, шумно выдыхая воздух, прочь пошел. Растерявшиеся казаки поглядели ему вслед с холодным озлоблением.
«Эх, батюшка, – горестно раздумывал Перфильев, придерживая под руку шагавшего рядом с ним родного человека, – жаль, что ты вконец не освирепел: лучше бы три головы коварников покатились с плеч, чем одна твоя». Подумав так и предчувствуя недоброе, Перфильев силился что-то вслух сказать, но его язык как бы прилип к гортани.
Вскоре удалился и Овчинников. Оставшаяся тройка переговаривалась шепотом.
– Ваня Бурнов – мой приятель. Он пронюхал, что батюшка не царь, – сказал Федульев, поднимая с кошмы надрезанный арбуз. – Он в согласьи.
– А я Железного Тимофея подговорил, полковника, – прошептал Творогов, – он верный человек и на батюшку во гневе.
– Надо, братья казаки, с эфтим делом поспешать, – пробубнил Чумаков, – а то он проведает, всех нас сказнит.
– Да уж... Ежели зевка дадим, голов своих лишимся, – заложив руки в карманы, сказал Творогов.
– Он таковскай, – подтвердил Федульев. – Ежели проведает, у него рука не дрогнет. – И, помолчав, добавил: – А не убрать ли нам Перфильева с дорожки?
– Как ты его уберешь, раз все сыщики на него работают? – усмехнулся Чумаков. – Скорей не мы его, а он нас уберет.
– Ну, ладно, время укажет: батюшка ли к нам в лапы угодит алибо мы к нему попадем в хайло.
Тьма налегла на костер и приплюснула его. Чадила головешка. Небо было в звездах. Под ногами атаманов неясно обозначалась сизым дымом белая кошма. Вдруг – странный, как будто незнакомый голос:
– Да, приятели... Времечко к расчету близится.
Казаки переглянулись: кто это сказал? И еще неизвестно, откуда прозвучало: то ли степная тьма дыхнула в уши, то ли, издыхая, головешка прошипела по-змеиному, а верней всего – в трех растревоженных казачьих сердцах враз отозвалось:
– «Пре-да-те-ли»...
В городке гулко бухал соборный колокол. Церковь полна народу. Весь базар привалил к собору, на возах остались ребятишки и старухи. Народ с нетерпением ждал, что скажет возвратившийся Василий Захаров. В алтаре пред иконостасом и в паникадилах вздули огни. Воеводы не было, он в ночь сбежал.
Перед началом молебна на амвон взошел смущенный, с лихорадочным румянцем на впалых щеках, Василий Захаров. Народ замер, народ широко открыл глаза и уши. Василий Захаров все так же чинно поклонился народу на три стороны, огладил белую бороду и начал надтреснутым, в трепете, голосом:
– Удостоился я на старости лет зрети очами своими царя НАШЕГО. Это воистину НАШ царь, НАШ государь великий! Поклонитесь ему и послужите ему, ибо паки реку: он НАШ!..
Началось в соборе, а потом и в ограде, и на площади людское смятение, радостный народ кричал, не переставая:
– Царь, батюшка-царь наш идет сюда, государь великий! Ребята, дуй в колокола! Айда навстречу батюшке!
Мужицкий царь со свитой, с частью войска пышно приближался к городку. И был он встречен со славой, с честью, с колокольным звоном. Допустил народ до своей белой руки, а Василия Захарова трижды обнял, сказал ему:
– Будь здоров, отец, надежа моя!
Старик всхлипнул. Весь вид мужицкого царя был строг и наособицу решителен. Еще дорогой Емельян Иваныч намекал приближенным, что сегодня, в соборной церкви, случится такое диво, что все ахнут, и многие сегодня же, может быть, лишатся головы своей. Все с трепетом ждали чего-то необычного.
Но на темной паперти, когда Пугачев протискивался со свитой внутрь собора, два его атамана, Федульев с Твороговым, толкнув его локтем в бок, мрачно процедили сквозь зубы:
– Ты, ваше величество, брось-ка, брось, что затеял. Ты ампиратор, а не кто-нибудь. Смо-три, брат...
Царь взглянул в сурово-загадочные лица приближенных, подумал: «Эх, зря я Горбатова в разведку услал», – смутился, погас.
И повелено им было: поминать на ектениях по-прежнему Петра Федорыча Третьего, самодержца всероссийского.
4
Тем временем комиссия с Долгополовым въехала в Петровскую крепость, обнесенную деревянною рубленой стеной с башнями. Подьячий Нестеров, встретив приезжих в воеводской канцелярии, объявил им, что комендант крепости и воевода дня за два до вступления Пугачева в крепость убежали в степь и неизвестно, где схоронились. А сам Пугачев с армией, не останавливаясь в крепости, дней тому с семь пошел прямо к Саратову. А дня два спустя проследовал за ним Михельсон со своим корпусом.
– Давайте, господа офицеры, поспешать за злодеем-то, – по-хитрому прищуриваясь, сказал Долгополов. – Лишь бы нам настигнуть его, а как настигнем, возьму у вас денег да с казаками, товарищами своими, свяжусь. Глядишь, дело государственное враз завершим.
– Сначала дело, а уж опосля того деньги, Остафий Трифоныч, – заметил строго Галахов.
От столь неприятных для него слов прохиндей закатил глаза, и верхняя губа его задергалась.
– Конешно, ваше дело, господа офицеры, – сказал он, – только, мню, сие не согласуемо будет со словесной инструкцией его светлости князя Орлова, мне данной.
Галахов, насупясь, молча сидел на кожаной сумке с серебром и червонцами.
С большим трудом добыв подводы, комиссия выехала в Саратов, куда и прибыла на другой день утром.
По Московской улице выбрались на площадь. Человек до полутораста торговали здесь различными припасами. Покупая продукты, Долгополов спросил прасолов:
– А где у вас в Саратове начальство?
– Никого нет, милостивец, город пуст. Только и народу, что здесь на площади, да и тот дней с пять как собрался. Кто разбежался на стороны, а кто с батюшкой ушел.
Комиссия решила сделать в Саратове продолжительный отдых и, пока разыскивают по окрестным деревням лошадей, расположилась на площади, возле торговых шалашей. Разожгли костер, стали готовить пищу.
К костру, один по одному, собрались старики. Завязались разговоры. Сметив, что дело имеют с людьми, посланными против «батюшки», старые люди говорили с оглядкой, а «батюшку» называли «злодеем». Но по выражению их лиц и по тому, как не без лукавства переглядывались они друг с другом, было ясно, что здесь хитрят, боясь сказать правду.
– О-хо-хо! – вздыхает плешивый, лобастый дед. – Ой, и много злодей бедственных делов натворил... Великие злости от него в городу были.
– Просто на удивленье, – перебивает его другой, беззубый, с испитым лицом. – Хошь и злодей он, это верно, а мотри, сколь много народу к нему приклонилось. Первым делом – вся артыллерия, вся анжынерская часть, весь гарнизон да в придачу сот шесть команды... Во!
– Да как же им не стыдно присягу преступать? – возмутился Галахов, и его открытое горбоносое лицо выразило неподдельный гнев.
Долгополов криворото ухмыльнулся, а старик сказал:
– Да ведь он, ваше высокоблагородие, злоковарной хитростью всех опутал... Вторым делом – артыллеристы двадцать четыре орудия подарили Пугачу, со всем снарядом. А своего начальника, князя Баратаева, связали да Пугачу в руки: на – получи... Во как!
Глаза беззубого старика злорадно засияли, в голосе послышались горделивые нотки.
– Да нешто один Баратаев! – воскликнул третий старик, пытаясь смягчить разглагольствование товарища; он был благообразен, хорошо одет. – Еще немец какой-то схвачен был, великий книжник, звездочет. Его сама царица быдто бы прислала выведать да высмотреть, можно аль не можно промеж Волгой да Доном канаву пропустить. Да еще четверых из начальства... Да многих хватали яко неблагопокорных!
Старики говорили долго, путано, один другого перебивая, и, как оказалось потом, рассказы их были не вполне достоверны.
Отъехав от города на пятнадцать верст, путники заметили возле самой дороги две свежие могилы.
– Это что за могилы? – спросил Галахов возницу.
– А здеся полковник Баратаев да немец один, – ответил возница из саратовских посадских людей. – Тут им конец жизни доспелся.
В попутной колонии «лютерского исповедания» комиссия остановилась у кирхи, возле которой толпился народ. Селение было хорошо обстроено и содержалось опрятно. Из побеленного домика под черепичной кровлей вышел прилично одетый, чисто выбритый старик-пастор и пригласил офицеров с Долгополовым к себе в дом, а старосте приказал готовить подводы.
Колонисты относились к своему пастору с большим уважением, в разговоре с ним обнажали головы, отвечали на вопросы с почтительностью.
Скромный дом пастора состоял из трех комнат и кухни. Впереди дома – палисадник, сзади, за обширным, усыпанным желтым песочком двором, большой фруктовый сад и пасека в полсотни колодок.
В доме – уют и чистота, на окнах белейшие гардины и цветы в расписных майоликовых вазонах. В переднем углу распятие итальянской работы из черного дерева и слоновой кости. Книги в хороших переплетах. Много книг. Клавесины, ковровый диван, уютные кресла, круглый стол под свеженаутюженной палевой скатертью.
– Вот, господа хорошие, если б вы знали да ведали, сколь скудно живет наш деревенский батюшка и сколь роскошно, дай вам Бог, живете вы, господин пастор, – сказал Долгополов, с удивлением рассматривая обиталище хозяина.
– Да? – не то спрашивая, не то утверждая, застенчиво проговорил пастор и пригласил гостей присесть. – Я не особенно знаком с условиями существования сельского духовенства, но знаю, что ваше духовенство городское живет в большом достатке. А меня не забывает паства, не оставляет своими щедротами Господь Бог, да и сам я суть человек труждающийся по мере сил моих.
– Вы... из немцев будете? – спросил Долгополов.
– Нет, я природный латыш, родился возле города Риги, в крестьянской семье, но обстоятельства сложились так, что довелось мне более полжизни в России провести, в Петербурге.
– А как же здесь-то очутились? – поинтересовался молчаливый Рунич.
– А сюда привели меня, во-первых, указующий перст Божий, – ответил старик, – во-вторых, веления собственного сердца и любовь к природе и занятиям сельским хозяйством. Состою корреспондентом Вольного экономического общества, покровительствуемого императрицей.
Пастор угостил приглашенных вкусным кофеем и простым, но сытным завтраком. Завидя, как Галахов с Руничем стали шептаться и вынимать кошельки, чтобы отблагодарить хозяина за угощенье, взволнованный этим старик стал возражать:
– Не ослепляйте, господа, глаз моих никакими подарками, – сказал он тоном обиженного. – И ежели вы что-либо ассигновали мне, то умоляю передать это бедной братии, коя, без сумнения, на пути вашем встретится.
– Тогда, отец пастор, вы все-таки возьмите от нас и раздайте бедным своими руками, – сказал Галахов. – А то при нашей скорой езде раздавать подаяние нам будет несподручно.
– Что вы, что вы! – с приятной улыбкой ответил хозяин. – Если б вы и на быстрых крыльях ветра летели, то и тогда успели бы посмотреть на нищету светлыми очами доброго своего сердца.
По просьбе Галахова пастор сообщил, что несколько дней назад Пугачев с армией прошел мимо их селения.
– За несколько часов до своего прихода, – рассказывал пастор, – он прислал пять своих казачьих офицеров к нашему старосте с повелением, чтоб жители из своих домов не выходили дотоле, доколе он со своей армией не удалится из виду от селения нашего, дабы не мог кто-либо претерпеть от его войска какой обиды и несчастья. – Голос пастора дрогнул, глаза внезапно увлажнились, он справился со своим волнением и закончил: – Моими пасомыми оный приказ Пугачева был точно выполнен. И все обошлось благополучно.
– А нам известно, что каналья-злодей повсеместно лютость оказывает! – запальчиво проговорил Галахов.
– Слухи идут всякие, – вздохнув, ответил пастор. – Я склонен думать, что сам Пугачев не столь жесток, как про него молва идет. А вот его сподвижники, по своей темноте и коренящемуся в них сатанинскому духу мщения, поистине могут быть в своем поведении жестоки... И что же вы хотите, господа! – вскинув седую голову и сделав рукой нетерпеливый жест, воскликнул пастор. – Ведь бунт, ведь темного народа восстание проистекает! Силы адовы распоясались, сатана спущен с цепи. Но я верую, господа, можете осудить меня, а я верую, что в смуте сей действует указующий перст Божий.
– А Пугачев, выходит по-вашему, чуть ли не посланец неба? – с язвительностью спросил Галахов.
– Я этого не хочу сказать. Но... что свыше предначертано, тому не миновать.
– А вот увидим, откуда оно предначертано, – с той же запальчивостью возразил Галахов. – Когда государственный преступник будет схвачен, суд выяснит все начистоту.
– Да, но сей государственный преступник, – подчеркнутым тоном произнес пастор, – будет судим не токмо судом человеческим, но и судом человеческой истории! А первей всего предстанет он пред судом Божьим! – и пастор взбросил руку вверх. – Однако милосердный Бог не преминет судить не токмо его, а вкупе с ним всех, кто сеял бурю среди народа жестокостями своими.
– Вы, отец пастор, чрезмерно смелы в своих суждениях! – Возмущенный Галахов поднялся, стал в волнении ходить по горнице.
– Да, смел, – дрогнув голосом и потупясь, ответил пастор. – Иначе я не носил бы на своей груди распятого по приговору синедриона Христа!
Долгополов стал плести про Пугачева какую-то несуразицу, но его никто уже не слушал.
При прощании капитан Галахов отвел хозяина в соседнюю комнату и, крепко пожав ему руку, сказал:
– Вы простите мне мою горячность... Такие люди, как вы, зело редки, особливо в провинции... Свидетельствую вам свое уважение.
Пастор широко улыбнулся, произнес:
– Да сохранит вас Бог, – и по-отечески благословил капитана.
Встретилась в пути еще колония с жителями «католицкого» исповедания. Огорченный, унылого вида ксендз нарисовал перед отдыхавшими у него путниками мрачную картину пугачевского нашествия.
– Свыше тридцати молодых людей нашей колонии, – сказал он, – разумеющих язык российский, ограбили меня, а такожде прочих состоятельных колонистов и ушли за Пугачевым. Вот веяние времени! А сверх того, увели оные отщепенцы пятьдесят самых лучших лошадей, в числе коих и мои три.
– Сделал ли самозванец какие-либо разорения вашей колонии? – спросил Галахов.
– Нет, Господь сохранил нас, ни насилий, ни разорений от врага мы не видали, – ответил ксендз.
Путники хотя и с большим трудом доставали лошадей, однако двигались довольно быстро. Вскоре прибыли в приволжский городок Камышин. До Царицына оставалось сто восемьдесят верст.
Явившийся начальник волжских казаков доложил Галахову:
– Из Царицына вот уж третий день идут слухи, якобы Пугачев разбит. А посему я отрядил триста человек надежных казаков на ту сторону Волги и приказал им: ежели встретятся бегущие тем берегом из пугачевской армии люди, оных ловить, а кои добровольно сдаваться не станут, тех колоть.
– Чинились ли Пугачевым жестокости, разорения? – задал тот же самый вопрос капитан Галахов.
– По приказу Пугачева, – ответил казацкий офицер, – был казнен комендант города Камышина. А от войска его никакого разорения городу не было, только взято двадцать подвод припасов.
Этот ответ, равно как и все дорожные впечатления, любознательный офицер Рунич тщательно заносил в тетрадь.
Предположив, что упорные слухи о разгроме Пугачева имеют основание, комиссия, посоветовавшись, решила: Галахову, Руничу и Остафию Трифонову, прихватив с собой двух гренадеров, двигаться к Царицыну. Команду же гусар оставить в Камышине.
Ехать без сильного конвоя, по мнению комиссии, было теперь не так уже опасно: пугачевских скопищ нигде не встречалось, наоборот, стали попадаться в пути воинские разъезды.







