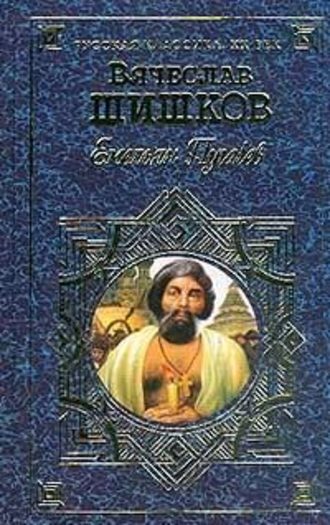
Вячеслав Шишков
Емельян Пугачев, т.2
Он кончил, Пугачев молчал, усердно работал вехоткой. Потом спросил, но уже с тем же, как и у хозяина, спокойствием:
– Коли я с войском своим – самозваный царь, так кто же ты, Иван Васильевич, с голштинским тем знаменем притаенным? Ась?
Озадаченный хозяин не понял, смущенно молчал. Пугачев вскинул шайку и с силой брякнул ею о скамью:
– Эх, купец, Иван Васильич! В знамя поганое, иноземное веришь, а в меня, всея державы царя русского, нет!.. Так-то вот и все вы, сирые, разнесчастные. Зраку своему да ощупи – вера, а что дальше да выше, тому и веры нет... Впрочем сказать, – понизил он голос, – ин будь по-твоему: Емельян так Емельян! Мужику, алибо и вам, купцам-старателям, Петр ли, Емельян ли – все едино: был бы делу привержен да верен...
– Вот, вот! – понял, оживился вновь хозяин.
– Как говорится, – продолжал Пугачев весело, – сивый ли, пегий ли... лишь бы вез...
– Об чем и речь! Значит, царь-государь, зазря я знаменю-то держал-сохранял?
– Как так зазря? Не портянка, чай. C ним, подарком твоим, и в Казань войду. Благодарствую во как, а пуще всего за верность. Верность – она города берет. Так ли, Иван Васильич?
– Золотые слова, батюшка! Послухать бы их из уст твоих милостивых всему миру нашему, старозаветному.
– Дай срок – всяк услышит, у кого слух-то не помрачен... Не пора ли кончать, хозяин?
– Пора, пора. Телеса омыли, о грешных душах наших попеченье надо сотворить. В моленную ко мне заглянуть бы тебе предлежало, по чину, по правилу.
– От молитвы не бегу, Иван Васильич.
3
Одевшись, гость и хозяин направились в моленную при доме. Было здесь тихо, благолепно. Стены с полу до потолка уставлены старинными, в дорогих окладах, иконами. Горели восковые свечи в небольшом паникадиле, мерцали кроткие огни лампад. Впереди, у самого иконостаса, стоял аналой, прикрытый атласной, вышитой шелками пеленою. Справа, на стене, янтарные, костяные и кожаные лестовки. На отдельном столике – медная кропильница с кропилом. Пахло воском, розовым маслом, ладаном. Пол в ковровых дорожках.
Моленная была пуста.
Вздыхая и крестясь, Иван Васильич «сотворил» семипоклонный уставный начал пред Спасовым образом, и оба затем, хозяин и гость, совершили метание. Емельян Иваныч неплохо присноровился к этому обряду, еще когда жил у старца Филарета.
Крохин достал из киотного, что под образами, шкафа запакованный в холст опечатанный сверток и, склонив седую голову, подал Пугачеву:
– Вот оно, знамя-то. Ты его пуще глазу береги! – молвил купец строго. – Оное знамя не токмо господам офицерам да генералам в великий соблазн будет, а и самое Катерину с толков собьет.
В зальце их поджидало все купеческое семейство: крупная, дородная Василиса Ионовна, в черном повойнике и темно-синем шушуне с золотой травкой, с густыми назади сборками; дочь ее, рослая, миловидная девушка Таня, в косоклинном саяне – сиречь сарафане на пуговках сверху донизу; и уже знакомый Пугачеву хозяйский сын Миша – косая сажень в плечах.
– С легким паром, надежа-государь! – хором возгласило семейство и дружно кувырнулось Пугачеву в ноги. Хозяин благодушно улыбался.
Сердце Емельяна Иваныча будто кто ласково погладил. «Стало, Крохин и впрямь блюдет мою тайну», – подумал он.
Затем хозяин с сыном, вооружившись двумя горящими свечами, повели гостя осматривать хоромы. Крашеные, из широких досок, полы натерты маслом с воском, блестят, всюду постланы пестрые дорожки, мебель хотя и неуклюжая, дедовская, зато из мореного дуба, словно литая из железа. По углам и вдоль стен спряты, укладки, сундучки, обитые цветным сафьяном или вологодской, «под мороз», жестью. В углу большой шкаф, называемый ставец. Иван Васильич, загремев ключами, открыл дверцы, расписанные изнутри библейского содержания картинками, по бокам – райские птицы Алконост и Сирин. Весь ставец набит тяжелыми книгами в деревянных, крытых кожей переплетах.
– Сии книги старопечатные, – сказал Иван Васильич, выкладывая перед Пугачевым книгу за книгой. – Старопечатные и рукописные, до римского сатанинского нововводства Никона. Вот – малая, глаголемая «Беседословие». А вот «Святая боговдохновенная, составленная Давыдом-старцем». А вот отреченная тетрадь монастыря Святотроицкого. Слушай, царь-государь, а ты, Миша, посвети... – Старик надел на нос медные очки, перелистал рукописные страницы и, откашлявшись, прочел чуть-чуть гнусаво: – «Мрак объял землю русскую, солнце сокрыло лучи свои, луна и звезды померкли, и бездны все содрогаются. Изменились злобно все древние святые предания, все пастыри в еретичестве потонули, а верные из отечества изгоняются – царит там вавилонская любодейница и поит всех из чаши мерзости». Внемлешь, государь? Сие старцами-христолюбцами про Катерину Вторую писано, – захлопнув тетрадь с титлами и сунув ее в ставец, пояснил хозяин.
И вступил тут в старика соблазн сделать гостю испытание: грамотен или темен? Иван Васильич достал книгу и стал листать ее, от книги пахло плесенью. Испытующе скосив глаза на Пугачева, он передал ему книгу и сказал:
– На-ка, батюшка, прочти в гул вот энто местечко, стихирку.
Сердце Пугачева захолонуло. Ах, черт!.. Тут уж не отвертишься...
– Да ведь я без очков-то ни хрена не вижу, а очки забыл, – сказал он.
Хозяин же, как бы не слыша его, велел сыну:
– Миша, посвети!
У Пугачева зарябило в глазах, запрыгали губы, он влип взором в строчки и напряг память. Ну, слава тебе, тетереву: буквицы знакомые, не зря же старец Василий обучал его грамоте по старозаветным книгам, когда Пугачев жил у него в келии под Стародубом. И вот теперь, хотя и с большим трудом, Емельян Иваныч, не помня себя от радости, стал разбирать слова и строчки.
– Оную книгу, нарицаемую Лусидариус, сиречь Златой бисер, я без мала всю вытвердил, – говорил старик, нетерпеливо заглядывая в лицо гостя.
И вдруг Пугачев, насупив брови и откинув рукой волосы со лба, стал медленно, с запинкой, напряженным голосом читать:
– «Идет старец, несет ставец, в ставце зварец, в зварце сладость, в сладости младость, в младости старость, в старости смерть».
– Вот, батюшка! – воскликнул хозяин и подумал: «Стало, врут манифесты, что самозваный царь безграмотный да темный». – А дале-то тако сказано: «Как на ту ли злую смерть кладут старцы проклятьице великое». Такося, гостенек мой дорогой... Ну, а теперича идем в рабочую мою горницу, где течет жизнь моя земного обогащения ради. Ох, Господи, Господи!.. Миша, зажги-ка свечи! – приказал он сыну, когда все трое вступили в обширную комнату, пропахшую кожей, скипидаром, мылом.
Великан Миша привстал на носки и засветил семисвечовую люстру – железный, на трех цепях обруч.
Огромный стол, заваленный бумагами, расчетными книгами, ярлыками. Большие костяные счеты, чернила с перьями, песочница, недоеденная доля пирога на тарелке, облупленное крутое яйцо, леденчики. По стенам развешаны разной выделки кожи, юфть, разноцветные сафьяны, ящики со свечами, с мылом – образцы производства крохинских фабрик. В стеклянных банках разных сортов крупа, мука – ржаная, пшеничная, гороховая, гречушная, солод для пива. В углу две больших бочки денег: в одной медь, в другой серебро. Купец указал Пугачеву на объемистый холщовый мешочек:
– А это вот, батюшка, твоему царскому величеству от старозаветных купцов помощь: серебряные рублевики да полтины. Унесешь ли?
– Было бы что!
Пугачев схватил мешочек за ушки, играючи подбросил его к самому потолку и поймал растопыренной ладонью.
– Ого! – изумился купец. – Тут серебра три пуда без малого. Ну, поспешим к трапезе.
Придя в столовую, все помолились, сели. На столе: ендовы, кувшины, пузатые штофики, граненые графины.
– У меня, ведаешь, своя пивоварня. И для себя и для торга, – сказал хозяин, наливая серебряные чары. – Мое пиво пряное, тонкое, для здоровья полезное, крови не густит... Хлебнешь – упадешь, вскочишь – опять захочешь... Ха-ха-ха!.. Вот в этой ендове – забористое, зовется «дедушка», в этой «батюшка», а в этой слабенькое, бабий сорт – «сынок».
Угощение было простое и сытное: лапша, ветчина, яичница-верещага, индейка с солеными огурцами, утка с солеными же сливами. Пугачев ел «по-благородному», оттопырив мизинцы, руки у него чистые, на указательном пальце перстень Степана Разина.
К концу трапезы прибыл именитый купец Жарков, тридцатипятилетний, и такого же, что и у Крохина, осанистого вида, дородный человек. Густоволос, бородат.
– Ага. Вот и сам подъемный мост пожаловал. Оптовых промыслов и трех фабрик с заводами содержатель... А мы вот тут, Иван Степаныч, с государем калякаем. Он, отец наш, милостив, не брезгует нашим братом, не гнушается. Присаживайся.
Жарков помолился в передний угол, низко поклонился Пугачеву, затем хозяевам, сказал:
– Дозвольте присесть, ваше величество, на краюшке...
– Пошто на краюшке... Садись посередке, господин купец, – проговорил Пугачев, отодвигаясь со стулом в сторону. – Торговым людям, кои не супротив нашего самодержавства, мы милость завсегда творим.
Купцы одобрительно переглянулись. Пили горячий сбитень. Ни чаю, ни табаку – этих сатанинских травок – в доме не водилось. Откашлявшись в горсть, Жарков сказал:
– Торговое сословие, батюшка государь, всякому государству основа.
– Основа-то основа, Иван Степаныч, – возразил широкоплечий хозяин, оглаживая светло-русую бороду, – а главная суть, мотри, в народе обитает: народ богат – и купец богат, народ сир да нищ, и купец ни в тех, ни в сех, середнячком ходит.
– А не можно ли, господа купцы, тако повернуть речи ваши, – встрял в разговор Пугачев. – Народишко, мол, и беден чрез то, что помещики с купцами чересчур богаты. Ну, правда, купцам-то и Бог велит от трудов своих богатеть, а вот помещики – те особь статья. Ась?
– Правда, правда твоя, батюшка! – воскликнул хозяин, и его выпуклые умные глаза заблестели. – Ведь подумать надо, откуль народу-то справным быть, коль у мужика ничем-чего своего собственного... Все, вишь, барское! Барин захочет, всего лишит, захочет – на каторгу сошлет, а нет, так и продаст, аки скотину рогатую.
– Ломать надо, господа купцы, порядок такой, ломать надо! – сказал Пугачев. – А сомнем – всем враз вольготно станет. Не так?
Купцы согласно закивали головами. Жарков сказал:
– А нам, торговым да промышленным людям, нешто мало всяких утеснений творят разные там берг-коллегии, да мануфактур-коллегии, да магистраты с воеводами, с судьями, со всякой строкой приказной. Вот они где, сгинь их головы, сидят! – пришлепнул он себя ладонью по загривку. – Ох, батюшка государь, кабы знал ты да ведал...
– Доподлинно сие вестно мне, господа купцы, не сумневайтесь, – подхватил Пугачев негромко, – немало моим царским именем перевешано злоумыслителей таких.
– Взяточка, взяточка сушит да крушит нас, ваше величество, – жаловался Жарков. – Не подмажешь – не поедешь... Замест помощи что видим мы от начальства-то? Палки в колесья суют! Ежели, скажем, наживешь рубль-целковый, так им гривен семь хабару с рубля-то отойдет, а нет, так и обанкрутят, в трубу пустят, сгинь их головы! Да вот, извольте послушать, про себя скажу. Тятенька мой, покойна головушка (Жарков перекрестился), оставил мне огромный капитал, тысяч во сто. А я оный капитал рвением своим умножил и преумножил. А как? Где не доем, где не досплю, взад-вперед по России гоняю, можно сказать, не дома на пуховиках – в таратайке да в санях живу. А иначе ничего и не выйдет. Зато салотопенный завод у меня, да свечной, да стекольный, да два мыловаренных. Со Швецией да с Англией торг веду чрез Архангельск. Им, вишь, сало за гроши подавай, а уж они свечи-то да мыло сами наделают, да нам в обрат затридорога привезут, сгинь их головы! А я по-своему повернул...
– Ну-ка, ну-ка, доложи, как ты их, иноземных, в оглобли-то ввел? – подзуживал гостя Крохин, косясь на Пугачева.
А тот, помаргивая правым глазом, со вниманием вслушивался.
– А вот как... Я все сало, до фунтика, в Архангельске чрез своих доверенных скупил и в свои склады запер. Иноземцы приплыли на своих кораблях, туда-сюда... Нету сала! Пошумели, пошумели, а податься некуда. И довелось им все свечи с мылом скупить у меня, я невысокую назначил цену, они в своей стороне мой товар тоже не без выгоды распродадут. Так и впредь намерен поступать. Ужо до Риги доберусь и там этаким же побытом дело обосную...
– Вот, ваше величество! – воскликнул Крохин. – А дворяне этак-то деньгу наживать не смыслят.
– Знаю я дворян, – отмахнувшись рукой, сказал Пугачев и попросил у хозяйки творожку.
– Взять такого Шереметева алибо князя Голицына, – подхватил Жарков, – сладко едят, до полуден дрыхнут, живут – палец о палец не ударят, сгинь их головы! Театры по вотчинам позавели, с плясуньями – из крепостных красоток – любовью забавляются, дедовские капиталы прожигают... Ах, если бы ихние великие капиталы да купцам в руки – нешто такая Россия-то наша была бы! Народ у нас самый работящий, толковый, уветливый народ. Первеющей страной в мире была бы Расеюшка наша! – Жарков завздыхал, заприщелкивал языком и, выждав время, обратился к Пугачеву: – А ты, ваше величество, окажешь ли поддержку купечеству-то, ежели Господь приведет тебе престолом завладеть?
Снова прищурив глаз, Пугачев откинулся на стуле, сказал:
– А я и так уж подмогу даю вам. Нешто не видите? Моим царским именем вся земля верному моему крестьянству отходит. А ведь вы сами же, господа купцы, толкуете: мужик крепок, так и купцу разворот. Не так?
– Так, так, батюшка! – И купцы снова закивали головами.
– Стало, будьте, други мои, без сумнительства. А всех помещиков я с земли сгоню, посажу на жалованье и повелю труждаться. И кликну клич по всей земле люду торговому: а ну, купцы, торгуй! Только... мошенство какое дозрю либо народу обиждение – голова с плеч летит! – И Пугачев пристукнул ладонью по столешнице.
– Спаси Бог, царь-государь, на ласковом твоем царском слове. А за порядком в сословии нашем сами следить будем.
Купцы не спеша и с толковостью продолжали жаловаться Пугачеву: на то, что торговлю вести им очень затруднительно, что, первым делом, денег в России в обороте мало, что денежки у великих вельмож да у помещиков в заграничных банковских конторах либо дома, в кованых, к полу привинченных сундуках. «Да и двумя войнами – Семилетней да Турецкой, коя ныне в затяжку пошла, много мы золота с серебром за границей растрясли. У крестьянства же, почитай, денег вовсе нет, а ежели и заведутся какие от „оброчного“ заработка, мужик норовит их в землю закопать, чтобы не прикарманил барин».
– И ежели, бывало, поедешь по Руси с товарами, как я в молодости езживал, так наплачешься, – говорил Иван Васильевич Крохин. – Мужики всего тебе на обмен дадут: масла и сала, овчин и пеньки, а что касаемо денег – не прогневайся.
– Вот, батюшка, ваше величество, такие-то дела, – сказал Жарков, и его молодые, с оттенком удалого ухарства глаза заиграли. – Ежели мужикам волю даровать, все к самолучшему повернется, все в достодолжный порядок придет.
– Стало, выходит, господа купцы, однодумье у нас с вами? – спросил, подбочениваясь, Пугачев.
– Однодумье, однодумье, батюшка! – в один голос молвили купцы. – А помещиков, сгинь их головы, от торговли в сторону! Отойди-подвинься...
Пугачев заулыбался, произнес:
– Благодарствую, голуби мои, – и, хлопнув Крохина по мясистому плечу, воскликнул: – Ну, Иван Васильич, хоша дал я зарок не пить, а на радостях чару, пожалуй, опрокину. Налей-ка той вон хреновинки с травкой.
Все поклонились Пугачеву, выпили.
– И дозволь уж, царь-государь, насмелиться еще тебя спросить, – проговорил Жарков, повышая голос. – Ну а как ты насчет веры, не станешь ли нашу веру старозаветную утеснять да рушить?
– Наше самодержавство веру станет блюсти всякую, чтоб никому ни обиды, ни утеснений не творилось. Вот мое слово.
Тогда все, как по уговору, поднялись и низко Пугачеву поклонились. Вслед завязалась живая беседа. Емельян Иваныч расспрашивал купцов про город: как укреплена Казань, велика ли в городе сила, с какой стороны сподручней штурмовать укрепления.
К полуночи Емельян Иваныч был уже дома. К нему в палатку вошли черноглазый щуплый офицер Минеев и колченогий полковник Белобородов.
– Мы не столь давно, ваше величество, вернулись с Иваном Наумычем из разведки, – начал свой доклад Минеев. – Я татарином был одет, по-татарски мало-мало смыслю лопотать, а Белобородов нищим, с костылем да торбой. – Он подробно доложил Пугачеву о расположении укреплений, о количестве пушек и примерном числе защитников, о настроении народа. – В народе и так и сяк толкуют. Пожалуй, многие намерены преклониться нам. И поголовно все перед армией вашего величества в страхе стоят. Даже солдатство.
– Старик один встренулся нам, из садов вышел, – сказал Белобородов. – Он толковал, что ежели государь придет, встречать его не станут с крестами да иконами, а побросают оружие да и перебегут к нему. Нам, говорит, объявлено, что ежели с крестами народ выйдет государя встречать, то генерал Потемкин с губернатором Брантом и по крестам учнут из пушек палить. Потемкин-де недавно из Питера прибыл, такая собака, что страсть.
До конца выслушав разведчиков, Пугачев обратился к Минееву:
– А ты вот что, ваше благородие... Не ведома ли тебе купца Крохина, Ивана Васильевича, крупорушка, она по сю сторону ихней обороны стоит?
– Знаю, там кустарник и черемушник, это и с версту не будет от дачи с огородами купца Осокина.
– Во-во-во... Ну, так там, возле крохинской крупорушки, сарайчик немудрененький есть. Понял ли, ваше благородие? А ежели понял, бери немедля полсотни казаков да башкирцев либо ситовских татар и езжай скорым маршем туда. В амбарушке тихо-смирно заберешь ружья, штук четыреста, да порох со свинцом... Караульный хаю не подымет, свой поставлен... Чуешь?
– В точность выполню, ваше величество!
– Ну, с Богом!.. Утресь доложишь мне. Иди и ты, Иван Наумыч, спать хочу. Да пришлите-ка мне офицера Горбатова, ежели он близко...
Вскоре вошел Горбатов.
– Возьми-кося, ваше благородие, вот этот сверточек да разверни. Тута-ка голштинское знамя, мой наследник Павел Петрович прислал мне оное... (Горбатов распаковал сверток, вынул голубое шелковое полотнище, встряхнул его.) Узнаешь ли?
– Не видывал, государь... Слыхать слыхал про четыре знамени, при голштинском корпусе в Ораниенбауме бывших, а видать не доводилось, врать не стану.
– Мое, мое знамя, самое доподлинное голштинское, уж я-то знаю!.. – проговорил Пугачев, прищуривая то правый, то левый глаз. – Чтоб завтра с утра прибить это знамя к древку и показать всей армии нашей императорской. Значит, ваше благородие, весь лагерь с ним объедешь и всем толкуй про знамя-то, что да как. Возьми барабанщика, чтоб в турский тулумбас бил, народ сзывал. Тебе это, Горбатов, поручаю да полковнику Творогову; поди, уж дрыхнет он... Да и я вот чего-то носом поклевывать зачал, карасей ловить. Ну, поди с Богом. А про Михельсонишку нет слухов?
– Его отряда на сотню верст и в помине нет, государь!
Горбатов, уходя со знаменем, немало дивился: откуда оно взялось? Судя по вензелю и по черному прусского начертания орлу, знамя действительно голштинское. Да, много на белом свете всяких чудес бывает...
Вошла давно поджидавшая у входа Ненила, туесок кумысу да жбан сыченого меду принесла. Живот Ненилы заметно округлился, через месяц, через другой, пожалуй, приспеет пора и родить. Взбила горой перину.
– Ну вот, спи-почивай, батюшка, – сказала Ненила печальным голосом, – когда прикажешь будить-то?
– На зорьке, Ненилушка, на зорьке, – и, пошарив в карманах, он протянул ей два сахарных леденчика. – На-ка, возьми девочке Акулечке. Да смотри, чтоб Ермилка не сожрал. Он таковский...
– Что ты, батюшка!
4
Утренняя заря едва окрасила безоблачное небо. С Волги на Казань подымался ветерок. Пугачев, окруженный полусотней яицких казаков, подъехал к городу, слез с коня, опустился на колени, стал молиться на соборы и шептать: «Матушка Казань! Бежал из тебя острожником, вхожу в тебя царем». Подражая ему, казаки сдернули шапки и тоже принялись молиться на соборы.
Затем Пугачев говорил с коня:
– Господа командиры и полковники! Творите неусыпный досмотр, дабы всякий человек из нашей императорской армии не страшась в штурм шел. У кого есть оружие – грудью вперед иди! У кого, окромя дубинок, нет ничего, те пускай само-громко в голос орут, криком да гвалтом помогают штурму.
Затем Емельян Иваныч принялся осматривать в трубу расположение городских укреплений. Вот на горе кремль. От Спасских ворот его тянется книзу, через весь город, кривая неширокая улица. Идет она к Черному озеру. В конце ее за погостом Воскресенской церкви, на откосе горы разбросаны там и сям деревянные лари, лавки. Это – Житный торг. Дальше по откосу, у самого озера, закоптелые курени. Здесь, бывало, с утра до ночи шла оживленная стряпня: блины, студень, лапша, пельмени. А вот вблизи дома купца Осокина – «Серебряный кабак». Пугачев хорошо помнил это место: не раз он пилил здесь для кабака дрова в паре с арестантом Дружининым, с которым и бежал из казанского острога.
Атаманы помогли Пугачеву подняться на высокое дерево. Вид открылся много шире. Под зарею розовела Волга. По Арскому полю и дальше, к Волге, зеленели рощи с постройками и кой-где фруктовые сады. Золотились кресты шестнадцати городских церквей и монастырей. Тянулись замкнутым четырехугольником каменные гостиные ряды. Из серого месива деревянных домов и лачуг высились там и сям каменные купеческие, не то помещичьи постройки.
Все защитники города были на своих местах. Вот она – гимназическая батарея, о которой говорил вчера Минеев. Недалеко от батареи стоял корпус Потемкина, в нем, на взгляд, сот до пяти солдат да сотни две конных чувашей. Пугачев подметил, – ему об этом докладывал и Белобородов, – что город хоть и прикрыт батареями и обнесен на пятнадцать верст рогатками, однако же укрепления сделаны без уменья, наспех, открывалась полная возможность действовать здесь с тыла и с фланга.
Едва всплыло солнце в небо, к городу стали подходить пугачевские отряды. Армия была в полном порядке и построена в пятисотенные полки. Емельян Иваныч собрал в круг всех атаманов, полковников и держал к ним речь, как сподручнее сделать на город нападение. Офицер Горбатов стоял рядом с Пугачевым, в его руках развернутое голштинское знамя. После краткого совещания армия была разделена на четыре части. Над лучшей из них, где были казаки, командование принял сам Пугачев, над второй – Белобородов, над третьей – Минеев, над четвертой – Творогов. Атаман Овчинников, недомогая в это утро, остался в лагере с резервами.
Среди армии разнесся слух, что, как только Казань будет взята, государь пойдет на Москву. Все подтянулись, поокрепли духом, и даже у вооруженных дрекольем обозначился молодцеватый вид.
Из кремля ударила вестовая пушка. От рокового этого грохота у многих сжались сердца и кровь прихлынула к вискам. Вслед за пушкой со всех городских колоколен загудел сплошной звон. Защитники приготовились к бою, с трепетом взирая на огромные, показавшиеся вдали силы Пугачева. Дрогнул духом и гимназический «корпус», к коему присоединены были художники и еще ремесленники из немцев, проживающих в Казани. Учителя стояли по крыльям, а в середине, в две шеренги, ученики – передняя шеренга с карабинами, задняя – с пиками. Всего было пятьдесят карабинов.
Потемкин из своего пятисотенного отряда выделил авангард в восемьдесят человек при двух пушках и расположил его впереди рогаток.
По улицам и переулкам житейская суета еще не закончилась. Весь вчерашний день и всю прошлую ночь горожане стаскивали, свозили свое добро в погреба, в подземелья, в склады, в церкви. Но времени покончить с этим не хватало. И вот, под звуки сполоха, старики, женщины, дети продолжали еще тащить свой скарб в места, которые они считали безопасными. Всюду слышались раздернутые крики:
– Васятка, не отставай, сынок, не отставай! Где у тя корзина-то с едой?
– Дедушка Петрован! Подмогни мне тележку через мостки перетянуть.
– Тяжел у тя сундук-то, – кряхтит дед, налегая на тележку.
– Тяжел, бес его задави, упарил он меня.
И еще в разных местах, вплетаясь в начавшийся общий гул, звучали голоса:
– Поспешайте, поспешайте!.. Ох, вот наказание-то Господь послал...
– Теките, православные, в храмы Божии. Запирайтесь там.
В широкие ворота женского Покровского монастыря дворня вносит на качалке престарелого генерал-майора Кудрявцева. Ему сто десять лет. Он отлично помнит Степана Разина, но уже не понимает того, что сейчас вокруг происходит. Он брит, броваст, лицо обрюзгло, на голове огромный парик.
– Подать сюда губернатора! Подать губернатора... Не позволю, – выкрикивает он капризным старческим голосом. – Его казнили. Стеньку Разина! Сам видал, сам видал!.. В Москве... Голову снесли!
Внук купца Сухорукова, тринадцатилетний Ваня, любопытства ради залез на крышу своего высокого дома, что на Арском поле. Рядом – Грузинская церковь, и все поле открыто его взору[53].
Утро зачиналось доброе, погожее, однако ветер из-за Волги все больше набирал силы, не дай Бог – пожар.
– Горим, горим! – с писклявым криком пробегает бородатый, в бабьем сарафане, дурачок Сережа-бабушка. – Вся Казань горит!
– Замолчь!.. Эк что выдумал. Замолчь, Сережа-бабушка! – кричат на него со всех сторон.
Купеческому внуку Ване наблюдать за всем этим с высокой крыши любопытно. Вот ужо-ко он всем, всем порасскажет. Но занятней всего смотреть ему на то, как вдруг зашевелилась вражеская армия. А вот и сам Пугачев на белом большом-большом коне. Он, он, ей-Богу! Его окружают нарядно одетые казаки, да и сам он, как на картинке. Возле него голубое знамя полощется под ветром. Ой-ой-ой, какая же у Пугачева сила войска-то: подходят, подъезжают! А сколько башкирцев да калмыков с татарвой, у всех луки, копья.
Но вот Пугачев приподнялся на стременах, огляделся во все стороны, широко взмахнул рукой, что-то крикнул. Затрубили в рожок, ударили в барабаны, и все люди, конные и пешие, тотчас направились вперед и в стороны. По Арскому полю местах в пяти двигались длинными линиями огромные телеги с возами сена и соломы. Телеги подталкивались сзади народом. Меж возами тянулись пушки, а сзади укрывались сотни пугачевцев.
Загрохотали пушки. Крыши начали вздрагивать, и все в глазах Вани закачалось. Воинственный пыл ударил ему в голову. «Вот сейчас слезу, побегу. Кто будет побеждать, к тому и пристану...»
– Ваня, Ваня! Слезай живей! – заполошно кричал снизу его родной дедушка.
И вот они, вместе с дедом, бегут спасаться в ближайшую Грузинскую церковь. Она вся набита народом. Горы сундуков и узлов с имуществом. Через окна в алтаре льются лучи восходящего солнца. Все духовенство – в простых рубахах, в штанах, босиком, чтоб не узнали мятежники, – сидит на узлах среди прихожан. Слышатся шепоты, стенания, вздохи. Все притаились. Пушечная пальба сотрясает церковные стены. Народ то и дело падает ниц. Здесь и там слышится молитвенное:
– Пресвятая Богородица Грузинская, спаси нас!
Ваня видит через окно, как над куполом носятся голуби. А дедушка Вани, старик Сухоруков, спешно ушел из церкви в свой дом: там остались на стене занятные часы с кукушкой – дед хочет доставить их в церковь.
Отряды Белобородова и Минеева, под прикрытием возов соломы и сена, прошли Арское поле, заняли рощу помещицы Нееловой и отдельные домики, стоявшие по сторонам сибирской дороги.
Белобородов стал окружать с трех сторон потемкинский авангард, возглавляемый полковником Неклюдовым. Авангард встретил Белобородова ружейными залпами и пальбой из двух пушек. Пугачевцы падали, но, позабыв страх, дружно шли вперед. На помощь к Неклюдову двинулся сам Потемкин, но, видя, что пугачевцы, не боясь урона, заходят с обоих флангов, подал команду отступать за рогатки. Началась горячая перестрелка. Сотни башкирских стрел с гудящим воем летели в защитников. На городских батареях не было при пушках хороших канониров, поэтому пушки стреляли по пугачевцам неумело и вяло. Оробевшие солдаты тоже плохо отстреливались.
Потемкин с ротой отборных стрелков находился в засаде за невысоким земляным валом. Вдруг на поле показался, в окружении свиты, Пугачев. Он на крупном белом коне, в красном с позументами жупане, в высокой шапке. Не замечая засады, всадники скакали наперекосых к Рыбачьей слободе, где шел жестокий бой. Судя по взятому ими направлению, они должны были промчаться невдалеке от засады.
– Ребята! – радостным голосом закричал Потемкин. – Это Пугач! Пали в него!
– Ррр-о-та! – передали команду офицеры.
Стрелки, лежа грудью на валу и выставив лишь головы, вскинули к плечу ружья. Острия штыков уставились прямо на переднего всадника.
– Пли! – скомандовал выскочивший на вал Потемкин.
– Пли! Пли! – подхватили команду офицеры.
Пугачев скакал впереди своей свиты, совсем близко от засады. Видя лицо в лицо величавого всадника на белом коне и в красном жупане, солдаты враз оторопели. Их сковала непонятная сила и какое-то волшебное очарование. И, словно по уговору, ни один солдат не осмелился выстрелить в него.
– Пли, сволочи! – вне себя заорал Потемкин и грянул по всадникам из пистолета. Пугачев на всем скаку повернул в его сторону лицо и, грозя вскинутой нагайкой, скрылся в клубах пыли и порохового дыма.
Растерявшийся Потемкин не мог теперь поручиться за своих солдат. Тем временем белобородовские молодцы продолжали наступать на потемкинцев с устрашающим гвалтом, визгом, ревом – качался воздух, звенело в ушах. Потемкин, прикидывая в уме создавшееся положение, начал подумывать о ретираде в кремль.
Отряд офицеров Минеева успел занять загородный губернаторский дом и двинулся дальше, к «корпусу» гимназистов.
– На изготовку! – прозвучала команда. – Не трусь, молодцы! Помни присягу.
«Корпус» защищался отчаянно. Гимназисты, толстяк Мельгунов с черноглазым Михайловым, сначала перепугались, затем позабыли о всякой опасности. Они успели выпустить из карабинов по десятку пуль, затем принялись защищаться тесаками.
– Руби косоглазых! Руби сволоту! – не помня себя, орал юный толстяк Мельгунов, размахивая тесаком. – Михайлов, бей!
Но вот что-то оглушило его ударом в голову, он упал и был тут же заколот копьем башкирского всадника.
Следом замертво пали два дворовых человека фон Каница, два учителя, четверо немцев; несколько гимназистов было ранено стрелами, слегка ранен и директор. Вскоре «корпус» дрогнул, побежал, рассыпался по полю.
– Воспитанники! За нами, к кремлю, к кремлю! – сзывал их фон Каниц и двое уцелевших офицеров.
Прорвав цепь гимназических рогаток, отряд Минеева оказался в тылу ближайших к этому месту защитников.
Пугачев вел нападение на левый фланг обороны, где сражались жители Суконной слободы. Защитники пальнули в нападавших из единственной чугунной пушки, в которую, по незнанию, переложили пороху, орудие разорвало, четверо пушкарей было изувечено. Тогда суконщики схватились за железные ломы, самодельные копья, сабли. Пугачев приказал открыть по слободе огонь картечью. Слобода была взята, защитники ударились в бегство. Но большинство рабочих-суконщиков тут же передалось Пугачеву.







