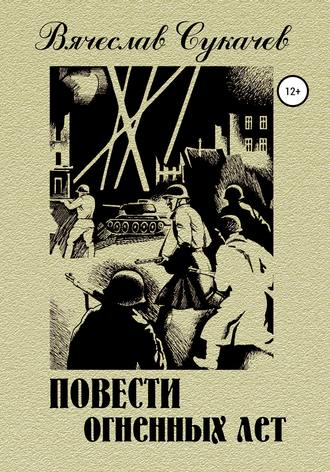
Вячеслав Викторович Сукачев
Повести огненных лет
Глава одиннадцатая
И пришел Матвей. Была уже осень. С вечера зарядил нудный, кислый дождь, к ночи перешедший в проливной. Матвей пришел промокший и пьяный, по-хозяйски разулся у порога и босиком, наступая на шнурки от кальсон, протопал по комнате, постоял у печки, погрел над ней руки и сел к столу. Редкие мокрые волосы разметались по лбу, лезли ему в глаза, он не замечал этого и долго сидел молча, сосредоточенно глядя прямо перед собой. Серафима смотрела, смотрела на него, и вдруг стало ей жаль мужика, но жалость эта была без любви, без чувства родства. Она давно ждала Матвея, знала, что он придет, готовилась к трудному разговору, а теперь вот, когда увидела его, жалкого и пьяного, все как-то вылетело из головы, и осталось лишь одно удивление – да неужто с этим человеком она прожила пять лет? Пять лет делила с ним одну крышу и постель, родила от него дочь, стирала ему нижнее белье и портянки. Не верилось во все это Серафиме, таким далеким и чужим увидела она то время. Казалось, его и не было никогда, а если и было, то жила в то время какая-то другая Серафима, к ней сегодняшней никакого отношения не имевшая.
– У тебя чай есть? – глухо спросил Матвей.
– Найдётся…
Серафима достала кружку, налила Матвею чаю, а сама опять села на низкий топчанчик и закурила.
– Навоевалась? – Он ухмыльнулся и осмотрел полупустую комнату. – Одна осталась, не скучаешь?
– Скучаю, – просто ответила Серафима.
– По ком же? – Матвей дернулся на табуретке, покривился, потом хрипло, через силу, засмеялся. – По фронтовикам?
– Нет, Матвей, по дочери.
– Ишь ты, – притворно удивился Матвей, – четыре года не скучала, а тут вспомнила… Позднёхонько, а, Серафима?
– Матвей, ты зачем пьяный-то пришел? Для смелости?
– Для смелости.
– Тогда ступай домой. Разговора у нас не получится.
– А может, я мириться пришел?
– Мы с тобой не ссорились, Матвей. А разговаривать я с тобой буду, когда Олю приведешь.
Матвей умолк, что-то туго соображая, и вдруг злые огоньки загорелись в его глазах, лицо расплылось в понимающей ухмылке:
– Ну да, я рылом не вышел… Там, поди, офицеры были, а то и генерал захаживал? А, Серафима? Чего молчишь? Я для тебя теперь не тот сорт. Фруктов, конфеток у меня нет, а ты, наверное, теперь к ним привычная. Молчишь? Сказать неча… Конечно, где уж мне с тобой разговаривать. Ты геройски воевала, а я тут просидел, груши околачивал…
– Матвей! – Серафима нахмурилась, и заболело, заныло в плече. – Иди домой.
– Гонишь? А я, может, у тебя хочу остаться. Я, может быть, люблю тебя. Неужто спать меня, своего законного мужика, не положишь?
– Нет, Матвей, не положу.
– Так, – Матвей угрожающе засопел, – брезгуешь после офицерья?
Он неожиданно быстро вскочил и бросился к ней. Серафима успела лишь приподняться, как сильный удар по голове опрокинул ее назад, на топчанчик. Всей тяжестью тела Матвей навалился на нее, схватил за горло и начал душить. Серафима не сопротивлялась. Мягко и сладко закружилась голова, кончики пальцев обожгло жаром, и перед глазами засияли ослепительно яркие радуги. И вдруг припомнилось Серафиме лицо Рыбочкина, его равнодушно-ленивый взгляд и шепелявый голос, и показалось ей, что это его руки на шее, его тяжелое жилистое тело навалилось вновь на нее, и рванулась Серафима с такой силой и яростью, что Матвей отлетел на пол, стукнувшись головой о стол. Не помня себя, накинулась Серафима на Матвея и принялась бить его по щекам, всхлипывая и давясь слезами…
И сидели они потом в тишине, и рассказывала Серафима притихшему Матвею все, как на духу выложила, задыхаясь от обиды и памяти.
Долго молчал Матвей, и хмеля его как не бывало. Ничего не сказал про Рыбочкина, а про Пухова спросил:
– Любишь его?
– Люблю, Матвей, – тихо ответила Серафима.
– Что же не уберегла?
– Не смогла.
– А я сволочь, Сима, – вдруг с тоскою сказал Матвей, – Ольгу для тебя не сберег. Сам-то уж ладно, а о ней вот и не подумал… Варька-то теперь её по своей мерке воспитывает. Ты бы съездила в район, может быть, там помогут. Съездий, Сима.
– Съезжу, Матвей… А может, ты сам уговоришь её? – с надеждой спросила Серафима.
– Уговаривал уже, – вздохнул Матвей, – нет, добром она её ни за что не отдаст.
Уже рассветало, когда уходил Матвей. Серафима проводила его до порога. Постояли в молчании. Матвей робко сказал:
– Я уж буду изредка проведывать тебя, ладно?
– Как хочешь, Матвей, – просто ответила она.
– Может, чего помочь?
– Нет, не надо… Лишние разговоры пойдут. Я уж как-нибудь сама.
– А в район съездий, Серафима. Я еще с ней поговорю, конечно, но сомневаюсь.
И Матвей ушел, оставив в ней грустную боль и далекие воспоминания…
В районе её долго слушали, отправляли из кабинета в кабинет, удивлялись, звонили в Покровский сельсовет, но так и не дозвонились. Наконец какой-то маленький и вёрткий человек сказал ей:
– Хорошо, Лукьянова, поезжайте домой. Мы пришлем представителя. Там, на месте, и разберемся.
Представитель приехал через неделю и оказался тем же маленьким, зырким человеком по фамилии Петрусевич. Вначале он долго беседовал в Совете с Варькой, а потом пригласил Серафиму.
– Очень сложная ситуация, – сказал он ей, ерзая на стуле за столом под красным материалом. – Ведь вы, Лукьянова, фактически значитесь погибшей. Никаких других сведений на вас с фронта нет.
– Да какие же сведения могут быть, – удивилась Серафима, – если я – вот она?
– Минуточку! – строго поднял руку Петрусевич. – Не перебивайте меня… Учитывая то, что вы сами вернулись с фронта и предъявляете претензии на девочку Олю Рындину…
– Какая же она Рындина?! – не выдержала Серафима.
– Минуточку! – Петрусевич покраснел. – Иначе я умываю руки. Вас, что же, на фронте дисциплине не учили? Так вот, повторяю, так как вы предъявляете претензии на девочку Олю Рындину, официальную дочь Варвары Петровны Рындиной, лишь на том основании, что якобы являетесь ее фактической матерью, мы проведем сейчас очную ставку.
– Какую ещё очную ставку? – не поняла Серафима. – Зачем?
– А такую, – невозмутимо ответил Петрусевич, – что Варвара Петровна приведет сюда девочку, и кого она назовет своей матерью, тот и будет считаться и фактическим и официальным её родителем… Только попрошу вас, никаких эксцессов.
– Чего?
– Вести себя пристойно и… и рук не распускать. Мы этого не допустим.
– Да ведь она меня четыре года не видела, – заволновалась Серафима. – Когда я уходила на фронт, ей только три годика сровнялось. Нельзя так, товарищ Петрусевич… Вы пойдите в село, там вам любой скажет, что я её мать!
– Никаких сплетен мы не допустим! – хлопнул рукой Петрусевич. – Командовать здесь буду я, а не вы, если не хотите, чтобы я умыл руки.
– Так спросите хотя бы отца, – устало попросила Серафима, чувствуя подступающую пустоту и равнодушие в душе.
– Никаких расспросов. Повторяю вам, все будет решать девочка. И еще раз повторяю – в противном случае, я умываю руки.
– Да что вы, в самом деле, – не выдержала Серафима, – утром их не моете, что ли?
– Попрошу моей личности не касаться! – подпрыгнул за столом Петрусевич. – Думаете, если вы воевали, так вам все позволяется. Нет, гражданка Лукьянова, и на вас законы найдутся.
Серафима поморщилась и промолчала…
Вошла Варька, ведя за руку Олю. Лицо Варвары Петровны было скорбно и печально. Не глядя на Серафиму, она села на чёрный диван и рядом посадила Олю. Серафима не шелохнулась, с тоской и болью вглядываясь в лицо дочери, потом, боясь не выдержать и расплакаться, отвернулась к окну, ничего за ним не видя.
– Оля, девочка, подойди ко мне, – умильным голосом сказал Петрусевич, перекладывая на столе бумаги.
Оля посмотрела на Варвару Петровну и робко пошла к столу.
– Скажи мне, девочка, – заговорил Петрусевич, ёрзая на стуле, – тебе дома хорошо?
– Да, – шепотом ответила Оля.
– Ты из дома никуда не хочешь уходить?
– Нет.
– Тебя никто дома не обижает?
– Нет.
– Молодец, Оленька, хорошая девочка… А скажи мне, Оленька, кто твоя мама? Покажи мне.
– Вот, – Оля показала пальцем на Варвару Петровну, скромно потупившуюся на диване.
– Хорошо, Оленька. А вот эта женщина, эта тетя, говорит, что она твоя мама?
– Нет, – решительно тряхнула головой Оля, – она меня бросила.
– Ну вот, видишь как, – озабоченно и укоризненно сказал Петрусевич. – А ты, Оленька, хочешь пойти к этой тёте жить?
– Нет…
Не выдержав дальше, Серафима поднялась и молча вышла из комнаты. Странно, но ей очень захотелось чего-нибудь солёного. Она быстро шла по улице, а в голове у неё мутилось – так ей хотелось съесть чего-нибудь соленого. Дома, едва переступив порог, она бросилась в кладовку, достала из небольшой бочки соленую кетину и тут же, отрезав кусочек, принялась есть. Потом пошла в избу, попила чай, почувствовала легкое головокружение и прилегла на топчанчик. Её тут же стошнило, но убрать за собой она уже не смогла…
Очнулась Серафима через неделю. Мотька возилась у плиты. В доме было чисто прибрано, пахло лекарствами. Серафима тихо позвала:
– Мотя.
Мотька вздрогнула от неожиданности, оглянулась и радостно заулыбалась.
– Сима, наконец-то, господи!
– Что со мной, Мотя? – спросила Серафима.
– Горячка у тебя была… Думала, не оздоровеешь, – Мотька подошла, присела на топчанчик, – вся ведь огнем пылала, Сима, даже страшно было. Фельдшер тебе уколы ставил, а ты в бреду кричала, ругалась что-то, немцев поминала…
Серафима смутилась. Спросила Мотьку:
– При фельдшере ругалась?
– Да при всех… Тут и Матвей был, и Сергей Иванович, и Никишка пришлёпал с малиновым вареньем.
– Сильно ругалась-то?
Мотька засмеялась:
– Ну, значит, ожила, раз беспокоишься. А ругалась – так это ерунда. Лишь бы выздоровела, Сима… Сейчас я тебя покормлю. Лежи, лежи! – прикрикнула она, увидев, что Серафима пытается встать, и вдруг спросила: – А Пухов, это кто, Сима?
Серафима покраснела и отвернулась. Не сразу ответила:
– Командир наш… Погиб.
– Ну, ничего, – вздохнула Мотька, – бабий век долгий, авось и нам счастье отломится. Бывает же оно, счастье-то это… А, Сима?
– У меня было уже, – сухо ответила Серафима, – другого не хочу.
Вечером пришел Матвей. Долго мялся у порога, вытирал ноги о половичок. Потом достал из кармана бутылку молока, поставил на стол.
– Выздоравливаешь, Сима? – спросил приглушённо.
– Выздоравливаю, Матвей, – слабо ответила она, так как устала за день.
– Садись, чего встал у порога? – Мотька за столом вязала чулок.
– Да я на минутку, – замялся Матвей, – Сима, слышь, может, привести к тебе Ольку? Пусть остаётся здесь… Она-то, Варька, сюда побоится сунуться. А Ольга быстро поймет, что к чему.
– Нет, Матвей, не надо, – твердо ответила Серафима, – мы и так уже её задергали. Надо было раньше думать… А теперь – не надо. Ни к чему. Вырастет, сама всё поймет. Хоть здесь, на глазах, и то ладно. Не трогай ее…
Матвей нахмурился, неловко потоптался у порога и ушел.
– Чего не согласилась, Сима? – удивленно спросила Мотька. Не дождавшись ответа, с жалостью сказала: – Сошлись бы вы, что ли.
Серафима молчала, да и как бы она могла объяснить Мотьке, которая на жизнь смотрела легко и просто, что война не только ограбила её, но и наградила тем чувством, которого она так ни разу и не испытала к Матвею…
И потянулись дни, месяцы, годы, прожитые в одиночестве. Оля росла, окончила школу, поступила в педагогический институт, получила диплом. Серафиму обходила стороной, а когда все же встречались случайно, бросала короткое «здравствуйте» и спешила дальше. С годами боль Серафимы притупилась, но не пропала. Теперь она хотела только одного – поговорить с дочерью. Хоть час, хоть пять минут. Но подойти к ней почему-то не решалась. Ждала, что Ольга сама подойдет, но Ольга не шла. И Серафиме до боли удивительна была черствость родной дочери. Ведь не могла она не знать, кто её настоящая мать, родившая и выболевшая её жизнь в муках…
Глава двенадцатая
– Сима, что это с тобой?
Она очнулась и увидела, что рядом стоит Никита, удивленно глядя на неё.
– Я тебе – Сима, Сима, три раза позвал, а ты молчишь, – говорил Никита, – что это ты?
– Задумалась, – улыбнулась Серафима, радуясь Никите, его беспокойству, довольному виду и даже рыбьим чешуйкам, что пристали к его болотным сапогам. – Как съездили, Никита?
– Отлично, Сима! – Никита заулыбался. – Рыбалка у вас – во!
– Сейчас пойдем уху варить. Я только теплоход встречу, и пойдем. А то ступай один, отдохнешь, ключ под крылечком.
– Ну нет, – отказался Никита, – вместе и пойдем.
– А где Осип?
– В лодке.
– Чего он там?
– Рыбу караулит,– засмеялся Никита. И хорошо стало Серафиме от его смеха, так хорошо, как уже долгие годы не было. И она сказала Никите:
– А другой раз подумаешь, Никита, не война, так я бы тебя не знала, Пухова, Хворостина. И жили бы мы теперь в разных концах, не зная друг друга. Народ-то, вишь, Никита, не зря приметил – нет худа без добра. Конечно, не приведи господь еще раз такое пережить, а только и мы добром не обойдены…
После ухи, наваристой и круто перченой, Никита сказал Серафиме:
– Ну, Сима, ты тут убирайся, а нам с Осипом инструмент подавай. Наведем, так сказать, текущий порядок в хозяйстве.
– Отдыхали бы, чего там, – слабо запротестовала Серафима, но Никита решительно заявил: – Не дашь работы – уеду.
И принялись они с Осипом вначале за крышу, потом летнюю кухоньку поправили, потом и за ограду взялись – перевесили калитку, заменили подгнившие столбики, сменили штакетины. Серафима, управившись по хозяйству, вышла на улицу, хотела помочь мужикам, но они запротестовали. Тогда она закурила и присела на завалинку. Ей любо было видеть, как возятся мужики во дворе, давно не знавшем настоящей хозяйской руки, как незнакомо меняется облик ее немудреного хозяйства, от которого за версту несло сиротливым вдовьим неустройством. Играючи работая топором, Никита говорил Осипу:
– Так-то оно так, но не только потому мы отступали. Нет, Осип, не только потому… Он против нас танковые дивизии, самолеты, даже мотоциклами не побрезговал, вот и попер…
Серафима прислушалась к разговору мужиков и впервые удивилась тому, что, как бы ни были тяжелы воспоминания, а память все возвращается и возвращается туда, в войну, которую теперь, через тридцать лет, хочется понять как-то по-иному. Может быть, возраст тому виною или время, а может быть, и то, что война для них всех осталась как память молодости, но только неизбежен такой разговор, стоит лишь встретиться двум фронтовикам, с болью и боем прошедшим войну.
– Он, подлец, на танке прет, да еще и постреливает на ходу, – продолжал Никита. – Нет, Осип, не только в неожиданности было дело. Да и как можно было его не ожидать, когда он выходил к нашим исходным рубежам, автострады построил, аэродромы, танки перегнал.
– Так у нас ведь замирение с ними было, чтобы не нападать, – хмуро возразил Осип. – Кто думал, что у него совсем совести нет, и он наплюет на это замирение?
– Должны были думать… Придержи-ка этот конец, нет, поверни, ага, вот так. – Никита, ведя спор с Осипом, про дело не забывал, и оно в его крепких руках хорошо спорилось, и смотреть на работающего Никиту Боголюбова было одно удовольствие, как и на воюющего. Любому делу, за которое Никита брался, он придавал какой-то домашний уют, крепкую русскую хозяйственность. – Ты вот Серафиму спроси, она не даст соврать, как мы от тех чертовых танков бегали, вместо того, чтобы лупить по ним изо всех стволов. А почему бегали – снарядов не хватало.
– Бегали, – задумчиво кивнула Серафима…
– А я вот чего скажу, – вступил в разговор Осип, – ты, Никита, давеча хоть и складно говорил о том, как немец и Иван в наступление ходили, а только не потому мы победили. И потому, конечно, но главное в том, что он нашего солдата не уважал. За человека не считал. Вот тут у него главная промашка и получилась…
– Бог в помощь! – подошел дед Никишка. – А я слухаю, наверху топоры тюкают, ну, думаю, кто же это там строиться затеял… А вы тут Серафимины хоромы ладите. А это кто такой будет, что-то не признаю? – уставился дед на Никиту.
– Жених, дедушка, свататься приехал, – засмеялся Никита, – отдадите за меня Серафиму?
– Это ещё посмотреть надо. К ней ведь и не такие подкатывались, да от ворот поворот получали. – Дед Никишка пошмыгал носом, посмотрел на работу мужиков и пошел на завалинку к Серафиме.
– Здорово живешь, Серафима.
– Здравствуй, дедушка,
– Все куришь?
– Курю.
– А кто это?
– Однополчанин. Вместе воевали. Никита Боголюбов.
– Женатый?
– Да.
– А чего он?
– Шутит.
– Так-то мужик видный.
– Видный.
– Я еще давя его приметил, как вы с рыбой от реки шли.
– Что в городе не гостили?
– А чё гостювать, – нахмурился дед Никишка,– суда еще не было. Отвез ребятишкам гостинцев, да и домой… А я к тебе, черемухой разжиться. Старуха животом мается, так к тебе отправила. Может, дашь?
– Дам. У меня её с прошлого года ещё три банки стоит.
– Будь ласка, дай, как-нибудь сочтемся.
Серафима сходила и принесла деду черемухи.
– Слышь, Серафима.
– А?
– Эта… заноза, говорят, опять тебя поносила.
– Да бог с ней, – отмахнулась Серафима.
– Горбатого, видно, могила исправит, – удивился дед Никишка. – И чего ей ещё от тебя требуется? Мужа сманила, дочери начисто лишила, а все ярится. Чудно… Говорят, оркестр из района заказала.
– Зачем?
– А шут его знает. Теперь вроде бы всех при музыке хоронят, вот и она захотела. Конечно, денег много надо, да у нее-то их куры не клюют. Сама-то пойдешь?
– Пойду.
– Сходи. Пусть еще немножко побесится.
– Да я ведь не потому пойду…
– А и потому тоже сходи, – строго сказал дед Никишка, – пусть не располагает, что она тебя вконец одолела… Поясница ноне болит, с самого утра так и ломит, к дождю, что ли?
– По радио не говорили.
– Так они потом скажут.
– Не надо бы его сейчас.
– Знамо дело… Ишь, куют мужички. И Осип не пьяный… Сколько Матвею-то сполнилось?
– Пятьдесят седьмой пошел.
– Молодой ишшо.
– Нестарый.
– До моих годков-то жить да жить.
– Что делать, она не смотрит на годы.
– Не смотрит. Я вот зажился, а ничего, бог милует.
– Живите.
– А то, поживу еще годков пять. Ну, ладно, Серафима, спасибо за черемуху. Пойду старуху лечить. Чего надо – прибегай.
– Прибегу.
– Покурите, мужики, замаялись, – задержался дед Никишка у калитки.
– Нанимай нас, дедушка, мы тебе дачу отгрохаем. – Никита ловко поддел ломиком столбик и, довольный, посмотрел на деда.
– Вас найми – не расплатишься. Только напоить – Амура не хватит.
– А мы щелбанами возьмем, не дорого.
– Так я ведь не поп, – нашелся дед Никишка, покхекал от удовольствия и не спеша направился домой.
– Слышь, Никита, – повеселел Осип, – давай уж заодно и этот… ну, сортир что ли, отшаманим.
– В один момент.
– Осип, – окликнула Серафима, – а ты бы Мотьке ограду-то все-таки отремонтировал, а?
– Сделаю, – пообещал Осип.
– Так сделай.
– Ну, не сейчас же. Потом…
Уже сумерки опускались над Амуром и где-то далеко, за высокими сопками, вспыхивали и мгновенно гасли зарницы, когда Никита весело сказал:
– Ну, Сима, принимай работу…
Глава тринадцатая
Ночью пошел дождь. Серафима проснулась и слушала, как монотонно, уже по-осеннему, барабанит он в окно, по шиферной крыше, как из слива на правом углу дома падает вода в бочку и, выплескиваясь через край, стекает в огород. Хорошо было под одеялом, уютно в такую-то мокрядь, и Серафима покойно лежала с широко открытыми глазами. На диване, укрывшись с головой, посапывал Никита. Привычка, наверное, оставшаяся у всех фронтовиков. А вот Серафима такому сну не обучилась – стоило прикрыть голову, как она задыхалась, ей не хватало воздуха, и лучше уж яркий свет, чем это неприятное ощущение задушенности, как при беге в противогазе.
Потом Серафима вспомнила, что завтра похороны, и опечалилась. Даже и не завтра уже, а сегодня, так как внизу, в Покровке, отпели первые петухи, басовито прогудел рейсовый почтовый водомёт из райцентра. Да, сегодня уже, и мало хорошего в том, что на самом исходе лета занудел этот дождь – расквасил землю, затопил мари по берегам Амура – ни рыбы теперь не взять, ни ягоды. Но главное, конечно, похороны. Оно и так на душе муторно, а в такую занудную погоду и подавно. Хорошо хоть копали вовремя управились, а ещё лучше, если догадались прикрыть чем-нибудь могилу. Хоть и мертвый человек, а все одно в мокрую могилу не с руки его класть.
И опять ненароком припомнилась ей война и то, как хоронили боевых товарищей в воронках, окопах, торопливо присыпая землей, торопливо, если были патроны, салютуя, не всегда успевая поставить фанерный обелиск со звездой, и тогда над холмиками земли оставалась простая каска или пилотка, и уже те, кто шел следом за ними, не знали, кто здесь похоронен и как смерть от войны принял… И сколько их, таких-то вот безымянных могилок, земляных холмиков под пилотками и касками осталось на земле. И всех приняла земля, и новых людей взамен дала, и кому ведомо, лучше они тех, что под холмиками, красивее или же не удались статью, не вызрели душой. Кому это ведомо – никому… Они выросли без войны, и, слава богу, научились жить хорошо, и от жизни много требовать, и это не беда, пусть требуют, пусть живут в счастье и радости, потому как на этот век бед и зла и без того достаточно было. Только бы не забывали, что это счастье беречь надо, беречь пуще своего глаза и жизни своей, потому как добывалось оно слишком дорого, чтобы растерять его за здорово живешь, по лености или тугодумью.
Фронтовиков-то, прав Никита, все меньше остается, рано уходят они, чаще всего и до пенсии не доживают, слишком много сил пришлось им отдать в те четыре года. А кто еще, как не сами фронтовики, могут рассказать о войне всю правду. И такие рассказы никакие фильмы не заменят, никакие книги не осилят, как бы хорошо там все ни писалось и ни показывалось. Только на ее, Серафиминой, памяти, сколько случаев таких было. Пусть знают все. И то, как трупы молевым сплавом по рекам шли, и то, как в разведку боем ходили, и как прорвавшихся из окружения солдат встречали… Был случай, спрашивает ее Колька Кадочкин: мол, тетя Сима, цветы-то вам дарили на войне или нет. А она вот что-то за всю войну и цветов не припомнит, и бог их знает, были они тогда на земле или нет. А даже и были, то какие же это цветы, если они из крови всходили, если вся земля этой кровью и железом как губка напиталась…
Серафима заворочалась, захотелось ей курить, но она боялась дымом потревожить сон Никиты и перемогла, стерпела это желание и опять прислушалась к дождю, и припомнилось ей с болью, сколько таких-то вот сиротливых ночек пережила она за свою жизнь, одиноко ворочаясь в постели и с грустью думая о том, кого уже давно не было на земле, да и в самой-то землице вряд ли чего осталось. И, казалось, затаить бы ей обиду на неудавшуюся свою жизнь, на тех, кто лучше устроился, кто быстрее от войны сумел отойти, и от памяти о ней, но нет, не было такой обиды в Серафиме, никогда не приходила она к ней, даже в самые горькие минуты, даже в самые тяжелые часы. Она сама, без принуждения и натуги, выбрала свой удел и сама, без жалоб и сетований, справлялась с ним. Только однажды… Да нет, и однажды не было. Было что-то жалостное, скорее, материнское, чем бабье.
Тот мальчик-председатель, бывший комсомольский работник, Сергей Иванович Козлов, вдруг начал больно сильно заботиться о ней. Придет она домой, а во дворе целая машина дров лежит, напиленных и наколотых, в другой раз кто-то сарайку перекроет, огород вскопает. А однажды и того чище – два кубометра теса завезли, потом из этого теса летнюю кухоньку соорудили, и опять без её ведома. Она ещё и в толк ничего взять не успела, а по селу уже слухи пошли, и Матвей вдруг разом перестал с нею здороваться. Тогда Серафима пошла к председателю. Шла сердитая, готовая наговорить ему черт знает чего, даже из колхоза выйти, но как вошла в кабинет и увидела густой румянец на председательских щеках, его виноватые и покорные глаза, так все разом из головы и выскочило. От его смущения и сама смутилась, так как в деле хваток был молодой председатель, тверд и строг. Спросила его:
– Это вы всё?
Он кивнул и стул ей подставлять бросился.
– Зачем?
– Помощь от колхоза, как одинокой фронтовичке. Вы заслужили…
– А люди думают, что за другое заслужила.
– Ну что вы! – Он опять покраснел, даже большие уши покраснели, склонился над столом и тихо сказал: – Я ведь всё это от чистого сердца.
– Я знаю, но только больше не надо, – и, уже поднимаясь, неожиданно для себя сказала: – Заходите в гости, раз интересуетесь моей жизнью. Вот и увидите, что я не хуже остальных живу.
Через два дня он и пришел. Вначале смущался и прятал это смущение за напускной строгостью, но она-то видела и понимала его, и жалела почему-то. А он все приходил и однажды остался, и она как-то спокойно согласилась с этим. Но когда увидела, что все заходит слишком далеко, что и сама уже скучает по нему, если он где задерживается, испугалась. Ночью сказала:
– Сережа, что-то надо делать.
– Что такое? – не понял он.
– Молод ты еще, Сережа. Я против тебя старуха.
– Тебе тридцать лет, Серафима, какая же ты старуха?
– Я не годами старуха, Сережа, а жизнью. Ты не поймешь.
– Нет, отчего же, пойму.
Ей было грустно, что он так легко собирается понять всю ее жизнь, когда она и сама её толком не понимает.
– Тебе, Сережа, хорошую девушку искать надо. А я баба, я истратилась уже вся до донышка и ничего такого, что в тебе есть, во мне давно нет.
– Что же делать, Серафима, если я без тебя не могу!
– Не знаю. Но что-то делать надо. А врать я не умею, Сережа.
Жизнь, как всегда, распорядилась по своему усмотрению, и Сережа, Сергей Иванович, уехал на пять лет учиться. К тому времени колхозы уже оправились после войны, подросли ребята, да и управлять хозяйством было кому, вот Сергея Ивановича и отпустили на учебу. И хоть клялся и божился он, что непременно вернется – не вернулся. Но письма присылал ей долго, звал к себе, сам грозился приехать. Она запретила.
…А дождь все лил, и сквозь эту морось начал проступать мглистый рассвет. Вначале побелела и выделилась из тьмы та стенка, что была напротив окон, потом уже можно было разглядеть потолочные доски и черную тяжелую матицу.
Никита спал без просыпа, видимо, все-таки уработался за день, да и годы уже не те. Как ни бодрись, а все чаще приходит какая-то беспричинная усталость, растекается по телу, вяжет мысли, и в такие минуты начинаешь понимать, что чувствуют люди перед смертью. Вернее, догадываться, потому что понять это не дано человеку ни до, ни после нее…
О чем думалось Матвею? Что вспомнил он? Чужой, а вроде бы и близкий человек, так хорошо понятный ей. Вспомнил ли он свою молодость или последние дни жизни? А может быть, то и другое враз? Вспомнил ли он ее или Варвару Петровну, или их обеих? Кто это может знать? Человек прожил жизнь, и все, что он успел сделать, осталось на земле, а то, что успел узнать от нее, унес с собою. Как ни говори, а свой опыт страданий и счастья на земле никому не передашь, и никого им не научишь – каждый должен изведать свою, только свою долю, и как это лучше сделать, ни у кого не узнаешь.
В последний раз приходил Матвей месяц назад. Она его долго не видела и поразилась тому, как он изменился за этот срок. Седой, задыхающийся, с обвисшими усами, сутулый и худой, он долго не мог начать разговор, глотая воздух открытым ртом и хватаясь рукой за грудь. Она испугалась его вида, растерялась и не смогла вовремя все это спрятать, утаить от него. И он, когда отдышался, откашлялся, с вымученной улыбкой спросил:
– Что, Сима, сильно я сменился с лица?
– Похудел, а так-то…
– На скелет смахиваю, – перебил Матвей. – Врать-то ты не умеешь и никогда не могла, а теперь уж и не учись.
– Чай будешь пить, Матвей? – спросила она.
– Я ведь проститься к тебе пришел. В этот раз слег, дак все боялся, что не повидаюсь под конец, и шибко худо мне от того было.
– Спешишь, Матвей, – сердце у нее сжалось от спокойной уверенности Матвея в своем конце, – спешишь, а напрасно. Она и без нас знает, когда ей прийти, а ты её подгоняешь. Зачем?
Но Матвей, наверное, не слышал ее, потому что ровным глуховатым голосом продолжал говорить:
– Нескладно жизнь-то у меня получилась, Сима, нескладно. Не понял я тебя тогда, ночью, не понял, а потому и ударил. Прости.
– Господи, – удивилась Серафима, – нашел, о чем говорить…
– Отец, покойник, похоже, и то лучше в тебе разобрался. Может быть, потому все так и получилось, что я-то не разобрался. И еще одна моя вина перед тобою – за дочь. Прости, Сима, если можешь. Тяжело мне с таким грехом на тот свет собираться, а ведь сделанного не воротишь. Простишь ли? – С робкой требовательностью он смотрел на нее, и видно было, как пульсирует на руке, ниже большого пальца, маленькая голубая венка.
– Давно уже простила, Матвей.
– Спасибо, Сима… Я ведь старался, Сима, все силы прикладывал, но осилить Варвару не смог – она Ольгу по-своему воспитала. Уже выросла когда, повзрослела, сколько раз просил, сходи к матери, поговори, ведь родная она тебе, исстрадалась… Бросила, говорит, она меня, знать такой не хочу. Характером-то в тебя – упрямая, да только упрямство это не туда повернуто… Дай чего попить, Сима, что-то в груди жжет.
– Чаю?
– Давай чаю, только сахар не клади.
– Бог ей судья, Матвей. Она ведь по-своему тоже права.
– Она не по-своему права, а по-Варвариному. Если бы по-своему – можно и смириться.
– Тебе-то легче теперь?
– Легче.
– А то ляг, отдохни. Я диван разберу.
– Дал бы бог, – вздохнул Матвей, переводя дыхание после чая и наваливаясь спиной на стену, – у тебя на руках помереть, а больше ничего не хочу. Все уже перехотел и все уже отжелал… Я болел, так думал, Сима. От войны-то схоронился, за бронь спрятался, а она меня и дома нашла. Нашла и раздавила, как червя земляного и поделом. Осип вон пьет, тоже жизни нету, а и он счастливее меня. На праздник, 9 Мая, он вместе с тобой в президиум поднимается, а я в зале сижу.
– Кто-то ведь и здесь должен был остаться, – возразила Серафима, – всем нельзя.
– Должон, – согласился Матвей и прикрыл глаза, – но и здесь надо было по совести оставаться, а я по боязни сидел. Работал, конечно, не хуже других, а фронта боялся. Вот и весь секрет.
– Устал?
– Устал. Пойду сейчас. Я вот еще чего хотел тебе сказать. Ольге-то я напишу или сам скажу, если приведется, она должна последнюю мою волю исполнить. Так ты ей все расскажи, меня не жалей, не надо. То, что я тебе сегодня рассказал, тоже доложи. Не должно так все время быть, не по справедливости… Ну, пойду. Хватится, шуметь будет.
– Поправишься, приходи еще.
– Приду, – он усмехнулся, поднялся с трудом, посмотрел на нее долго и попросил: – Поцелуемся?..
Серафима вышла проводить Матвея и с болью смотрела, как медленно и неловко ковыляет он по тропе, низко опустив голову и широко расставляя слабые ноги…






