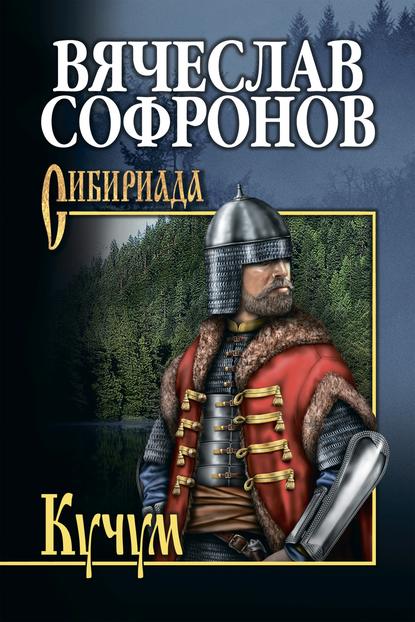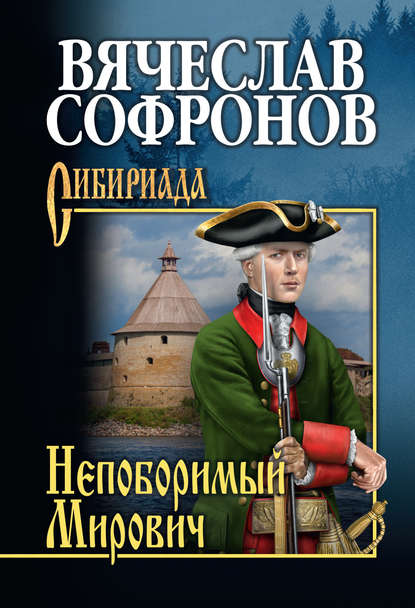Полная версия:
Вячеслав Юрьевич Софронов Отрешённые люди
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Вячеслав Юрьевич Софронов
Отрешённые люди
© Софронов В.Ю., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
* * *Дочери моей Елизавете посвящается
Историческая справка
«Желание сократить силы короля прусского не могли ослабить показания тобольского посадского Ивана Зубарева, который содержался по разным делам в Сыскном приказе, бежал оттуда, жил за границею, возвратился и был схвачен у раскольников. Через посредство Манштейна, бывшего адъютантом у Миниха и по воцарению Елисаветы перешедшего в прусскую службу, Зубареву было предложено ехать к раскольникам и возмущать их в пользу Ивана Антоновича… Но Зубарев вместо Холмогор попал в Тайную канцелярию. Показания его имели следствием то, что, как мы видели, Ивана Антоновича перевезли тайком из Холмогор в Шлюссельбург».
С.М. Соловьев.История России с древнейших времен. Т. 24.М., 1998. С. 343.Часть первая. Оглашенный Зубарев
Глава 1
Старый сибирский тракт тянулся между березовых перелесков и неглубоких, плотно укрытых снегом, ложков, поблескивая наезженными колеями, как вынутая из ножен сабля, указывая острием точно на север. По зимнику тяжелой рысью бежала заиндевелая каряя лошадка, укрытая от мороза серой солдатской попоной. Она словно нехотя тянула за собой сани-розвальни с тремя седоками в них.
Правил, сидя верхом на дубовом бочонке, уперев острые колени в облучок, рыжеусый казачий вахмистр Серафимыч. Рядом с ним, полулежа, чуть откинувшись на солому, расположился небольшого росточка помощник волостного пристава Яшка Ерофеич. А уже дальше, на задке, лежал стянутый веревками крест-накрест купецкий сын Иван Зубарев. Яшка время от времени тер рукавицей замерзший за дальнюю дорогу свой большой сизый нос и недобро взглядывал на Зубарева, ехидненько при этом улыбаясь. Иван старался не обращать внимания на красноречивые взгляды пристава, скрипел от злости зубами, но как ему выпутаться из непростой ситуации, в которую он по собственной глупости угодил, и не представлял. Вся надежда была на отца и своих сродных братьев, если по прибытию в Тобольск удастся дать им весточку. Но в город они доберутся, по подсчетам Ивана, не раньше завтрашнего вечера, а пока… пока он вглядывался в просветы меж деревьями, что плотной стеной стояли вдоль тракта, ловил краешек голубевшего неба и в который раз вспоминал начало той истории, которая закончилась его арестом и отправкой в родной Тобольск, из которого он столь неосмотрительно кинулся искать правду по всему белому свету. Жил бы и дальше при отце, при торговле, как и прочие его ровесники, те же сродные братья Корнильевы, обзавелся семьей, о чем не раз говорили ему и мать и отец, и глядишь, тихо-мирно прожил эдак до старости. Может, и прав был отец, когда советовал не браться за это дело, всячески отговаривал, но вот Иван настоял на своем, а теперь связанным возвращается обратно.
…Семейство Зубаревых уже не первый век как обосновалось в Сибири и пустило там крепкие корни. Отец Ивана, Василий Павлович, имел в городе и окрестностях несколько торговых лавок, вел торговлю и на Ирбитской и Макарьевской ярмарках, но сыну своему, хоть тому и было под тридцать, дело передавать не спешил, да и иных дел серьезных не поручал. Обычай этот унаследовал от своего отца, вышедшего из раскольничьей семьи, не признающей никониан-трехперсников. А по их разумению, неженатый парень к делу приставлен быть не может, пока не введет в дом невесту, и лишь после того станет во всем равен отцу.
Василий Павлович Зубарев искал сыну невесту из семьи состоятельной, равной себе по положению, чтоб, соединив капитал, как когда-то сделал его отец, с удвоенными силами вести торговлю, ширить прибыль, доход. Но Иван его слыл в Тобольске за жениха хоть и прибыльного, но непутевого из-за своих заморочек и правдоискательства. Имел он обыкновение поймать за руку своего соседа-купца, что думал втихушку сбыть заплесневелый товар, малость обвесить, обмишурить хоть на полушку хозяйскую кухарку, спозаранок, не проснувшись, заявившуюся на базар. Не любил Иван Зубарев и полицейских чинов, которые распускали руки по любому случаю и не один раз нещадно тузили его за излишнюю горячность и обидные слова.
Пробовал Иван писать и губернскому прокурору, самому губернатору, а мог и в Сенат накатать на гербовой бумаге за три копейки лист (деньжищи для простого человека преогромные), жалобу на всех местных начальников. Чего уж в тех жалобах было правдой, а что нет, то кроме него самого, вряд ли кто знал. Но случалось, ехали из столицы большие люди, в чинах, учиняли в губернии проверки, ревизии, после которых местное чиновничье начальство становилось еще злее и угрюмее. Но Ивана Зубарева трогать боялись, резонно полагая, что о том моментально станет известно в Петербурге, но и дружбу с правдолюбом водить кто-то из соседей или его ровесников опасались, и не то чтоб сторонились, но в друзья не набивались. Правда, выручала многочисленная родня со стороны матери, Варвары Григорьевны, урожденной Корнильевой, чей род известен был во всех сибирских уездах удачливостью в торговых делах и умением сухими выходить из воды.
Еще в приснопамятные времена князя Гагарина сдружился с губернатором дед нынешних Корнильевых, Григорий, получил от него винные откупа по всей губернии, подряды на строительство и обустройство дорог, взял на всем том жирный куш, а когда князя повезли на праведный царский суд, то посчитал за лучшее уехать на несколько лет на север, где сдружился с местными князьками из инородцев. Когда старому Григорию Корнильеву пришла пора помирать, то сыновьям своим и единственной дочери, Ивановой матери, Варваре, оставил капиталец немалый, а самое главное – имя купеческое, которое иной раз дороже любого векселя было.
И сыновья его, войдя в силу, крепко зацепились за торговый промысел и уже своим детям передали не только имя и деньги, но и дома, лавки, заимки под городом, рыбные пески, честных приказчиков, обозных людей, от которых в налаженном купеческом хозяйстве иногда больше зависело, чем от самого хозяина.
Варвару сосватал Василий Павлович Зубарев, из большой старообрядческой семьи, человек трезвый, разумный, крепко стоящий на собственных ногах. Получил за нее хорошее приданое, которое тут же пустил в оборот, и хотя по достатку не достиг значимости сватов, но и последним купцом в губернии не был. Последние годы, правда, наделал долгов, вошел в убытки по причинам, от него мало зависящим, – пьяный кормщик утопил баркас с вяленой рыбой, – а потеря товара всегда горе и разор. Потому особенно сейчас Василий Зубарев тщательно подыскивал сыну невесту с добрым приданым, обхаживал даже стародавнего друга, купца же, Ваську Пименова, чья дочь Наталья была в том самом возрасте, когда из девки становятся невестами, а потом и женами, матерями. Василий Павлович полагал, что Натальиного приданого должно хватить на покрытие долгов, а Иван после женитьбы сядет в одну из лавок и при своем уме сумеет через год-другой опериться, завести собственный дом, отделиться от родителей и безбоязненно смотреть в будущее.
Все было бы хорошо, если бы Зубарев-младший думал одинаково с отцом и бросил свои выходки по правдоискательству, не становился раз за разом посмешищем для всего городского люда, которые узнавали невесть откуда о его письмах на имя губернатора и прокурора и с издевкой шушукались вслед отцу, а на сына прямо-таки пальцами тыкали. Может, и смог бы Василий Павлович убедить сынка в неуместности и очевидной глупости подобных затей, да нашел тот себе единомышленника из числа двоюродных братьев Корнильевых, Михаила Яковлевича, ныне занимающего высокую должность президента городского магистрата, ни в чем не упускающего личную корысть и сумевшего разжечь у Зубарева-младшего страсть к правдоискательству.
И нынче, перед открытием в Ирбите ярмарки, соблазнил он Ивана отправиться тайно туда и высмотреть все нарушения, творящиеся там, а потом, поймав с поличным наблюдающих за торговлей таможенников или иного кого, сообщить о том губернатору и в знак благодарности за изобличение ждать награды немалой. Сам Иван мечтал не столько о награде, как о сладостном миге, когда докажет всем и вся, насмешничающих над ним, что не лыком шит, а делает важное государево дело, что самому прокурору губернскому сделать не под силу.
И вот теперь он лежит на соломе, связанный и беспомощный, и везут его не иначе как обратно в Тобольск для предания позору, а то и еще чему похуже.
Сани глухо ударились о ледяную кочку, подпрыгнули, накренились, и Иван, не в силах удержаться, больно ударился грудью о непокрытый соломой настил, зло выругался, сплюнул сквозь разбитую кровоточащую губу.
– Чего, не нравится? – спросил, чуть повернув в его сторону голову, Яшка Ерофеич, тускло сверкнув в сумерках изъеденными, щербатыми зубами. – А ты думаешь, честным людям нравится, когда ты на них напраслину возводишь? Помайся, покряхти, потужься, авось, пока до Тобольска доедем, и поумнеешь чуть.
– Убью, собака! – не сдержав злости на помощника пристава, выругался Иван.
– Да ты никак меня пужать вздумал? Да я тебе сейчас так вдарю… – Яшка поискал глазами, чем бы можно было побольней огреть обидчика, но, ничего не найдя, с размаху вмазал, целя по губам, тяжелой заиндевевшей овчинной рукавицей. Но промахнулся, зацепил по глазу, и боль на короткий момент ослепила Зубарева, он дернулся и, поджав в коленях ноги, изловчившись, саданул подошвами сапог в близкую Яшкину, злорадно ухмыляющуюся физиономию. Тот едва не вылетел из розвальней, громко взвыл и заорал казачьему вахмистру:
– Эй, останови коней, тебе говорю! Где у тебя топор?! Зарублю гада! – Вахмистр, не оборачиваясь, натянул поводья, не спеша повернулся к Яшке, который уже успел отыскать под соломой завернутый в дерюгу топор, схватил его за рукоять и теперь приноравливался как бы ловчее ударить им Ивана. Вахмистр выхватил из его рук топор. Для острастки саданул кулаком в живот, недовольно проворчал:
– Не балуй, нам его живым привести велено в острог. Ты убьешь али покалечишь, а мне ответ придется держать.
– Какой за него ответ? Замерз по дороге, и концы в воду. Он первый пообещал меня жизни лишить. Слыхал, поди?
– Эх, руки у меня связаны, а то бы я тебе показал…
– Помолчал бы лучше, – небрежно махнул рукой невозмутимый вахмистр, – а то заткну рот варежкой, и тогда вовсе слова не скажешь.
Понимая, что слова вахмистра не простая угроза, Иван замолчал и кинул злобный взгляд на Яшку, словно кипящей смолой обжег. Тот в ответ лишь развязно зевнул, выказывая полное презрение к пленному.
Меж тем вахмистр соскочил на землю, до ломоты в костях потянулся, расправил широко плечи и потянул носом воздух, затем не спеша нагнулся к саням, приподнял чуть бочонок, вытянул из него пробку, приставил деревянную кружку и наполнил ее до краев, поднес ко рту. По запаху, долетевшему до него, Иван понял, что в бочонке не иначе как крепкое, хорошей перегонки, ржаное вино, и тяжело вздохнул, понимая, его угощать не станут. А вахмистр деловито достал из дорожной сумы шмат сала, понюхал его, довольно осклабился и по-волчьи куснул, смачно зачавкал, поводя заледеневшими рыжими усами.
– Налей и мне, – почти жалобно попросил его Ерофеич, – озяб. Вахмистр продолжал жевать сало, отщипывая и отправляя в рот кусочки ржаного хлеба, словно не слышал просьбы помощника пристава, сосредоточенно уставясь на понурые стволы ближнего осинового, вперемежку с молоденькими березками, небольшого колка. – Слышь, Серафимыч, – вновь подал Яшка голос, – плесни и мне.
– Тебе, говоришь? – зевнув, переспросил вахмистр. – Можно и тебе, отчего ж нельзя. Купцы нам с тобой полный бочонок в дорогу дали, глядишь, и на обратный путь останется, но много не налью, не обессудь, – и подставил кружку под тонкую струю светлой жидкости, но наполнил кружку лишь наполовину.
– Эх, хорошо родимая пошла, – крякнул, возвращая кружку обратно, Яшка.
– Тебе, поди, тожесь налить? – обратился вахмистр к сопевшему на задке саней Зубареву.
– Налей, коль не шутишь, – отозвался тот, – а то как юрты татарские проехали, то ног совсем не чую.
Вахмистр нацедил ему полную кружку, что не укрылось от бдительных глаз Ерофеича, который, однако, промолчал, резонно не желая ссориться с вахмистром. А тот осторожно приподнял голову Ивану и медленно влил вино ему в рот, затем отмахнул ножом солидный кус сала, положил на краюху хлеба и держал так возле рта пленного, пока тот не закончил есть.
– Чего ты с ним тут цацкаешься? – не вытерпел наконец Яшка. – Под мосток бы спихнули, и дело с концом. К утру, глядишь, отошел бы уже. А то вези его, мерзни…
– Скорый ты больно, – равнодушно продолжая жевать, отозвался негромко Серафимыч. – Чем он тебя так обидел? Давно ли решился убивцем стать?
– Чем меня обидел? А я тут при чем? – Он быстро схватил с саней кружку, нагнулся и без спроса нацедил ее себе до самого верха из чуть заиндевелого бочонка. – То он не меня обидел, а весь народ честной.
– Ага, честной, – прокашлявшись, сиплым голосом возразил Зубарев. – Много ли в вас, ворах, чести осталось?
– А сколь ни на есть, вся наша. – Яшка воровато зыркнул на Серафимыча, отступил от саней и там, смакуя, выпил вино, сморщил сизый нос, почмокал бескровными губами и потянулся, расхрабрившись, опять же без спроса за салом.
– Я вас, воров, все одно на чистую воду выведу, – пыхтел, с трудом ворочаясь, Иван Зубарев, – а то взяли манер купцов обирать да денежки в карман к себе приворовывать. И ты, Яшка, в том воровстве замазан не меньше других, потому меня и страшишься.
– Мое дело – сторона, – ничуть не смутясь, с усмешечкой отвечал Яшка. – Ты меня словом своим никак обидеть не сможешь. Велено мне с тобой до Тобольска ехать, потому и тут я. А велел бы советник Коротнев чего другое, то…
– Мазурик он, твой советник! – с неожиданной яростью выкрикнул вдруг Зубарев, перебивая Яшку. – В остроге ему место, мошеннику! Отпишу в Сенат, и его мигом на дыбу поволокут, а следом и тебя, продувную бестию. Попомнишь тогда мои слова, когда палач тебе под босые пятки огонек подведет, запоешь соловьем, защелкаешь.
– Ой, испужались мы твоих россказней, – вызывающе завихлял задом Ерофеич, слегка захмелевший. – Лежи да молчи, пока цел. А не то, не ровен час, не доедешь живым до Тобольска.
– Цыц, – с силой дернул его за рукав вахмистр. – Погрелись, и айда дале ехать. Ночь скоро, ночлег найти надобно, успеть бы до темноты.
Яшка тут же замолк, втянул головенку в плечи и лишь кинул красноречивый взгляд на бочонок, когда Серафимыч грузно опустился на него. Когда лошадь чуть дернула пристывшие к дороге сани, то Яшка, зло скрипнув зубами, изо всех сил пнул кованым сапогом Зубарева, от чего тот съехал по соломе вниз, сполз к самому краешку саней и, не удержавшись, скатился на дорогу. Вахмистр тем временем хлестнул по боку лошаденку, чтоб шла поживей, и вскоре сани скрылись за ближайшим поворотом, оставив Ивана одного посреди зимнего сибирского тракта со связанными сзади руками лежать, уткнувшись лицом в сыпучий искристый снег.
Именно снег, набившись в рот и запорошив глаза, помешал Ивану крикнуть вслед удаляющимся саням. Он с трудом перевернулся на живот и попытался встать на колени, но после нескольких неудачных попыток сообразил, что сделать это лучше лежа на боку, и, наконец, тяжело отдуваясь, поднялся на ноги, раздосадованно, запоздало закричал, не надеясь, что его услышат, прислушался. Но до него донесся лишь удаляющийся перезвон бубенцов да крик возницы, подгоняющего уставшую лошадь. Тогда Иван попытался подобрать скатившуюся с головы шапку, присев на корточки, зацепил ее пальцами, но надеть обратно на голову одному, без посторонней помощи, со связанными назад руками, то мог сделать лишь кто-то из цирковых актеров, но не полузамерзший человек, которому сейчас и нос почесать рукой и то было невозможно. А потому он зажал шапку в горсть меж начавших стынуть пальцев и медленно побрел вслед за исчезнувшими из виду санями.
Зимние сумерки стремительно опускались на землю, меняя цвета из веселых, жизнерадостных на грустные с печальными длинными тенями от неподвижных стылых деревьев. Слева от Ивана, на бугре со стороны неглубокого оврага, расцвели высвеченные последними солнечными лучиками две могучих медностволых сосны, а справа прорезался на сером небосклоне рогатый месяц. Непокрытые шапкой уши стало пощипывать морозцем, приберегавшим силы к вечеру и теперь взявшимся за одинокого спутника без всякой жалости и пощады.
Поначалу Иван шел неторопливым шагом, радуясь неожиданному своему освобождению, но когда морозец пробрался внутрь, под шубу, начал шагать пошире, резко выбрасывая наклоненные вперед плечи, оставляя за собой небольшие, тут же таявшие в густом вечернем воздухе облачка пара. Вскоре он благополучно достиг густого ельника, обступившего с обеих сторон проезжую дорогу, и уже сделал несколько шагов в его полусумрак, как вдруг что-то подсознательно заставило его остановиться. Он внимательно поглядел в просветы меж деревьями, прислушался и явственно различил скрип снега и вслед за тем негромкое, но злобное урчание.
«Волки! – словно обожгло изнутри. – А я как младенец перед ними со спеленатыми руками. Аки агнец Божий! – вспомнилось вдруг. – Господи, помоги и помилуй мя…» – зашептал он горячо молитву и дернул правой рукой, попытавшись перекреститься, до него не сразу дошло, что и крест положить на себя перед погибелью не сможет. Хотел было побежать обратно по дороге, но неожиданно в нем проснулась непонятно откуда взявшаяся злость, нежелание отступать перед зверем, а он сызмальства был упрям и неуступчив, тем более здесь, на грани смертного исхода, не желал поддаваться слабости, испугу, и потому, набычив голову, остановился, замер.
Верно, и волков смутил вид стоявшего неподвижно человека, они не спешили выбираться из густого подлеска, и лишь серая тень мелькнула меж деревьев, да чуть скрипнул снег, и все вновь смолкло. «Будут темноты ждать, тогда и полезут», – решил Иван. Звери медлили, казалось, ждали чего-то, давая знать о себе лишь негромким редким порыкиванием. Иван почувствовал, как начинают неметь от холода ноги, а вслед за ними и все тело. Глаза постепенно привыкли к сгущавшейся вокруг темноте, и он различил высунувшуюся из-за дерева острую волчью морду, жутко блеснули изумрудом с желтым переливом уставленные на него глаза. Волк сделал несколько осторожных шагов и вышел из-за дерева, но дальше не пошел, а встал напротив Ивана, внимательно, изучающе приглядываясь к нему в нескольких саженях от дороги.
«Может, он один? – мелькнула успокаивающая мысль. – Тогда отобьюсь». Но вслед за первым из леса вышла еще пара волков чуть меньше его ростом, более тощие, поджарые, из молодых, а чуть в стороне от них, проваливаясь в снег по брюхо, выбралась и волчица, норовя обойти Ивана со спины.
«Вот и вся семейка налицо! – усмехнулся он. – Сейчас остальных родичей собирать начнут». От этой совсем не смешной мысли он вдруг громко рассмеялся, и сиплый смех его прозвучал неестественно громко в ночной тишине. Волки вдруг вздрогнули от звука человеческого голоса, попятились назад, щеря клыки, а один из молодых опрометью кинулся обратно в лес.
– Ага, страшно стало! – зло заорал Иван, понимая, что его голос, крик сейчас остались единственной защитой, когда он даже палку взять в руки не может. – Думали так взять?! А вот и не вышло! Не дамся вам, аспидам! Шалишь! Зубами вас грызть стану, а не дамся!!! Ух, я вас!!! – И он сделал несколько шагов навстречу к зверям, затопал что есть силы ногами, завыл, зарычал, корча при том страшные рожи.
Волки опешили от подобной сцены, скакнул в лес второй молодарь, попятилась осторожная волчица, и лишь вожак остался на месте, злобно скаля клыки, топорща острые, чуть с проседью, уши. Иван чуть было не кинулся к нему прямо по целине, норовя побольнее пнуть ногой, как нашкодившую собаку, да вовремя одумался, сдержал себя, остановился, надсадно кашляя от попавшего в грудь морозного воздуха. Наконец, уняв кашель, решил погромче крикнуть, надеясь пугнуть тем самым и вожака, что никак не решался перед и волчицей и молодыми волками показать свою слабость, но вместо крика изо рта вырвался дребезжащий, похожий на петушиный клекот. «Голос сорвал», – понял он и ощутил, как волны липкого страха побежали по телу, подбираясь поближе к беспорядочно застучавшему сердцу.
А вожак меж тем, так и не решившийся в одиночку напасть на человека, повернул морду в сторону дальнего леса и призывно, на низкой ноте, завыл, приглашая лесных собратьев на подмогу. Не прошло и нескольких минут, как с разных мест, через поле, ему отозвались такие же низкие, хватающие за душу голоса, и Ивану почудилось, будто он различил черные точки, медленно двигающиеся по снежному насту в его сторону. Вспомнились добрые, с прищуром глаза матери, почудился запах сдобных калачей, которые он так всегда любил, в голове возник звон чего-то давнего, забытого. Он повернулся, испытывая полное безразличие, спиной к волкам и вдруг увидел мелькнувший меж деревьев огонек дорожного фонаря, лишь потом догадался, что слышит веселый звон колокольцев едущего навстречу ему крытого возка.
Ноги вмиг сделались ватными, и он медленно опустился на разбитую конскими копытами дорогу и облегченно, заранее смирившись со всем, закрыл наполненные невесть откуда взявшимися слезами глаза.
Глава 2
Тобольский губернатор Алексей Михайлович Сухарев в силу своего высокого положения нечасто появлялся в стольном сибирском городе, а все больше разъезжал по многочисленным окраинным городам и провинциям, проверяя вверенных ему воевод и прочие государевы службы. Губерния, которой он управлял, больше походила на королевство: от самого Тихого океана вплоть до Уральских гор распростерлись необъятные сибирские леса, тундры, степи, горные хребты и ущелья. Пока до конца губернии доберешься, хотя бы день другой в каждом городке задерживаясь, глядишь, полгодика уже минуло. Но деваться некуда, служба, она служба и есть, терпи, коль очутился в губернаторском кресле, жди срока, когда обратно в Петербург призовут, иное назначение предложат. Ладно, коль подобру, а то всякое случиться может, скольких его предшественников по судам мыкали, до конца дней спокойно жить не давали.
Он со своей должностью птица малая, что кулик в гусиной стае, а иные из вельмож, на которых он ранее и глаз при встрече поднять не смел, теперь вот под его началом в местах не столь отдаленных очутились: герцог Курляндский Бирон – в Пелыме захудалом, фельдмаршал граф Миних – в морозном Березове, граф Остерман, уж до чего увертлив был, а тожесь не миновал Сибири и, царство ему небесное, той мерзлой землицей и присыпан на веки вечные. Судьба-злодейка крутит человеком, словно буря древесным листом, зашвырнет, завеет в такую тмутаракань, что и язык не повернется название того гиблого места выговорить.
Алексей Михайлович сидел, откинувшись в кожаном кресле, упершись ладонями в подлокотники и чуть полуприкрыв глаза. Губернаторский дом, перестроенный еще до него прежними сибирскими управителями из старого воеводского, больше похожего на острог, чем на парадный дворец, хранил в себе десятки запахов, оставленных прежними постояльцами, иногда год, а то чуть поболе задерживающимися на сибирской земле. Тут смешался крепкий запах дегтя и подопрелой бумаги, несло кислой овчиной из плохо прикрытых дверей, а самое главное – изо дня в день неистребимо витал угарный запах от рано закрываемых извечно полупьяным истопником печных заслонок. Окна, по стародавнему сибирскому обычаю, наглухо запечатывались на зиму, и свежий воздух попадал в губернаторский кабинет разве что вместе с робко гнувшими спину посетителями и тут же исчезал, как снежинка, порхнувшая на жестяную поверхность жарко натопленной печи. Хотелось или открыть дверь настежь, впустить побольше свежего морозного воздуха, а еще лучше отложить все дела, коим конца-края не видно, и упасть в санки, поехать просто по городу, а лучше на плац парадную площадь, где в это время непременно муштровали набранных с осени рекрутов и можно вволю насмотреться и насмеяться на их крестьянскую неловкость, нерасторопность. Да мало ли куда мог отправиться хозяин города, края, не имея подле себя иного начальника, кроме портрета государыни императрицы, висевшего в тяжелой, аляповато сработанной раме позади губернаторского кресла. Но Алексей Михайлович, сызмальства приученный, что долг гражданский прежде всего и дело государственное требует полной отдачи сил и здоровья в придачу, не мог позволить себе этакой вольности, а потому изо всех сил терпел и угарный воздух, и духоту, и настырных купцов, битый час сидевших напротив и что-то невнятно излагавших вкрадчивыми голосами, и лишь изредка подносил к носу смоченный в уксусе большой платок с вензелем и, скрывая зевоту, согласно кивал долдонящим о чем-то своем просителям.