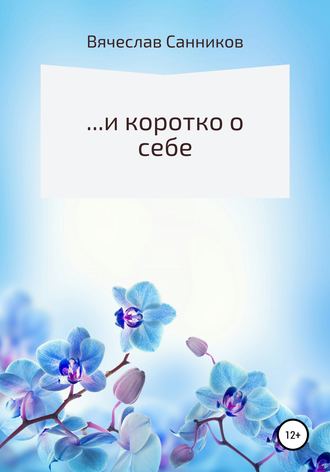
Вячеслав Николаевич Санников
…и коротко о себе
Отдельным приятным воспоминанием в моей жизни является пионерский лагерь «Орленок». Каким-то образом он относился к профсоюзу работников пищевой промышленности и, так как родители работали на сахарном заводе, я имел счастье три или четыре раза побывать в этом лагере. Находился он выше города Каскелен в нижней части Каскеленского ущелья над речкой Каскеленкой, вот так! Лагерь располагался в предгорьях, в окружении яблоневых садов.
Вспоминая об этом сейчас, я и сам удивляюсь, что особенного было в лагерной жизни? Не зря, наверное, многие не любили это «невольное» время. У меня таких ощущений никогда не было. Я находил во время лагерной смены новых друзей, новые впечатления и даже приключения – ну куда же без них. Традиционно смена открывалась и закрывалась большими пионерскими кострами. На протяжении смены были ежедневные зарядка, линейки – так назывались общие построения на площадке, строем на завтрак, обед и ужин, тихий час днем и организованный отбой вечером. Если посмотреть глазами свободолюбивого человека – сплошное насилие над личностью, кошмар! Я так не считаю. В обществе невозможно жить без взаимной ответственности, и жизнь в пионерском лагере приучала нас к подчинению необходимости, только и всего. Зато между этими обязательными делами было много игр, отрядных дел и, конечно, детской импровизации. Я с друзьями облазал все окрестности, ходил на речку, делал набеги на сады, собирал и ел дикий урюк и ежевику. Мы бились подушками и по ночам мазали друг друга зубной пастой, ни одна смена без этого не обходилась. Были игры в «Зарницу», походы в горы и в соседний пионерлагерь «Электрон» на соревнования. Однажды я уехал по каким-то обстоятельствам из лагеря раньше окончания смены.Но уже через два дня, движимый грустью по оставленным в лагере друзьям и девочке, которая мне понравилась, я утром сел на свой маленький велосипед «Орленок» и, проехав 80 км в оба конца за день, побывал в лагере, увиделся с друзьями, взял адрес девочки. Он так и лежит в моем дневнике: ул. Богдана Хмельницкого, д.15. Этот поход, я вам скажу, был непростым, но я его совершил!
Как работала почта. Мои мама и папа на три недели поехали на черноморский курорт, и находились в городе Сухуми (Абхазия). Они нам прислали письмо и успели получить мой ответ. Что здесь такого? А то, что сегодня письмо в Казахстан идет две-три недели и при этом нет разницы, отправил ты простой конверт или авиапочту.
Не было ничего необычного и в том, что простые рабочие обычного сахарного завода из какого-то поселка в Казахстане пролетели через полстраны, чтобы отдохнуть на курорте черноморского побережья России. Это было реальной возможностью каждого члена профсоюза, работавшего на производстве, в организациях и в сельском хозяйстве: и своих средств хватало, и профсоюзы оплачивали значительную часть стоимости путевок. Сейчас это возрождается, но далеко не везде и не для всех.
Дожди в наших краях не редкость, но и не сильно балуют, особенно летом. К тому же, если дождь шел в самую сильную жару, то он освежал все вокруг ненадолго. Горячая земля быстро испаряла дождевую воду, и через час лишь большие лужи напоминали о том, что прошел летний ливень.
С детства у меня осталось приятное отношение к дождям. В теплом Казахстане дождь был ожидаем, зван и полезен. У нас существовало понятие «бурундайский» дождик. Не претендуя на оригинальность названия (возможно, существовал и каскеленский, и капчагайский дождик), оно присваивалось вполне определенной погоде. До того, как правило, стояла сильная жара, так что в воздухе висело пыльное марево, погода была безветренной, а небо было скорее грязно-желтым, чем голубым. И вот откуда-то появлялись тучи, на вид богатые водой и грозные. Так хотелось, так ожидалось, что все это прольется обильным дождем и успокоит зной. Однако налетал ветер, поднимал в воздух тучи пыли, а дождевые облака, тем временем, проходили своим путем, иногда лишь слегка побрызгав землю. Вот и весь дождь!
Но были и летние ливни с сильными, громогласными грозами. Это буйство стихии, как правило, длилось не долго, оставляя после себя поломанные ветви деревьев, порванные провода и потоки воды. Гром гремел такой силы, что иной раз бывало страшно. Зато чего стоит окружающий мир сразу после окончания грозы, да еще и если выглянет солнышко! А в нашей квартире на втором этаже распахнут балкон, и комната наполнена ароматами грозы, теплой земли, мокрой листвы и пыли. Я бы и сейчас дышал и не мог бы надышаться послегрозовым воздухом своей малой Родины.
И еще одно приятное воспоминание, связанное с дождем. На всю жизнь мне в память врезалась звуковая картинка: я в пионерском лагере, отбой, стемнело. За окнами корпуса идет неторопливый дождь, а под самыми окнами растут березки. И так мне запомнился шелест листьев под каплями дождя, что позабыть я это уже не смогу никогда. Казалось бы, какая наивная мелочь! Но ведь именно из таких мелочей складывается ощущение своей причастности к малой Родине. Очень важно для каждого человека обладать запасом именно таких воспоминаний и ощущений.
Каждую зиму мы заливали во дворе небольшую площадку. Если зима была нормальной (в смысле – морозной), мы расчищали площадку от снега, подливали ее. Коньки в то время были редкостью в нашем окружении, фигурным катанием никто не занимался Поэтому больше площадки использовались для хоккейных баталий. Играли в обычной обуви, у многих были самодельные клюшки из веток. Но это никак не мешало кипеть натуральным страстям, бились самоотверженно.
Другим зимним развлечением были катание на лыжах и санках на склонах гор. Если кто из односельчан помнит, было такое место – «Верблюды», это там где сейчас гаражи и черемушкинские пятиэтажки, за ними. Там сходились две горы, за что их так и назвали. Это сейчас они совсем небольшие, а в нашем детстве это были два крутых спуска, да еще и с арыком, через который надо было проехать, не упав и не сломав лыж. Там же катались на санках и на скользких подложках – кто во что горазд. Катались на лыжах и на полях, прокладывали лыжню до самого Ужета, и на курганах, а также в саду (где сейчас стоят пятиэтажки в Черемушках – это все был сад. Он назывался сазоновским. Я как-то не задумывался над этим названием, а однажды мне папа объяснил, что такую фамилию носил один из охранников сада в какой-то период его существования. И вот сторож дал имя саду, долгое время он так и назывался). Помню одну из зим очень снежной, снега было не меньше полметра на открытых участках. А в саду его в низины намело еще больше. С каким же удовольствием мы проделали ходы в этих заносах, получился лабиринт, и мы носились друг за другом по этим ходам, мокрые и счастливые. Казалось бы, а в чем счастье?
Тот лыжный поход помню как сейчас. День выдался прекрасным, в меру морозным. Я вышел с лыжами на новый пруд (по улице Первомайской до конца) и там встал на лыжи. Пришлось переходить через замерзший ручей в районе поселка Красный Трудовик и дальше по полям вверх, на высоту. Сейчас эту высоту занимает громадное новое кладбище, а тогда это была пустая высокая возвышенность. Справа она спускалась к поселку РВ-70, а за ней строилась ТЭЦ-2 и были пруды. Я с удовольствием несколько раз съехал с этой высоты вниз, накатался вволю и отправился домой. Сейчас это расстояние кажется небольшим – какие-то 5 км в каждую сторону. Но в то время мне показалось, что я совершил большой рейд и был этим очень доволен.
В нашей простой поселковой школе всегда работали спортивные секции. Пусть их было немного, но у желающих заниматься спортом всегда был выбор. Работали секции волейбола, которые вел преподаватель физкультуры Дьяченко Анатолий Иванович, легкую атлетику вел Остапенко Петр Иванович. Мои товарищи по школе могли заниматься настольным теннисом, баскетболом, футболом, периодически работали секции единоборств. Эти возможности много дали нам в плане собственного развития – мы выросли общительными, здоровыми, физически развитыми.
Анатолий Иванович живет в Алма-Ате, последний раз видел его на фотографиях со встречи выпускников 1979 года в 2010 году.
Класса с 7-го (примерно с 13 лет) я занялся легкой атлетикой и достиг неплохих результатов. Царствие небесное Петру Ивановичу и огромное спасибо от себя лично.
Тренировки были тяжёлыми. Весной, летом и осенью занимались на открытом воздухе: на поселковом стадионе, на тенистых аллеях меж рядов стройных пирамидальных тополей (сейчас их не осталось ни одного). В то время наш посёлок Бурундай представлял собой зелёный ухоженный рабочий посёлок, машин было мало, люди в основном знали друг друга. Мне запомнилось то время очень добрым.
Но вернёмся к лёгкой атлетике. Мне лучше давались средние и длинные дистанции. Это сегодня я с трудом пробегаю 200 метров в силу своей болезни, а в лучшие годы юности и молодости моя максимальная дистанция составила 42 км 195 м (классический марафон).
Что меня привлекало в беге на длинные дистанции – это гармония всех действий организма: работа рук, ног, дыхания, сердца и мозга. В том возрасте бежалось свободно, и я реально ощущал чувство полёта, движения были легкими, организм работал, как часовой механизм. Мне легко было взять старт и без труда разогреть мышцы для длительной работы, найти и открыть «второе дыхание», без отдышки и напряжения. Я знал свои возможности и тактику бега.
Что касается соревнований, то они проходили у нас регулярно, и школа участвовала везде. Не отставал и я, причем это происходило, как само собой разумеющееся, без пафоса, как учеба или работа. В составе школьной команды объездил множество городков и поселков области, где бегал разные дистанции. Мы побывали в Иссыке, Талгаре, на ГРЭСе, в Капчагае, Винсовхозе, Каскелене и многих других местах.
На соревнованиях мне доставляло большое удовольствие обгонять соперников. При этом, кроме чисто физического я использовал ещё и психологический фактор. Это было примерно так: я не рвал со старта, оставаясь в средней группе бегунов, для того, чтобы ровно, по силам начать дистанцию. Лидеры уходили вперёд и часто я уже не догонял их, но идущих впереди меня ближних бегунов обгонял обязательно. Вот впереди бежит ближайший соперник. До него остаётся около 5-10 метров. В этот момент я «цеплялся» за него взглядом и, натягивая незримую нить, начинал подтягивать себя к сопернику. Реального ускорения в этот момент практически не происходило, организм работал как бы на внутренних резервах. Чаще всего такая тактика давала ожидаемый результат – соперник, тяжело дыша, оказывался за спиной. Редко удавалось обойти всех, и тогда я заслуженно праздновал победу. Для мальчишки это было важно.
Но не только соревновательный дух привлекал меня в лёгкой атлетике. Хорошо помню, как однажды я и Володя Мельник устроили длинный забег по улицам нашего посёлка. Бежали, как пели песню – легко и непринуждённо. Успевали по дороге болтать, делились своими впечатлениями. Тёплый южный посёлок, тени тополей и карагачей, почти безлюдные аллеи и мы, бегущие в светлое будущее из юности мальчишки…
Спустя годы после этого я попал на учёбу в город Минск. Когда прошла первая серая зима и устоялся режим учёбы на курсах, появилось свободное время. Я полюбил Минск и с удовольствием знакомился с городом, причем часто делал это бегом, т.е. в пробежках. Брал у друга часы с секундомером, выбирал примерный маршрут и бежал. Опять чувство легкости, окрылённости, молодости, здоровья. И мне открывался красивый город, его просторные улицы, река Немига, маленькие речки и каналы, зелёные аллеи, скверы и парки. Таким солнечным Минск остался в моей памяти
В Минске же я пробежал свой единственный в жизни марафон, очень трудный для меня, и в то же время очень значимый.
Немало других светлых страниц детства и юности связаны с окрыляющим тело бегом. Классе в 8-м мне была симпатична девочка по имени Галя. От школы она жила чуть дальше меня и шла на занятия мимо моего дома. Хорошо запомнил: под балконом кипящая пена цветущей вишни. Я стою на балконе и с нетерпением жду, когда Галя с подругами пройдёт мимо меня в школу. Вижу их издалека, провожаю взглядом и вдруг ловлю её взгляд, быстрый и такой дорогой.
Той же весной, когда в полях зацвели желтые тюльпаны, я вставал пораньше, почти с рассветом. Тихо одевался и выходил на безлюдные ещё улицы. Я легко брал старт и бежал по ул.Комсомольской (сейчас это ул.Шпака) за поселок на поля. Что за чудо! Зной и солнце еще не успевали высушить траву, и она покрывала поля зелёным изумрудным ковром с россыпью росинок-алмазов. Холмы, луга, поля взошедшей пшеницы – всё это создавало вместе с голубым небом и солнечным светом неповторимую игру степных красок весны. В прозрачной небесной глубине живут и поют жаворонки, их песни дарят покой и умиротворение душе. Тюльпаны растут на склонах холмов и логов (углубления возле курганов, откуда для них брали грунт), там, где земля не тронута пашней. Среди всеобщей зелени тюльпаны горят желтыми фонариками. У них упругий стебель и сочные листья. Я собираю букет крупных, самых красивых цветов и бегу обратно. Посёлок уже просыпается, люди и машины торопятся на работу, кто-то выгоняет коров. Я бегу по улице, полный сил и здоровья, и несу в руке свежий букет тюльпанов. При этом никогда не встречал негативного к себе отношения, его и не было в нашем детстве. Улыбки прохожих, наверняка встречались, но я не обращал на них внимание, или просто не помню их. Букет в руках, теперь надо его незаметно положить на крыльцо Гале. Я тихо иду по её переулку, стараюсь быть незаметным. Крадучись, открываю её калитку, (хорошо, что у них не было собаки) и с замиранием сердца пробираюсь к крыльцу. Кладу на перила букет, затем так же тихо ухожу и жду теперь уже на соседней улице, откуда видно крыльцо. Если повезет, то я вижу, как на крыльцо выходит Галина мама и берет в руки букет, а затем оглядывается вокруг. Она заносит букет в дом и, наверное, будит Галю словами вроде: «Вставай. Тебе кавалер опять цветы принес. Кто он, хотя бы знаешь?» А я, с чувством исполненного долга, возвращаюсь домой. Уже будучи взрослым, я однажды спросил Галю, знала ли она, кто приносил ей цветы. Конечно знала – ответила она – это из самых ярких картинок её детства, и сейчас, спустя много лет, она с благодарностью помнит букеты тюльпанов, которые я приносил ей по утрам.
Сколько себя помню, весну встречал всегда с упованием. И теперь, спустя так много лет, ощущаю трепетное ожидание весны. Весна – это жизнь, расцвет, тепло, яркие краски родной природы и множество новых ощущений. В логу у жилого района «Черемушки», там где сейчас находится стадион, были огороды. Со стороны жилого района, который в простонародье назывался «Боксом», вниз спускался пологий спуск. А со стороны «Черемушек» были, как я теперь понял, насыпные валы. По причине моего малого возраста они в то время казались мне высокими и крутыми. Сейчас я вижу там невысокие насыпи, на которых располагаются зрительские трибуны. На этих валах черемушкинские ребята рыли траншеи, закрывали их ветками и рубероидом, и получались лабиринты с землянками. Было интересно и страшновато залезть в эти темные норы, проползти по ним, чтобы оказаться в тесной земляной конуре, посидеть там немного и вылезти на Божий свет довольным и счастливым.
А в самом логу весной собиралось много талой воды, которая разливалась настоящим озером. Смельчаки сооружали плоты из досок и отправлялись в плавание по этому разливу. Пару раз и мне приходилось взойти на этот маленький неустойчивый плот и совершить переходы с одного берега на другой. После схода воды в логу долго просыхала грязь (вернее, глина, которой было там обильно). Как то любопытство занесло меня в эту грязь и в ней успешно утонул один из моих сапог. Дома, конечно, досталось.
«Ущелье белых духов» – это интересная приключенческая книжка о горах Джунгарские Алатау. А мы с друзьями так назвали один из больших глиняных оврагов в каньоне местной речки. Вообще Алма-Атинка – целая глава в моем детстве. Далекая, таинственная, полная опасностей и знакомая, исхоженная – это все она. Глиняные обрывистые кручи были поначалу границами таинственного мира, который мы осваивали по мере взросления. Постепенно нам покорялись крутые тропы, обрывы, пещеры, промытые водой. Позже любовью стали настоящие горы. Сейчас с улыбкой вспоминаются наши заповедные места. Стрельбище, куда мы ходили собирать гильзы, рискуя встретиться с враждебными мальчишками из военного городка или Ужета. Тропа Ведьм, почти отвесная, с промоиной посредине, подняться по которой было славным делом. Ущелье «Белых Духов» – самый большой овраг на нашей территории. И дальше, ужетские места, куда мы делали набеги за боярышником, терном, барбарисом и облепихой. Еще дальше к городу – горячий /источник с минеральной водой. Славные места, сегодня еще оставшиеся, но тоже неуловимо изменившиеся. Знаменитый казахский исторический фильм «Кочевник» снят именно в наших местах на Алма-Атинке.
ЮДМ расшифровывается как «юные друзья милиции». В наше время это было популярное движение среди подростков, которые своей жизни ориентировались на честь, правдивость, правопорядок. Членство в отряде не давало каких-либо привилегий, но обязывало к нескольким дежурствам в опорном пункте милиции в месяц, участию в охране порядка на танцах и посещению тренировок по самбо. Последнее было для меня самым привлекательным (хотя с того времени и после я так и не овладел в должной мере рукопашным боем). Нашим руководителем оказался молодой сотрудник милиции старший лейтенант Юрий Алексеевич (а фамилию, к сожалению, забыл). Шутя, мы обращались к нему «товарищ страшный лейтенант». Юра недолго проработал в милиции, потом я встречал его, когда он занялся нетрадиционными методами лечения, мы кратковременно подружились, но потом расстались и надолго.
Другой Юрка, Козьмин, был моим хорошим другом. Вместе учились до восьмого класса, потом он ушел в техникум, стал механизатором. Однажды мы с ним здорово поссорились из-за Тани Луговой, я повел себя неприлично. Потом, конечно, помирились. Юрка жил с мамой и братом в частном маленьком доме и я часто приходил к нему в гости. Мама работала учительницей, и они жили очень небогато. Но в их семье всех всегда встречали радушно. На чердаке у Юрки, куда нам запрещали залазить, мы тайком оборудовали штаб: повесили огромную карту СССР, провели переговорное устройство из консервных банок и шпагата, хранили там свои книги, журналы и рисунки, туда же я притащил самодельный пулемет «Максим», сделанный дома с дворовыми друзьями, за что потом мне от них попало. Мы испытывали друг друга дымовыми шашками из ядовитой пластмассы (дураки, запросто могли бы задохнуться, но понимаю это только сейчас), помогали наводить порядок в огороде, перекапывать его.
Юрка после армии женился на Наташе Ретинской и спустя какое-то время уехал в Красноярск, где и жил до своей несвоевременной смерти. Пару раз мы с ним встречались, когда он приезжал домой в гости и очень весело проводили встречи.
Участие школьников в субботниках оставило незабываемый свет в моей памяти. И ведь не было ничего мудреного: старшие классы работали на уборке территории, сажали деревья. Убирали свои участки у школы и младшие классы . А средние 5-7 классы собирали металлолом. Мне это очень нравилось. Площадь сбора металлолома – весь поселок. Тогда беспризорно валялись, в основном, металлические предметы быта, выброшенные за ненадобностью: тазы, кастрюли, кровати, умывальники. Все это тащилось в кучу на школьный двор. Но был особый почет притащить какую-либо тяжелую вещь. И тогда невесть откуда появлялись старые мотоциклы, рамы и кабины машин, диски колес, и другое. Зато после субботника поселок был чистым. Важен был и дух состязательности: кто соберет больше металлолома.
Сегодня, в условиях коммерческой психологии, наша работа на субботниках может казаться нелепой, кому-то даже унизительной. Ничего подобного мы не испытывали, труд на благо Родины, поселка был привычным и объяснимым делом в нашей жизни. Тем более, что время от времени демонстрировались практические результаты нашей работы, чаще всего это были, почему-то тепловозы, «сделанные из собранного металлолома». Тогда мы могли просто этим гордиться, не задумываясь о несущественных деталях несоответствия.
В сегодняшнем дне мы объективно возвращаемся к опыту проведения субботников. Это совершенно понятное и нужное дело было забыто совсем напрасно. Каждый из нас с уходом зимы наводит порядок на своем дворе. Такого же порядка просят наши общие дворы и улицы. У нас в городе несколько лет назад после долгого перерыва стали проводиться субботники. И люди с удовольствием участвуют в них.
Почему-то вспоминается первомайский салют.
Вот написал эту строку и задумался: а почему салют 1-го мая? Но себе я верю, значит, это было в этот день. Салют гремел в городе, который лежал на 10 км выше нас в предгорье. Поэтому, если из Бурундая подняться на поля, а там еще и взойти на курганы, город был, как точно говорят, весь как на ладони и в ночи лежал на наклонном предгорье озером огней. Поэтому традицией праздничных дней было вечером с друзьями идти смотреть салют. Не надо, думаю, объяснять, что эти прогулки превращались в веселые мероприятия.
1 мая, 7 ноября – два раза в год традиционно по всей стране проходили митинги, шествия колон и праздничные гулянья. Не смотря на то, что мы немного противились заорганизованности этих мероприятий и, как нам казалось, насилием над свободным посещением праздника, сегодня те построения в колоны, длинное шествие и встреча колон на стадионе, а позже на площади в центре поселка вспоминаются нежно и с ностальгией. Чувство праздника освещало все теплым, дружеским светом, люди были добродушны и открыты, с удовольствием встречались и поздравляли друг друга, ели, пили – словом искренне радовались праздничному дню, настроению, отдыху.
Подготовка к празднику начиналась за несколько дней. Сначала на стадион привозили и собирали деревянную трибуну. Обязательным событием в нашей жизни было опробовать ее на прочность, причем залазить и спрыгивать с трибуны надо было, не пользуясь лестницей. Потом по улицам, прилегающим к стадиону, развешивали флаги, а утром праздничного дня ими украшали и сам стадион. Появлялась передвижная торговля, на лотках которой был самый вкусный в мире лимонад в стеклянных бутылках по 27 копеек, самые лучшие пирожные и шоколадки. Обязательным атрибутом праздника были мангалы с шашлыками по 25 копеек за палочку.
Митинг проходил шумно и весело. Почти никто не слушал выступающих с трибуны директора сахзавода, председателя поссовета, учителей, передовиков производства и учащихся. У всех хватало тем и событий для обсуждения, стадион гудел, иногда в ответ на призывы с трибуны раздавалось «Ура». Потом официальная часть заканчивалась и люди расходились кто по домам к праздничным столам, кто в звенящие весенними цветами и звуками поля и сады. Вечером традиционно был бесплатный сеанс кино в клубе. Это была добрая жизнь, о которой сейчас вспоминается с грустью.
Одни из самых дорогих для меня эпизодов юности – это походы в горы Заилийского Алатау в окрестностях Алма-Аты. Никто специально не прививал мне любовь к горам. Первые воспоминания относятся к моему босоногому детству (где-то 71-74 г.г.), отец тогда только купил наш мотоцикл и тот, с новым ещё движком, тянул коляску даже в горах. Поездки с отцом в горы на отдых, а также за диким урюком, стали моими первыми впечатлениями о горах. Затем были семейные поездки на Медео, переход к Медео из дома отдыха «Просвещенец», подъем по деревянным лестницам на гору Мохнатка. Позже Медео вместе с друзьями и в одиночку я исходил вдоль и поперёк, даже пришлось участвовать в тушении лесных возгораний в этом районе. По ущелью реки Малая Алма-Атинка (в нём расположен комплекс Медео и противоселевая плотина) мы с друзьями поднимались сначала до горнолыжного комплекса Чимбулак, а затем и выше до метеостанции у подножья гигантского ледника Туюк-Су. Потом были переходы из одного ущелья в другое: из того же Малоалматинского в ущелье реки Казачка через Кок-Джайляу, или в другую сторону в ущелье реки Левый Талгар. Уже сейчас, когда стал вспоминать все наши походы, я даже сам удивился, как много тропинок в горах было исхожено. А ведь названо далеко не всё. Следы наших ног остались в Большом Алма-Атинском ущелье с озером за плотиной высоко в горах; в этом же ущелье в его отроге Аю-Сай. Неоднократно обоими берегами исхожено ущелье реки Проходная за бывшим санаторием Алма-Арасан. Ущелья рек Б.Алма-Атинки и Проходной объединил переход через космостанцию.
Уже в последние годы, т.е. относительно недавно, в периоды отпусков в Алма-Ате, я добавил в свою географию походов Аксайское и Тургенское ущелья. Свой последний поход мы совершили с братом Андреем в 2007 году, спустившись траверсом (по хребту) с перевала Чимбулак к Медео. Андрей, кстати, исходил горы побольше моего и, в основном, в одиночку.
Но вот что хотелось бы отметить. В моем детстве попасть в горы в любом месте (если это не заповедник) было проще простого: садись на маршрутный автобус, и он подвезет тебя высоко в предгорья, дальше уже сам. Все тропы начинались, обычно, именно так. Сегодня же в той же Алма-Ате маршрутные автобусы там не ходят из-за того, что кругом частная собственность, ни пройти, ни проехать. Да еще на некоторых популярных у туристов маршрутах в сторону Киргизии сейчас поставлены пограничные заставы и посты.
Никогда не задумывался, за что я люблю горы. Они просто открывали для себя свой мир и дарили мне свою любовь, а также молодость, силу и красоту. Позже я нашел, с чем сравнить свои впечатления: в горах сильный дух товарищества и братства, отношения людей отличаются большей чистотой от привычных нам отношений внизу так же, как боевая обстановка отличается от тыловой службы.
Горы требовали от меня хорошей физической формы. Я с огромным удовольствием преодолевал затяжные подъемы и спуски, тащил на себе огромный рюкзак плюс брезентовую палатку, полз сам и при этом подбадривал уставших друзей – это ли не благодать! Нужны были заботы о ночёвках, кострах, дровах, пище – и я не ждал ничьих указаний, часто становился неформальным лидером группы. И, конечно же, после всех этих забот горы дарили нам удивительные черно-звёздные ночи с друзьями у костра, с шумом горной реки или, наоборот, с полной тишиной, с огнями большого города, лежащего под ногами. И символические 100 грамм, и сигарета у костра, прикуренная от уголька, и даже отсутствие комаров – все эти воспоминания дарят мне мои горы до сих пор. Я черпаю у них силы.
С другом детства Вадимом Гитисом, проживающим сейчас в Израиле, установил связь через его брата Бориса по Интернету. Правда, дальше обмена приветствиями наше общение не пошло. Ну что ж, у каждого своя, нелегкая жизнь.
Это была семья обычных советских евреев. В детстве такого понятия – «еврей» у нас не существовало, как не отличали мы друзей казахов, немцев, украинцев и др. В нашей иерархии каждый занимал место в меру своих способностей и лидерства. Вадим был толстоват, слабоват физически, и ему часто от нас незаслуженно доставалось. Но, надо отдать ему должное, он упрямо лез во все наши дела и игры.
Его отец, дядя Миша, работал инженером на сахарном заводе, был очень уважаемым человеком. Помню, что он всегда был спокойным и добрым человеком. Мать – тетя Света – тоже работала на сахарном заводе, кем – не помню.
Как я уже сказал, у Вадима было здоровое мальчишеское упрямство. Он был младше нас, и конечно ему тягаться со старшими было тяжело. Тем не менее, я вспоминаю, что он был везде с нами: на пруду, где мы купались и рыбачили, на футбольном поле, в играх. Нам, как и всем мальчишкам, по душе были активные, подвижные игры. Сами организовывали игру в «дубарики». Смысл ее заключается в том, что две команды охотятся друг на друга снарядами, которыми служили сначала кукурузные кочерыжки, а затем просто тяжелые сырые короткие палки. Попал – значит выбил противника из игры. Конечно, доставалось, особенно по голове, но что характерно – тяжелых травм не было. Ох, за то какие споры были «попал» или «не попал» – до драки. Вадик тоже не отставал. Но я отвлекся.
Мы с дворовыми друзьями часто ходили в горы. Вадим долго просился с нами, а мы из вредности (скорее всего) его не брали с собой. Однажды мы все-таки «смилостивились».
Поход был не простым по погодным условиям – часто шел дождь. Мы основательно промокли и постоянно жгли костер. Тогда Вадиму досталось: постоянно ходил за дровами, а для приготовления пищи его заставили продувать макароны. Потом и до сих пор мы с улыбкой вспоминали эти эпизоды. Уже по дороге вниз Вадик вызвался перенести на руках девочку через ручей, да не рассчитал своих сил и уронил ее. Насмешек было много. Теперь я думаю, что Вадим был обычным мальчишкой, озорным, любознательным, отчаянным, добрым, отзывчивым, верным. Сейчас у него семья, двое детей
В 9-ом-10-ом классах я здорово подружился с ребятами из класса «Б»своей параллели. Среди них была очень дружная компания, общаться с которыми было интересно: Отт Вилли, Аркаша Струев, Игорь Афанасьев, Сережка Глазунов, Ваня Шнайдер, Витя Квинт, Витя Вертко. Я проводил с ними больше времени, чем со своими одноклассниками, мы вместе купались, занимались общественными делами, готовили номера на школьные вечера, ездили в горы. Сейчас все они также разбросаны на просторах земли, кто в Германии, кто по России.
Я поступил в институт сразу после школы. Сначала сделал попытку поступить в Академию гражданской авиации с Аркашей Струевым. Он всё прошел и поступил, я нет. Но тем же летом успел подать документы в политехнический институт, сдал экзамены и был принят на строительный факультет. Сентябрь и половину октября 1978 года мы провели на сельхозработах. Потом началась учеба. Мне нравилось учиться, и если бы не мои дурацкие мысли о своей великой миссии в жизни Бурундая, я наверное, неплохо бы закончил институт. Но характер сделал свое: весной я оставил институт, чтобы поступить снова, на этот раз в педагогический. Хорошо, что хватило ума остановиться и пойти работать, а потом в армию. Отслужил срочную в Казахстане, на Байконуре, связистом. Вернулся, устроился на работу, поступил заочно в народно-хозяйственный институт. Работал сначала сварщиком, был избран комсоргом завода «Ремстройтехника», потом работал там же мастером. После окончания учебы в институте был призван на службу в КГБ. А время выпало как раз на все эти перемены, развал, суверенитеты. В Казахстане начались национальные реформы, и мы с женой решили переехать в Россию. Так в 1994 году я оказался здесь, в Тверской области.


