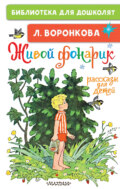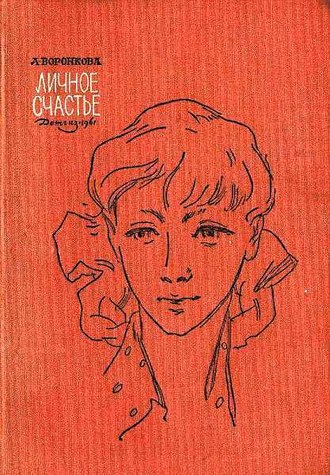
Любовь Воронкова
Личное счастье
РАДОСТНЫЕ ВСТРЕЧИ
Где-то в лесах вышел из чащи олень и ступил копытом в теплую летнюю реку. И как только ступил – захолодела вода по всем рекам и озерам.
Этой легендой отмечает народ начало последнего летнего месяца – августа.
И в самом деле, еще как будто лето сияет и зеленеет на земле, и ребятишки бегают в одних рубашонках, и солнце блестит в оконных стеклах, и ни один лист еще не упал с дерева, но уже нет-нет, и пролетит по улицам холодный ветерок и напомнит о том, что осень близко.
Зину всегда, неизвестно почему, волновало наступление осени, какая-то непонятная грусть возникала в душе, какое-то светлое раздумье заставляло ее подолгу стоять у открытого окна, в которое заглядывали широкие ветки клена.
Как-то утром, медленно расчесывая свою белокурую косу, Зина подошла к окну и увидела среди зеленых ветвей тронутый оранжевым отсветом лист.
– Здравствуй, осень, – прошептала она.
И тут же радостно подумалось, что скоро должны вернуться из похода ее товарищи.
– Надо сходить к Дариме, узнать, – решила Зина.
Антон позавтракал и убежал в пионерский лагерь – он теперь никого не боялся: Яшка Клеткин исчез с его горизонта. Зина проводила его, взялась было за щетку и тряпку, чтобы прибрать квартиру, и вдруг почувствовала, что не может оставаться дома ни на одну минуту. Она сунула щетку в угол, бросила тряпку, сняла передник – ну может же она хоть раз не убрать квартиру вовремя!
Зина почти бежала по улице. Она сознавала, что уже не маленькая, чтобы так вот бегать по улице, но проворные ноги бежали сами, и остановить их было нельзя. Непременно, непременно у Даримы есть письмо от Фатьмы и Дарима знает, когда они приедут!
Дом номер пять совсем недалеко. Вот уже начался его зеленый забор, вот и калитка, закрытая на щеколду. Но лишь Зина протянула руку, чтобы нажать на щеколду, как зеленая калитка порывисто распахнулась и перед Зиной появилась Фатьма.
– Ой, Зина!
– Фатьма!
Они бросились друг к другу и крепко обнялись.
– Я так и знала! Так и знала! – кричала Зина, прижимаясь щекой к плечу Фатьмы. – Я с утра чувствовала!
– А я сразу как приехала – к тебе! Гляди-ка, и не умылась даже! Пойдем к нам, я хоть умоюсь!
Подруги, смеясь от радости, не разнимая рук, вошли во двор. По двору шла Дарима с метлой и ящичком для мусора в руках.
– А, встретились! – улыбнулась она, и белые крупные зубы ее так и засияли. – Дождалась, белый преник! Эй, Фатьма, сколько она тут бегала без тебя туда-сюда!
Подруги уселись на лавочке под сиреневыми кустами. Сколько разговоров, сколько рассказов тут началось!
– Иди умойся, руки грезные! – крикнула Дарима Фатьме.
Но Фатьма только отмахнулась. Она должна была немедленно, тут же, не сходя с места, рассказать Зине все, все, что они видели, что делали, что пережили за эти два месяца далекого похода.

Фатьма не умела рассказывать по порядку. Тут, конечно, были и ночные костры в лесу на полянах, когда красные искры летели в звездное небо. И белые тропки, убегающие все вдаль и вдаль через цветущие луга. И приключения на речных переправах, и песни, которые сами сочиняли и пели, и шумные сенокосы в колхозах, встретившихся на пути…
– До чего хорошо сено убирать! Я раньше думала – а как это в колхозе работать? Артемий говорит: «Если понадобится где наша помощь – конечно, поможем». А я говорю: «Ни за что я не буду, я не умею ничего, только на смех!» А Сима: «Мы все не умеем!» А этот Гришка свое: «Зато пообедать дадут, а то надоел этот ваш кулеш с дымом, с углями, со всякими ветками».
И вот идем, видим, туча заходит – ну прямо так и встает над лесом. Как гора, да такая черная, страшная! А впереди – колхоз, крыши видны. Мы бегом, прятаться от дождя. А тут луг. Огромный, даже краев не видно. И колхозники все на лугу – спешат скорей сено убрать, работают без оглядки, сгребают, на машины грузят и тут же в стог складывают. А сена столько… Тут Артемий нас останавливает: «Куда бежите? Поворачивай на луг!» А в это время Андрюшка: «А если дождик?» Тут все на него: «Подумаешь, мятный пряник, дождя испугался!» Колхозники нам обрадовались! Бригадир у них такая румяная тетка, глазастая. Сразу нам грабли в руки, показала, как подгребать, а сама – к машине. Я думаю: ни за что не сумею! И знаешь – сумела! И все сумели!
– И… Артемий тоже?
– А то как же! Как взялись, как взялись, подгребаем, охапки таскаем – запалились прямо! А сена набилось всюду – и в волосы, и за шиворот, колется, кусается! А туча все ниже, все ближе… Ох, и не помню даже, как мы это сено убрали. И потом бежали под дождем, мокрые до нитки! Ну зато дождик с нас всю пылищу смыл!
– А… что Артемий?
– Ну и он бежал! Всех перегнал. Он же длинноногий! А у самой деревни как шлепнется! Мы чуть со смеху не умерли. На глине поскользнулся. Разозлился сначала. А потом – мы смеемся, ну и он начал смеяться. Он хороший, очень хороший!
Зина ласковыми глазами глядела на Фатьму. Как она загорела, какой земляничный румянец у нее на смуглых щеках, как ярко блестят ее черные, чуть раскосые глаза!
– А потом уж и накормили нас – ух ты! Мы, наверное, молока целое ведро выпили. Гришка ел-ел! А потом в школу натаскали сена – классы-то пустые – и спали на сене. Ух и спали же! Дождик в окна стучит, а мы спим себе, уж очень устали. А наутро…
– Так я и знала!
Калитка распахнулась, влетела Сима Агатова, загорелая, похудевшая, белозубая.
– Я так и знала, что Зина здесь! Захожу к Зинке – никого! Думаю, у Фатьмы. Ну так и есть! Ну как ты здесь поживала без нас?
Симу, несколько чопорную, строгую и неулыбчивую, нельзя было узнать. Словно растаял внутренний ледок, который раньше сковывал ее.
– Ну как жалко, как жалко, что ты не пошла с нами, Зина!
– Я не могла, – напомнила Зина.
– Ну тогда очень жалко, что ты не могла. Смотри, какая ты бледная и не загорела нисколько!
– Ничего. Когда-нибудь загорю.
– Если бы ты искупалась, а потом полежала бы на песке… – начала Фатьма.
Сима подхватила:
– Ой, как мы купались в Днепре! В самом Днепре, подумай! А потом лежали на песочке…
Грубоватый, ломкий голос вдруг вмешался в разговор:
– Ага! Вы только и знали, что на песочке лежать, а мы…
– Васька! Откуда ты взялся?
– Зина, смотри на кого он похож!..
Вася Горшков вышел из-за угла дома: он не пошел в дальний путь – в калитку, а перелез прямо через забор. На щеке у него краснел шрам от еще не зажившей большой царапины.
– Где ты так разукрасился, Васька? – засмеялась Зина, всплеснув руками. – Дрался с мельницами, что ли?
– Ну он же у нас строитель! – важно сообщила Сима. – Телятник строить помогал! Крышу крыть полез, да сорвался и вот… Красавчик!
– А ты чего дома не сидишь? – накинулся он на Зину. – Я тебе орехов принес. И ребятам вашим. Прихожу, а она бегает где-то…
– И ты был у меня?
– Не веришь – ступай погляди. Целую наволочку орехов приволок!
Зина чувствовала, как радость согревает ее. Чувствовала, что щеки ее розовеют и к глазам подступают слезы. Она поморгала своими темными ресницами, чтобы ребята не заметили, что она готова заплакать, – так она была признательна за их внимание, за их теплоту к ней, за их дружбу.
– Ой, ребята… спасибо…
– Пускай смеются, – Вася кивнул на Фатьму и Симу, – а я могу сказать – я имею право сказать: в колхозе «Дружба», в области Воронежской, в новом телятнике дверца сделана собственными руками комсомольца Василия Горшкова и этими же руками на крыше проложено пять рядов дранки. Плохо?
Зина, смеясь, глядела на него:
– Васенька! Да когда же ты научился строить телятники?
Калитка снова открылась, и во дворе появились Андрей Бурмистров и Зыбина Шура.
– Она здесь! Ну так я и знала – здесь! – закричала Шура и, протянув обе руки, бросилась к Зине. – Здравствуй, здравствуй!
– А мы у тебя были! – сообщил Андрей неожиданно хриплым голосом.
– И вы были! – засмеялась Зина, снова чувствуя, что ресницы у нее намокают. – И вы!.. Андрей, почему ты охрип? Шура, здравствуй! Ну и загорела, нос-то совсем облупился!..
Зина обняла Шуру. Она так рада была увидеть снова милую подругу! Как Шура изменилась за лето! Белое лицо ее потемнело от румяного загара, голубые глаза стали светлее, будто немного выцвели от солнца, сама она похудела, и Зине показалось, что Шура еще никогда не была такой красивой.
– Ой, как же хорошо, что вы вернулись, ребята! – сказала Зина волнуясь. – Я и не знала, что так соскучилась о вас. Ой, как хорошо, что вы приехали! Андрюшка, почему ты хрипишь?
– Он заблудился! Целую ночь по лесу проходил!
– Весь мокрый, и тапочку потерял!
– В стогу в каком-то ночевал – вот и хрипит теперь!
Рассказывали наперерыв, но главным рассказчиком была Сима.
– А я телят поила, – начала было Шура.
Но Сима тут же перебила ее:
– Там девушки – телятницы, все комсомолки, хорошие такие девчата. Говорят – давайте и нам помощь! А я тогда говорю – дадим! И говорю – ребята, кто желающие? И никого желающих. Тогда я говорю Шуре – ты иди. Ты самая смирная, как теленок, – ты с ними отлично поладишь!
– И пошла?
– Пошла, – с улыбкой сказала Шура своим ровным, спокойным голосом.
– Ну и как? Не забодали они тебя?
– Нет. Они хорошие. Лижутся. Я их все время поила, семь дней.
– Семь дней мы в этом колхозе жили, – пояснил Вася. – И я там телятник строил, а Андрюшка в лесу под дождем блукал!
Андрей схватил Васю за плечи и опрокинул его с лавочки. Поднялся хохот.
– А потом мы пришли в Киев, – начала Фатьма.
Но Сима тотчас захотела рассказать об этом сама:
– Я… то есть мы с Артемием сразу пошли в обком комсомола, нас устроили в общежитие. И потом ходили везде, ездили.
– Памятник Шевченко видели! – подхватила Фатьма, которой никак не удавалось вставить словечко.
И опять зашумели рассказы о том, какой красивый Киев, какой широкий Днепр, как ездили по Днепру на пароходе и как ходили в музей…
Вдруг вышла из своего дворницкого домика Дарима и прервала все это необычайное, пестрое, озаренное весельем и смехом повествование.
– Картошка сварилась, идите картошку есть! – сказала она. – Целый таган, на всех хватит!
Ребята гурьбой ввалились в тесную квартирку Даримы и, увидев дымящуюся на столе гору картошки да красную гору помидоров, да горку зеленых огурцов, захлопали в ладоши и запели громкую песню, которую пели у костра в лесу:
Ах ты, милая картошка-тошка-тошка!
И бросились занимать места у стола.
Зина слушала рассказы, все было ей интересно. Этот невиданный мир, в котором побывали ребята, пахнул на нее теплыми запахами лесов и полей, он немного ошеломил ее. Зина была счастлива, что все ее друзья привязаны к ней так же крепко, как и до разлуки, и даже крепче, – они почувствовали ее отсутствие, она была нужна им и там, в тех заманчивых, полных неожиданностей и открытий краях.
– Ты все время была с нами, – сказала Фатьма, обжигаясь картошкой, – все время!
– Да, правда, – подтвердила Шура, – ты бы нарисовала моих телят.
– И мой телятник, – добавил Вася.
– И молочка попила бы с нами парного, – сказал Гришка Брянцев, – прямо тепленького!
– И у костра с нами поночевала бы, – отозвался Андрей. – Эх, хорошо, костер пригаснет, а ты лежишь и смотришь на небо, а там звезды, звезды мигают, переливаются…
– А крупа из мешка в это время рассыпается, – сказал Вася.
– Почему крупа?
Оказывается, Андрей, заглядевшись на звезды, вытянул свои длинные ноги и опрокинул корзинку, в которой лежала приготовленная к утру крупа. И снова воспоминания, рассказы, смех…
И все-таки Зине чего-то не хватало в этих рассказах. Почему-то имя Артемия звучало не так часто, как ей хотелось бы. Вспоминал ли он о ней? Ну хоть изредка? Ей хотелось знать о нем все, все: и как он идет с рюкзаком за спиной, и как он узнает дорогу по азимуту, и как он учит ребят разжигать костры, и как он разговаривает с колхозниками. И уже она сама еще раз хотела спросить – а что же Артемий, как он отнесся к тому, что крупа рассыпалась? – как открылась дверь и сам Артемий, коричневый, светловолосый и темноглазый, со знакомым светлым шрамчиком над бровью, появился в комнате.
Ребята заорали «ура». Сейчас же задвигались, гремя стульями, чтобы освободить ему место, начали придвигать ему картошку, помидоры, огурцы…
– Спасибо, ребята, – сказал Артемий и подсел к столу. – А я ведь, по совести сказать, пришел узнать, как жила тут без нас вот эта беленькая девочка, – он указал глазами на Зину, – и как она выполняла свой долг.
Зина так и загорелась румянцем; она не знала, куда ей деться, от смущения картошка выпала у нее из руки и свалилась под стол. Ребята подняли смех.
Но Артемий повторил свой вопрос, серьезно глядя в ее светло-серые, очерченные черными короткими ресничками глаза:
– Ты сделала то, для чего осталась, Зина?
Зина ответила не сразу. Она хотела ответить так, чтобы это было по-настоящему правдой. И, мгновенно перебрав в уме недавнее прошлое – выздоровевшая Изюмка, пионерский двор, успокоившийся Антон, Яшка, устроенный в интернат, – она ответила спокойно и твердо:
– Да. Сделала.
Вернувшись домой, она застала Антона около наволочки с орехами. Он в восторге вынимал орехи горстями и клал их на стол – он никогда не видел, чтобы они были в таких хорошеньких шершавых оберточках с мохнатой бахромой.
– Зина, Зина, иди сюда скорей, гляди-ка, кто это принес нам орехов?!
Зина взъерошила его светлый чубик.
– Это наши ребята принесли. Прямо из леса, из самого настоящего леса, – ответила она. – У нас с тобой, оказывается, очень много друзей, Антон! И знаешь что? Возьми-ка побольше орехов да отнеси своим товарищам, угости их.
Антон живо набил карманы орехами и умчался. Зина закрыла дверь. Ей необходимо было остаться одной, чтобы разобраться в своих чувствах, чтобы хоть как-то справиться со своей радостью, которая не умещалась в сердце. Он пришел узнать, как она жила! Он помнил, он не забывал! Он пришел, чтобы узнать!
Зина ходила по комнате, прижимая руки к своим горячим щекам. Ей хотелось смеяться, скакать, петь!
Неожиданно припомнилась песенка, которую они пели с мамой, когда Зина была еще совсем-совсем маленькой:
Отчего мне весело?
Потому что солнышко, Потому что солнышко Глянуло в оконушко!
Отчего мне весело?
Оттого что песенка, Оттого что песенка Села к нам на лесенку!
Почему мне весело?
Улица вся светится, А на этой улице Кто-нибудь да встретится!
Мама! Грустная милая улыбка ее, светлые ласковые глаза… Она умерла, и лишь немногим больше двух лет прошло с тех пор, а вот Зина уже и веселится и поет!.. А ведь она так отчаивалась тогда, думала, что после такого горя она уже никогда и не улыбнется больше. Какая страшная это была ночь, когда пришла «скорая помощь» и увезла маму в больницу. И еще страшнее было утро, когда пришел из больницы отец с почерневшим от горя лицом и сказал, что мама умерла… Как они все плакали, какой беспросветной казалась им жизнь!
А нынче?!
Зина омрачилась, притихла, задумалась… Она подошла к маленькому портрету мамы, висевшему в спаленке. Мамины глаза улыбались Зине, они все видели, эти глаза, все понимали.
И снова мама стояла здесь, около Зины, и снова ласково говорила с ней.
«Не надо так омрачать свою жизнь, Зина, – говорила она. – Живым надо жить. Надо работать, веселиться, любить друг друга. Это закон природы. Я знаю, что я, твоя мама, у тебя всегда и в сердце и в памяти. Но неужели ты думаешь, что мне было бы приятно, если бы ты всегда грустила и никогда бы ничему не радовалась? Любимые мои, меня нет с вами, но я всегда была счастлива вашим счастьем и радостна вашей радостью. Радуйся, дочка, жизни, не упрекай себя…»
«Хорошо, мамочка, хорошо, – мысленно ответила Зина своей маме. – Только ты знай одно, что я никогда не забываю о тебе, и никогда я тебя не забуду, и никогда не перестану тебя любить, и всегда-всегда ты будешь нам нужна… И если я веселюсь, то не думай, что я про тебя уже забыла! Но я сегодня так счастлива, мамочка, так счастлива!»
КРУПНЫЙ РАЗГОВОР
Начало учебного года чувствовалось всюду. Ученики запасались учебниками, матери покупали девочкам черные и белые школьные фартуки, а мальчикам – пиджачки и фуражки.
В выходной день у прилавка магазина стоял вальцовщик Стрешнев со своей старшей дочерью Зиной, расправляя крупной, загрубевшей от работы красивой рукой маленький нежно-белый передник с плечиками, похожими на крылья мотылька.
– Как думаешь, Зина, не мала эта вещица? А? Напялим мы на Изюмку?
– Да что ты, папа, еще и велик будет. Ведь она же не в пятый класс идет, а в первый!
– А это – для первого? А годится ли для первого-то?
Зина не сдержала усмешки:
– Папка, какой же ты простоватый! А для кого же такие фартуки? Ведь дошкольникам не шьют школьной формы! Покупай, покупай скорее, нам еще Антону надо новые брюки купить, старые коротки совсем!
Отец и дочь ходили из магазина в магазин, искали, выбирали, покупали разные вещи для своих маленьких школьников…
Стрешнев после смерти жены почти два года ходил с почерневшим лицом, не поднимая головы. Сейчас он немного выпрямился, стал улыбаться, глаза его посветлели и потеплели – жизнь шла вперед, дети росли, требовали забот и ласки. Но над его бровями как залегли горькие складки в ту страшную ночь, так и остались навсегда – печать того, что не забывается до конца дней. Теперь вся радость жизни его была в работе и в детях. Он удивлялся, глядя на них, что они так быстро, так неудержимо растут. Даже вот эта малявка, которая не так давно кричала умирающей матери: «Мамочка, открой глазки, я не буду больше баловаться!» – и которая месяц тому назад отыскивала эльфов в цветах, нынче идет в школу! Ей уже нужны сумка, тетради, карандаши… Удивительно!
А глазастый простак Антон – он уже в третьем, его уже скоро будут принимать в пионеры. Батюшки мои, сплошь партийные люди в моей семье, – ведь вот-вот и эта малявка Изюмка нацепит себе на грудь октябрятскую звездочку!
«А Зина… Ну уж Зина…» – Отец шел от кассы с оплаченным чеком и смотрел на Зину, стоявшую у прилавка. Тоненькая, стройная, с белокурой косой, подвязанной крендельком на затылке… Что напоминала она? Молоденькую березку весной, свежесть лесного ветерка, чистую утреннюю зарю, распукольку дикого шиповника на тонкой росистой ветке… Что-то далекое и волнующе прекрасное, являвшееся ему в раннем деревенском детстве.
– Папа, папа, послушай! – подозвала его Зина. – Посмотри, какие хорошие рубашки. И как раз твой размер. Давай купим, а?

Отец пожал плечами.
– А на что мне такая рубашка? Жениться мне, что ли?
У Зины на секунду глаза стали неподвижными. Жениться, жениться… Мгновенно представилась какая-то неведомая женщина, вторгнувшаяся в их маленькую, полную воспоминаний о маме квартиру. Но Зина тотчас отогнала это тревожное видение.
– А если не жениться, то и хорошие рубашки носить не надо? Что ты, люмпен-пролетарий, что ли?
– Да видишь ли… – Отец смущенно опустил глаза. – Денег-то у нас не очень…
Продавец, больше не интересуясь покупателями, уложил голубую, до блеска отутюженную рубашку в большую коробку.
– Подожди, папа, пускай денег не очень. Мы потом сэкономим, я тебе обещаю. Скоро праздник, Антона будут в пионеры принимать. Ведь должен же ты к нам в школу прийти. А в чем ты пойдешь, ну-ка?
– Так уж у меня и рубашек нет?
– Но, папа, они же старые, тебе надо новую рубашку. Ну-ка, давай деньги, я заплачу. Думаешь, маме приятно было бы, если бы ты в старой рубашке пришел на праздник, а?
Отец вынул деньги из кармана и молча отдал Зине.
Через десять минут голубая рубашка, аккуратно завернутая, была в руках Зины.
Они шли по гладким плитам богатых товарами рядов ГУМа. Сквозь стеклянный гумовский небосвод просеивалось нежаркое августовское солнце, зажигая блестками большой фонтан. Из-за широких витрин заманчиво глядели расписные ларцы, резные тарелки, фаянсовые горшки, отливающие желтым и красным хохломские ковши и братины, разливались сияющими потоками шелка, манили пестротой свежих красок ситцы, штапели, маркизеты, кокетливо выставляли узкие носы светлые туфельки, облаками нейлона и капрона дымилось розовое и голубое дамское белье…
Зина с трудом отводила глаза от этих витрин, она не могла налюбоваться красотой вещей, созданных для радости. Ей хотелось бы взять с собой всего – и шелку на платье, и туфельки, и широкого тюля на окна, и ковер для спальни, и ночную рубашку, всю в оборочках и кружевах, и хорошенькое платьице для Изюмки, и матросский костюм для Антона, и габардиновый плащ, который как раз годился бы отцу, и дорогие акварельные краски, и прекрасный альбом слоновой бумаги для рисования…
– Вот видишь, – сказал отец, – все растратили мы с тобой, всем накупили подарков. А что же для тебя? Для тебя-то и не купили ничего.
– Ну, – с улыбкой отмахнулась Зина, – а мне-то и не нужно ничего.
И вдруг, сказав это, она почувствовала, что и в самом деле ей ничего не нужно. Неужели она могла бы надеть эти узконосые туфли с уродливым каблучком или эту пышную прозрачную ночную рубашку? А занавески у них еще хорошие, и к тому же их сшила из полотна мама. Неужели Зина снимет мамины скромные красивые полотняные шторы и повесит какой-то дрянной тюль!
– Нет, нет, – повторила она, – ничего, ничего мне не нужно. И даже не хочется ничего!
– Ну уж новые краски-то, наверное, хочется, – сказал отец, покосившись на нее. – Вот тут у меня еще кой-какая мелочь. Может, купим? И потом будем экономить. А?
Против этого соблазна Зина устоять не могла, и ящичек с красками перешел в ее сумку.
Дома Зина все покупки любовно разложила по местам. И в этот вечер все – то отец, то Зина, то Антон – не раз доставали из комода и из шкафа обновки и снова любовались ими.
После чая Зина села рисовать новыми красками. Почему-то вспомнился далекий-далекий день, когда она с подругами шла по лесу, собирая букеты из желтой и оранжевой осенней листвы. Вот и встал этот лес на кремовом листе слоновой бумаги, встал далекий, волшебный, счастливый – ведь это было в то время, когда еще была жива ее мама. А вот и девочки идут. И впереди их дорогая учительница Елена Петровна. И вот четыре девочки делят дубовую ветку: как крепка дубовая ветка, так крепка будет их дружба. Вот они четверо – Зина, Маша, Тамара… А четвертая отошла. Она не хочет давать никаких обещаний, она любит – пока любит. А перестанет любить – никакие обещания ее не удержат. Это Фатьма. Это она, с длинными косами, огорченная и расстроенная, идет одна, в стороне… Глупые детские клятвы! Зачем они были? Фатьма и сейчас с ней, с Зиной, она самый верный ее друг. А где Тамара, которая всех горячее клялась? Тамара стала совсем чужой им всем, она идет по каким-то своим дорогам, ищет какого-то своего счастья, неведомого им всем.
В дверях кто-то позвонил. И, будто вызванная магической силой воспоминания, в комнату вошла Тамара Белокурова.
Зина выпустила из рук папку с рисунком, в глазах ее были изумление, растерянность.
– Тамара! Откуда ты взялась? Ты же уехала!
– Ну уехала. А вот и приехала. Здравствуйте.
Тамара непринужденно поздоровалась со Стрешневым, который сидел с Антоном на диване и рассказывал ему про водолазов. Антону в последнее время что-то грезились водолазы, может, после картины, которую он видел по телевизору. Вот была картина! Там люди, надев ласты и акваланги, разгуливали вместе с рыбами в глубинах моря, и сколько чудес они там видели!
– Ну что тебе водолазы? – смеялся отец. – Ты ведь водолазом не станешь?
– А почему не стану? – нерешительно возражал Антон.
– Ясно почему – потому что трус.
Но Антон не сдавался.
– А ты рассказывай, не отвиливай! Все только трус да трус. А может, осмелею?
– И в затонувший корабль полезешь?
– А может, и полезу. Ты давай рассказывай!
Тамара сразу разрушила спокойную теплую атмосферу. Отец замолчал, он не мог так непринужденно болтать с Антоном при чужом человеке. Антон тоже умолк и, раскрыв во всю ширь свои круглые голубые глаза, уставился на Тамару.
А Тамара, делая вид, что ничего не замечает, прошла к столу и села рядом с Зиной.
– Вот и я. Здравствуй. Ты уж думала, наверное, что больше меня не увидишь? А я вот приехала. И вот пришла – рада или не рада, а я пришла.
Зина покраснела. Она хотела сказать, что очень рада, но не могла. Зина совсем не обрадовалась Тамаре, наоборот, ей было неприятно, что Тамара со своим громким голосом и небрежным разговором нарушила течение их мирного вечера.
Зина что-то пролепетала, но Тамара не слушала ее.
– Пойдем пройдемся, – сказала она, занятая какими-то своими мыслями. – На улице очень хорошо. Мне надо поговорить с тобой.
Зине не хотелось уходить из дому, не хотелось идти с Тамарой.
– А почему же надо идти на улицу? Здесь тоже можно.
– Но мне нужно поговорить с тобой… а не со всеми…
Она покосилась в сторону Андрея Никаноровича. Тот почувствовал себя неловко. Он не знал, как ему обратиться к Тамаре, сказать ли ей «ты» – ведь она подруга его дочери, – или уже нужно говорить «вы» – вон она какая нарядная, на высоких каблуках, с лакированной сумочкой, да еще и в перчатках.
– А чего ж вам убегать? Мы и сами можем уйти.
И они вместе с Антоном поднялись и ушли в спаленку. Зина стала убирать свое рисование. Тамара взяла в руки картинку.
– Что это? Лес какой-то. За грибами, что ли, ходят?
– Это так… – сказала Зина, – одно воспоминание. Как мы ходили в лес с Еленой Петровной…
– А! Это когда мы клялись веткой дуба? Вот-то смешные были!
Зина взяла у нее рисунок и положила в папку.
– А что ж? – продолжала Тамара. – Все-таки эта ветка сыграла свою роль, не правда ли? Вот, например, мы с тобой так ведь и остались друзьями! Ну кто твой лучший друг – разве не я?
Зина, немного растерявшись от такой явной неправды, с недоумением посмотрела на нее. Тамара – ее лучший друг!
Мгновенно вспомнились те страшные, никогда не забываемые дни, когда у нее не стало мамы. Как трудно было опомниться от этого внезапного горя, невозможно казалось вынести то, что случилось! Друзья, подруги окружили ее тогда, помогли устоять, утешали как умели. Кто же являлся к ней каждый день и развлечь, и помочь, и присмотреть за младшими ребятами? Фатьма, в первую очередь Фатьма, которая вовсе не клялась никакими громкими клятвами. И Шура была тогда с Зиной, и Сима Агатова, и Маша Репкина, и Вася, и Андрюшка…
Только не Тамара Белокурова. Ни разу за все то время она не зашла к Зине, никогда Зинино горе не трогало ее. У Тамары всегда были только свои личные дела, и сейчас так же – всегда только свои беды и радости, из-за которых она не видит других людей. И это она, Тамара, оказывается, ее лучший друг!
В молчании Зины Тамара почувствовала упрек.
– А разве нет? Не так? – продолжала она. – Разве не к тебе первой я пришла тогда со своим горем, не к тебе?
– Со своим горем – да, – сдержанно сказала Зина.
Тамаре не понравился ее тон, но ей было не до того, чтобы раздумывать о Зининых настроениях.
– И вот теперь – опять я к тебе же пришла! Не к Симке Агатовой, не к Фатьме же!
– Могла бы и к ним пойти.
– Как это – к ним? Ведь я же твоя подруга!
Зина не хотела ссориться, не хотела ворошить все те горькие минуты, которые ей пришлось пережить из-за Тамары. Ей вспомнилась рука Тамары, белая рука в кружевном нарукавничке, поднятая за исключение Зины из пионеров. Почти единственная рука во всем классе!
– Да! – сказала она с горечью и принялась прибирать на столе свои книги и тетради. – Да, да, конечно!
– Я пришла посоветоваться с тобой, – продолжала Тамара, – сядь, пожалуйста, и выслушай как человек. Ведь это очень серьезно!
Конечно, потому и пришла, что у нее опять что-то случилось.
Зина села. В окнах уже засинело, Зина включила лампу.
Но Тамара тотчас погасила ее:
– Не надо. Мне как-то спокойней в сумерках!
Наступило молчание. Тамара сидела нахмурившись. Из спаленки слышались негромкие голоса – Антон читал отцу сказку. Зина молча ждала. Она видела, что Тамаре трудно начать свой разговор, но Зина не могла заставить себя помочь ей.
– Я уехала от отца совсем, – начала Тамара. – Я больше ни за что не поеду туда! Как они живут! Разве можно так жить? Работа, работа, каждый день с утра до ночи работа и работа! И все в земле, в грязи… Нет, это совсем невозможно!
Тамара вспомнила, как ее осмеяли в совхозе девушки-работницы, – это воспоминание ее больно укололо.
– А народ какой – грубый, неразвитый! Ну ты подумай – начали смеяться над моими платьями. Будто в шелковых платьях и ходить нельзя! Ну ты понимаешь теперь? Им это дико!
– Конечно, если полоть или снопы вязать, то в шелковых платьях и вправду дико, – чуть-чуть улыбнулась Зина. – А по-твоему, нет?
– Нет, по-моему, нет! – Тамара рассердилась. – И вообще я не за тем туда поехала, чтобы им снопы вязать!
– Ты – им. А они – тебе.
– Ты смеешься надо мной? – Тамара вспыхнула и, вскочив со стула, раза два прошлась по комнате. – Неужели я только того и стою, что снопы вязать?
Зина хотела спросить – а чего же она стоит? Но сдержалась.
– Так разве в совхозе только снопы вяжут? Там небось и клуб есть и читальня. Могла бы, наверное, в клубе работать.
Тамара фыркнула:
– Как же! Антирелигиозные лекции, что ли, читать?
– А хотя бы!
– Нет, ты просто меня нарочно злишь, – крикнула Тамара, и в ее голосе послышались слезы, – ты просто назло!
Зина не хотела злить ее, она искренне думала, что в совхозе можно найти множество интересных дел, если захотеть. Но она не знала, что Тамара пыталась браться за эти дела.
…Отец не сразу отпустил Тамару. После одной пылкой ссоры, когда Тамара уже собрала чемодан, отец глубоко призадумался.
– Мы с тобой оба слишком вспыльчивы, – сказал он примиряюще. – Давай разберемся, давай поищем путей.
– Ты же нашел мне путь – техникум, – обиженно ответила Тамара. – Интересно, какой? Малярный, может быть? Или электричество проводить? Или, может, телят воспитывать?
Николай Сергеевич опять глядел на нее недоумевающими глазами, он опять не мог понять ее горечи и возмущения.
– Ну подожди, ты не горячись. И маляр, и электрик, и телятница – все это люди уважаемых и очень нужных профессий. И, если хочешь знать мое мнение, будь ты сейчас маляром и работай на какой-нибудь стройке, я бы гордился тобой. А уж если бы ты зоотехником пришла к нам на молочную ферму, я бы не только гордился, но и счастлив был бы!
Тамара, пожав плечами, отвернулась. Это движение начисто зачеркивало разговор.
– Ну хорошо, ну давай подумаем о другом, – терпеливо продолжал отец. – Ты как-то сказала, что умеешь делать то, чего никогда не сумеют наши девчата. Может, ты мне объяснишь, что же такое это «то»? Может, в этом и есть твое призвание?
Тамара молчала. Отец ждал.
– Вот у нас клуб есть, – опять начал он. – Может, ты могла бы какой-нибудь доклад сделать? Или беседу провести?
– Какую беседу? О чем?
– Ну мало ли на свете сейчас интересного творится! Вот поди в Космосе побывали – собери материал, да и расскажи поподробнее. Или можно хотя бы поговорить о химии – ты, конечно, читала, какие чудеса – полимеры – открывают и создают нынче химики? Или, например, что делает химия для сельского хозяйства. Это же страшно интересно!