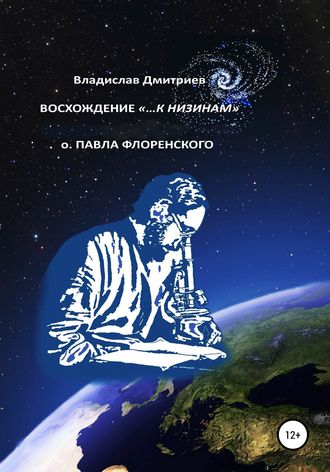
Владислав Георгиевич Дмитриев
Восхождение «…к низинам» о. Павла Флоренского
Глубина рассуждений отца основана как на уважении, так и убежденности, что сын понимает то, о чем он ему пишет, признавая тем самым, что сын сформировался как личность. В этом формировании и становлении очень большую роль играли родители, которые не отмахивались от его вопросов и рассуждений, а последовательно формировали в нем понимание по самым различным аспектам его интересов.
Единодушие родителей в понимании его судьбы как ученого, поддержка устремлений логично привели его к поступлению на физико-математический факультет МГУ. С этого момента о жизни, поступках, удачах и неудачах и, главное, мыслях можно узнать из его писем и писем к нему родных и близких. Это большой пласт информации, который размещен в электронном виде на различных сайтах в интернете и в выпущенных его потомками книгах. Эти источники позволяют всегда ознакомиться с полными текстами писем, поэтому чтобы использовать информационные возможности полнее, автор в дальнейшем дает ссылки на письмо, в основном, приводя его дату, таким образом, всегда можно найти интересующее письмо в различных источниках.
Вообще-то им планировалось поступление в столичный Санкт-Петербургский университет, но так как лимит приема студентов с Кавказа был исчерпан [3], он отправился в Москву, где и был принят на физико-математический факультет МГУ.
Однако, уровень знаний, самостоятельно полученных до университета, привел к вполне ожидаемому результату: «1900.IX.02 … лекции, по химии, для меня скучные… все, начиная от фактов и порядка изложения и кончая фразами …иногда трудно удерживаться от зевоты. Жаль, что особенно скучно читаются физика и химия». Его видение лекционной работы в этом же письме он описывает так: «Все выгоды лекционного преподавания: непосредственное влияние, возбуждение интереса, умение оттенить важное и т.д. исчезают при чтении профессора, который не отличается талантливостью. Я вовсе не желаю какого-ниб<удь> блестящего красноречия, блеска, а только желал бы, чтобы видна была работа мысли во время чтения» [4].
Серьезный уровень самообразования, который он получил, будучи гимназистом, практически сформировали его научное мировоззрение еще до поступления в университет, что собственно и вызвало недовольство уровнем преподавания в МГУ того времени.
Занятия научными исследованиями как формой нахождения истины, приводят к интересным мыслям об истине вообще, которые он описывает, рассуждая о картине «Голгофа»: здесь уже можно заметить ту глубину понимания, которая, в конечном итоге, приведет его к религиозной деятельности. Вот, что он пишет в письме матери: «1900.IX.02. … а вопрос, волнующий человека, заставляющий его колебаться между надеждой и ожиданием: "что есть истина?" В центре стоит Христос. В данном случае решительно все равно, видеть ли в нем реальное и историческое лицо, как о Нем повествуют, или только символ, знак известной идеи, подобно тому, как буква является символом ничего общего с нею не имеющего звука, я говорю, это решительно всё равно. Эта фигура, во всяком случае, должна произвести на человека чувствующего известное впечатление. Та двойственная природа, на которую напирают богословы, человека вообще, а Его в особенности, представлена очень реально…».
Ну а пока, еще только начиная свое обучение в университете, в этом же своем письме он рассуждает о великих людях и своем понимании их, как всегда, ярко и поэтично: «…ум великих людей и заключается в том, что их внимание утомляется труднее нашего; они умеют вечно удивляться, не скользят по запыленной поверхности будничной обстановки усталым взором, а стараются освобождаться от гнета мертвых, стереотипных движений духа. И тем скорее удается им очистить себя от всех отбросов духа, чем сильнее их удивление, чем более по-детски наивно созерцают они жизнь. Желая поделиться своею радостью с другими, они громко кричат о своем успехе, своей радости, и на короткое время люди, более чуткие в своем сне, пробуждаются, протирают глаза и подымаются навстречу оживающей для них природы».
Через месяц после начала занятий он напишет отцу письмо, из которого можно понять не только подходы и научные интересы, но и широту и разносторонность воззрений, как на физико-математические проблемы, так и на морально-этические. Его рассуждения показывают, что предопределило в будущем его поступки: «27.09.1900 г. … Я смотрел темы на нашем факультете, предлагаемые профессорами для получения медали, … но брать их не хочу. … Темы, особенно по физике, такого рода, что надо или ограничиться компиляцией и бесконечным копанием по журналам etc., или кроме этого дать нечто действительно оригинальное, для чего кроме талантов надо иметь и обширные познания по математике и физике. Но тема эта меня очень интересует, т.к. она может выяснить вопрос (по-моему, совсем не решенный) о прерывности и непрерывности явлений физического мира, о многозначных функциях и т.д., что меня очень занимает. Сама тема формулирована так: "Уравнения состояний материи". С течением времени я все более и более убеждаюсь, что "аксиома" непрерывности очень односторонняя гипотеза, в очень многих случаях не выдерживающая критики. Дуализм тела и духа, масса затруднений могут быть улажены при принятии математического, числового мировоззрения и при применении учения о прерывных функциях». Здесь им ставится вопрос, который будет занимать его постоянно – объединение материального и духовного начала человека, которое, как ему тогда казалось, возможна с помощью математических методов, и: «Тогда многие явления выступят с совсем особой точки зрения, сделается понятным и главное более реальным… Я хочу идти исключительно от факта… путем, … откровения, интуиции … перейти к тому, что прежде называли гипотезой. Из этого основного положения, … начнут выделяться соподчиненные ему части. Все сильнее и сильнее дифференцируются основоположения, все ближе к обыкновенному здравому смыслу подходят результаты, чтобы вернуться наконец к тем самым фактам, созерцание которых пробудило основную идею. Но при этой дифференциации целое не разлагается, не расползается в клочки, а сохраняет свою идеальную связь, которая выступает еще раздельнее. … Я же хочу положения, одинаково требуемого как умственными запросами человека, так и эстетическими, и этическими, в силу чего основоположение не может быть понятно фиктивному чистому рассудку. Оно для него одна из бесчисленных возможностей, одна из бесчисленных поверхностей пространства, геометрическое место возможностей. Только пересечение с эстетической и этико-религиозной поверхностями геометрических мест дает одну точку, точку абсолютного если не в его целом, то качественно подобном целому. Это будет сектор, проникающий до самого центра абсолютного, быть может, с дугой бесконечно малой».
В дальнейшей жизни Павлу Флоренскому придется не раз выбирать из бесчисленных возможностей ту единственную точку, то решение, в котором пересекались его этико-религиозные, эстетические, и общечеловеческие воззрения, когда от его выбора зависела, как судьба его и близких, так и судьба далеких ему людей. Это были точки абсолютного выбора, и каждый раз его выбор показывал, что их судьбы были для него важней своей. Эта была та геометрия жизни, которая сделала его судьбу одновременно и трагичной, и великой.
Уже писалось, что в формировании его мировоззрений большую роль сыграли родители, и это видно по письмам, которыми они обменивались с сыном. Из них следует, что особенно сильно было влияние отца, ведь он был для него и учителем и другом, с которым можно было обсуждать самые трудные темы. Характерной чертой писем к сыну является глубокий, уважительный, и вдумчивый их характер, показывающий, что отец Флоренского был также далеко неординарным человеком.
Вот, как писал ему отец:
«2/X 1900. Дорогой Павлуша, сегодня получил твое письмо. … По всему видно, что ты совершенно освоился с университетской жизнью и ее интересами. Ты пишешь мне, что ты с трудом воспринимаешь математику при самостоятельных занятиях. Мне кажется, что это так и должно быть при твоем складе ума, насколько я тебя знаю. Тебя математика соблазняет широкими перспективами, твоим желанием концентрировать все вопросы в формулах. Но мне кажется, … что природа и человеческие вопросы гораздо сложнее, чем все математические выводы. … Другое дело, что математика может дать аналогии для многих выводов, для решения в общих основаниях многих вопросов, о некоторых из которых и ты мне пишешь».
И далее уже обсуждает поставленный сыном вопрос:
«о прерывности функций в приложении к физическим вопросам действительно чрезвычайно интересный и мог бы не только многое разъяснить в настоящем, но открыть совершенно новые пути для всех человеческих знаний. Самое понятие о прерывности даже в математике мне кажется, едва затронуто и его можно было бы расширить применением и к бесконечно малым величинам. Я хочу сказать, что в самых бесконечно малых величинах, элементах – есть уже не только количественное, но качественное различие, не позволяющее их приравнивать и даже сравнивать. Элемент переменной независимой и ее log – величины вообще не соизмеримые, т. е. математически качественно различные. Отсюда от понятий дуализма в природе также легко перейти и к полиизму, если я правильно выражаюсь; но принимая во внимание равенство пределов всех элементов – легко вернуться и к монизму. Ты заманчиво ставишь вопрос на почву нахождения точки пересечения двух или трех поверхностей, представляющих разные стороны человеческой деятельности…. Даже если и в этом направлении будут достигнуты наибольшие возможные результаты, то и тогда мы нисколько не приблизимся к тому, что ты называешь абсолютным. Все останется столь же относительным, как и теперь. К счастью людей самое понятие их об абсолютном также изменчиво во времени и пространстве, как и все наше знание, т. е. опять только относительно. Абсолютное для одного не будет абсолютным для другого. Абсолютное сегодня – перестанет им быть завтра».
И высказав свои мысли, передав ему своё понимание, извиняется:
«Пишу тебе, дорогой, что – умело или неумело – сам думал об этом и до сих пор думаю. Твои мысли для меня, во всяком случае, более чем интересны: не потому только, что они твои, а по их общему значению для удовлетворения духовных нужд человека. Поэтому не принимай написанного за желание старшего господствовать над твоею мыслью, а просто как за одного из возможных твоих оппонентов. Поэтому не забывай нас в своих мыслях, т. е. думай и с нами… Твой отец».
Но не только с отцом он рассуждает о математике и философии, но и в письмах к матери. Это говорит, как о важности в тот период жизни этих предметов для него, так и о его попытках формализовать все многообразие мира, с помощью формул найти, то общее выражение, которое объединило бы духовное и материальное в мире человека. Вот как он пишет об этом матери: «1900.10.05. Дорогая мамочка! … Занимаюсь теперь я математикой, … и немного философией. Как то, так и другое мне совершенно необходимы, и я чувствую, что математикой я увлекаюсь всё сильнее и сильнее. Везде находишь соотношения, аналогии, параллели. То, чего я хотел ещё со 2-го класса от математики, я теперь начинаю мало-помалу получать, и вполне уверен, что получу больше, чем ожидаю и надеюсь. Математика для меня – это ключ к мировоззрению, такому мировоззрению, для которого нет ничего настолько неважного, чем не надо было бы заниматься, нет ничего не стоящего в связи с другим. При математическом мировоззрении нет надобности намеренно или бессознательно игнорировать целые области явлений, урезывать и достраивать действительное». И снова его беспокоят и интересуют вопросы объединения духовного и материального мировоззрения: «Натурфилософия соединяется в одно целое с этикой и с эстетикой. Религия получает совершенно особенный смысл и находит соответственное место в целом, место, которого она была лишена раньше, почему ей и приходилось строить себе отдельное, изолированное помещение. … Это не более, как смутные предчувствия будущего синтеза. Когда он будет сделан, где, кем? – всё это ещё вопросы. Я только убежден, что это совершится исключительно при вмешательстве математики, скорее даже философии математики. Философией и психологией я занялся, как и прежде занимался, т.к. это мне, во-первых, совершенно необходимо вообще, а, во-вторых, начавшееся в прошлом году увлечение Платоном у меня все усиливается. Я нахожу у него всё более и более гениальных мыслей, не проблесков, а именно ясно-выраженных мыслей, только что немного наивным языком, что делает их ещё прекраснее. Многие проблемы разрешены, по-моему, исключительно у него, а после того или придерживались его мнений в той или другой форме, или высказывали мнения, с которыми невозможно согласиться». А дальше его высказывание, показывающее как желательно для философа знание языков: «Вот почему я с большим удовольствием, читаю и буду читать по-гречески: существующий перевод весьма неверен, … В каждом слове его, да и не только его, а вообще греческих произведений, чувствуется какой-то особенный оттенок изящества, … чем более вчитываешься, тем сильнее разгорается в книге искра духа, брошенная двойным гением: народа и писателя. Именно духа, т.к. нет ни одного слова машинного производства, каким способом фабрикуются теперь произведения по большей части. Быть может фабричное производство удобно, даже красиво; c этим я не стану спорить, но сам я предпочитаю то произведение, на котором есть отпечаток духовности, как бы оно ни было неудобно во всех отношениях».
Переписка юного Павла Флоренского дает много для понимания формирования его мировоззрений, которые были заложены, несомненно, родителями, это можно понять из писем, где свои глубокие рассуждения он доверял именно им, четко представляя, что его и поймут, и правильно оценят. Трудно представить, что он смог бы найти сверстника, которому высказывал бы свои мысли, так, как он их высказывал своим родителям, и чтобы тот его понял, так, как они.
Ранние письма, ценны именно откровенностью, что дает возможность проследить становление его философских и научных взглядов и их трансформацию по мере накопления знаний и впечатлений – как он пишет в одном из писем: «… а мой принцип – черпать истину отовсюду, где бы она ни находилась». Именно в это время он пишет глубокое, большое и быть может самое важное для понимания дальнейший судьбы письмо, где им высказывается мысль о взаимодействие научной и религиозной философий: «1900.10.25. Дорогой папочка! То, что ты просишь написать, именно о физическом значении прерывных функций, я попробую, … Относительно необходимости применения именно прерывных функций к системе Менделеева я знал уже несколько лет тому назад по той простой при чине, что сам Менделеев … замечает, что "действительный период.<ический> закон …не выражает функцию непрерывную". … Ещё давно мне казалось несовместимым с идеей непрерывности понятие спектра, внезапного скачка потенциала при соприкосновении металлов, внезапного изменения состояния тел при переохлаждении, перегревании. … Да вся психофизика, вся эстетика, с какой бы точки зрения последнюю ни рассматривать, именно основаны на движении скачками. … Я хочу только показать возможность существования прерывности, показать также, … что разветвления причинного хода природы, многозначность, возможность исчезновения из поля зрения опыта нисколько не противоречат закономерности, от которой я тоже не могу отказаться». И дальше описывает свои подходы: «… я иду своим методом. Раз я показал (что первое) возможность такого-то, такого-то и т.д. рациональных, хотя и нерационалистических мировоззрений, я вторым делом делаю их оценку с других сторон. Да, они все одинаково не противоречат разуму, но этого мало. Несколько из них выбираются как удовлетворяющие религиозным запросам; из этих – этическим; из этих – эстетическим и т.д. Остальные отбрасываются. …в результате останется, 2, 3 или 4 мировоззрений,… Тогда могут явиться свои, новые соображения, в силу которых произведётся новое просеивание, соображения более частные». Целью этих своих подходов он считал то, что: «… в конце концов возможно одно, развивающееся миросозерцание,…. …Вместо того, чтобы говорить, что нигде нет истины, я говорю: везде она есть по частям, везде, начиная от древнейших религий Востока и кончая современными научными теориями». Что, по его мысли, приведет: «Среди ученых – движение в сторону религии, среди духовных – в сторону науки. Взаимодействие с философией с обоих сторон, которая служит соединительным звеном,…». Внутреннее чувство, которое основано на том материале, который он с таким упорством осмыслил, дает ему возможность заключить: «Быть может культура движется толчками, выдвигая сразу вперед то ту, то другую свою часть. Но из этого не следует, что остального тела ее не существует… Я придаю громадное значение увлечению позитивизмом, … Но его роль сыграна. … но если не принять во внимание всех запросов духа, то снова будет неудача. Прежде же всего надо беречься того, чтобы думать, что вся задача человечества закончена на особе автора системы, что делали и Шопенгауэр, и Фихте, и Гегель, и Спенсер и т.д. Если у нас нет данных для чего-нибудь, то от нас требуется только одно: не забывать, что данные могут быть у других, что необходимо оставить для них место. … Невольно вспомнишь не раз, по-видимому, парадоксальную фразу Лейбница: "все философы правы в своих утверждениях и неправы в своём отрицании". Она выражена неудачно, но заключает в себе указание на источник того, что ты называешь фанатизмом, а я догматизмом, "отсутствием внутренней свободы"». И закрывая свои ранние философские рассуждения, пишет о своем внутреннем мире: «Всё это, дорогой, слишком сложные вопросы, чтобы можно было о них, как следует писать теперь, а особенно в письме. Хотя я ими занимаюсь давно, но не имею никакого фундамента, почему не могу работать систематически. А просто так, придет иногда в голову; ну, иногда запишешь кое-что, иногда нет. Как придется. А масса вопросов уже совсем ещё неясны, так что даже тебе я не могу писать о них. Ведь всё, что я пишу, не более, как догадки, отчасти полёты воображения. Если я пишу о подобных вещах, то вполне чувствую "незаконность" своего писания и делаю, т.к. ты сам хотел. А что же будет, если писать о не оформившихся даже грезах? Целую вас всех. … Целую тебя, дорогой. Твой П.»
В последующих письмах к родным можно найти развитие этих основных мыслей и рассуждений, как по общефилософским, так и по конкретным научным проблемам.
1.2. Студенческие мнимости
Философский настрой, увлечение математикой, физикой привели Павла Флоренского к созданию в августе 1902 года интересного научного труда – «Мнимости в геометрии», который был им опубликован только через 20 лет в 1922 году уже как философско-научный. В примечании к этой работе он пишет: «Основная часть настоящей работы (§§ 1–7) написана в бытность мою студентом, в августе 1902 года, и тогда же сообщена проф. Л.К. Лахтину и некоторым, товарищам…» [5].
Вероятно, эта работа не нашла понимания и была положена «в стол» на долгих 20 лет, но сам факт создания этой работы двадцатилетним студентом говорит о творческом потенциале. В этой работе он рассматривает физическую сущность мнимых величин, которые были введены выдающимися математиками прошлого для решения алгебраических уравнений с отрицательными числами. Это искусственно введенная математическая абстракция, тем не менее, будоражила ум. Широко известно высказывание Лейбница (1646-1716): «Дух божий нашел тончайшую отдушину в этом чуде анализа, уроде из мира идей, двойственной сущности, находящейся между бытием и небытием, которую мы называем мнимым корнем из отрицательной единицы». И такое же его поэтическое и в какой-то мере пророческое высказывание: «Комплексные числа – это прекрасное и чудесное убежище божественного духа, почти что амфибия бытия с небытиѐм». Проблема состояла в том, что было не совсем ясно какую физическую или геометрическую сущность отображают мнимые величины. Этот пробел Флоренский пытается решить, поставив себе задачу: «… раширить область двухмерных образов геометрии так, чтобы в систему пространственных представлений вошли и мнимые образы. …Необходимо найти в пространстве место для мнимых образов, и притом ничего не отнимая от уже занявших свои места образов действительных».
Формально математически рассмотрев положение треугольной фигуры на плоскости, он получил, что при формальной же замене порядка вершин треугольника его площадь меняет свой знак, оставаясь по величине одной и той же. Отталкиваясь от этого обстоятельства, он приходит к выводу, что: «Действительная причина изменения знака площади есть какое-то движение треугольника, а не простое переименование вершин». Придерживаясь формальных математических действий, дальше показывает, что: «так как всякую площадь, ограниченную ломанной замкнутой линией, можно разбить на сумму треугольников, то и всякая площадь, ограниченная ломанным периметром, составленным из прямолинейных звеньев, инвариантна». Это означает, что если находится ответ для площади треугольника, то это можно применить к площади любого вида, поэтому рассмотрение имеет общий характер и, рассматривая этот треугольник, показывает, что если его перевернуть в пространстве и положить на ту же плоскость, то площадь поменяет знак: «Следовательно, переворачивание в третьем измерении и есть искомое движение, меняющее знак площади треугольника, а, по сказанному ранее, – и площади всякой фигуры вообще. … Эта неконгруэнтность равных геометрических образов имеет… чрезвычайно важное значение в философии и в естествознании...». Из своих доказательств он делает важный вывод, что: «…всякий вырезок плоскости с одной стороны положителен, а с другой – отрицателен, и потому вся плоскость с одной стороны положительна, а с другой отрицательна». Такой вывод важен, так как появляется: «физический смысл устанавливаемого понятия о “полярности плоскости” как геометрического образа». Это не оторванное от природы понятие вроде абстрактных математических формул. В физике известно множество примеров таких полярных плоскостей – это и магнитный листок, и двойной электрический слой, и разделы сред, – все то, что в настоящее время широко применяется в современных электронных приборах.
Здесь свой вклад в науку он видит в том, что: «Новая интерпретация мнимостей заключается в открытии оборотной стороны плоскости и приурочении этой стороне—области мнимых чисел. Мнимый отрезок относится, согласно этой интерпретации, к противоположной стороне плоскости; там находится своя координатная система, в одном случае совпадающая с действительной, а в другом – расходящаяся с нею».
Как математик и физик Флоренский понимал, что имеющиеся физические примеры полярных плоскостей требуют разъяснений в наличии у них знака поверхности и ответа на вопрос, а где собственно находится точка перехода от одного знака в другой. Необходимость объяснения этого обстоятельства привела его к введению дополнительного понятия: полу-мнимых точек. Физически это означает, что если однородная плоскость имеет конечную толщину, то половина этой её толщины принадлежит одному знаку, а другая половина противоположному. Это не только не противоречит физике, а представляет собой реальный факт. Любое физическое тело, имеющее полярные плоскости, например, электреты, плоские магниты, двойные электрические слои и т.п. имеет реальные размеры и: «Полное отрицание за ними протяжения просто уничтожило бы их магнитное или электрическое действие…». Точкой перехода одного знака в другой служит: «комплексная точка [которая] объединяет в себе все частные виды точек, а плоскость Р есть носительница именно комплексных точек». Это очень интересная плоскость, физически не имеющая толщины, так как любое отклонение в сторону полу-мнимых точек от нулевого значения означает переход в соответствующую действительную или мнимую плоскость.
Для данного реального физического тела, например, плоского магнита или электретной пленки, внутри неё всегда существует нулевая мнимая плоскость имеющая периметр, который ограничен размерами этого конкретного тела, но которая физически толщины не имеет.
Интересно и то, что в 6 примере этой работы он рассматривает мембрану в электролите, разделяющую электроды и это тот же самый рисунок, который мы находим в его записях 1898 года, где он пишет: «важно, как подтверждение моего закона». Возможно, это указывает на то, что к этой своей идее мнимой поверхности он пришел уже в то время.
Собственно, в таком виде эта работа в 1902 году была представлена профессору Л.К. Лахтину и, можно предположить, что она вызвала у него отрицательную реакцию, так как в ней была совершенно новая и наглядная интерпретация мнимых величин, хотя и математически, и физически все объяснялось вполне адекватно. Именно поэтому эта работа не увидела свет и пролежала долгих 20 лет, дожидаясь своего часа. То, что Флоренский не забыл её, мало того, через 20 лет добавил еще 2 параграфа и опубликовал, кстати, за свой счет, говорит о том, что он придавал ей очень большое значение. В последующем, уже в конкретной деятельности, он снова возвращался к этой теме.




