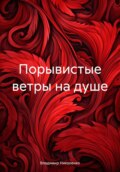Владимир Викторович Николенко
Искусство русской беседы
Эпизод четвертый. Воспоминание о разговоре с Ганей до знакомства с Аглаей, ее матерью и сестрами.
Ганя. (пронзительно смотря на князя Мышкина) Так вам нравится такая женщина, князь?
Так Ганя смотрел на князя Мышкина, точно будто бы у него было какое чрезвычайное намерение.
Мышкин. Удивительное лицо! И я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. – Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Всё было бы спасено!
Ганя. (не спуская своего воспаленного взгляда) А женились бы вы на такой женщине?
Мышкин. (удрученно) Я не могу жениться ни на ком, я нездоров.
Свет над сценой полностью гаснет, лишь одинокий луч света выхватывает князя Мышкина, сидящего за столом, держащего себя за голову.
Голос Гани. А Рогожин женился бы? Как вы думаете?
Голос Мышкина. Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно; женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал бы ее.
Голос его в голове еще несколько раз повторил «и зарезал бы ее».
Эпизод пятый. Воспоминание разговора с генералом Епанчиным.
Князь Мышкин стоит у парковой скамейки. К нему подходит генерал Епанчин и приветствует его. Князь приветствует генерала в ответ.
Генерал. А, Лев Николаевич, ты… Куда теперь? Пойдем-ка, я тебе словцо скажу.
Тут Мышкин задумался. Генерал начинает что-то объяснять князю Мышкину. Тут раздается громкая мелодия, которая заглушает речь генерала.
Голос Мышкина. Записка написана наскоро и сложена кое-как, всего вернее, пред самым выходом Аглаи на террасу.
Голос Аглаи. Завтра в семь часов утра я буду на зеленой скамейке, в парке, и буду вас ждать. Я решилась говорить с вами об одном чрезвычайном деле, которое касается прямо до вас.
Вдруг князь поднимает голову и смущается, потому что отвлекся от разговора и не понимает, что ему говорит генерал.
Генерал. Странные вы всё какие-то люди стали, со всех сторон. Говорю тебе, что я совсем не понимаю идей и тревог Лизаветы Прокофьевны. Она в истерике и плачет, и говорит, что нас осрамили и опозорили. Кто? Как? С кем? Когда и почему? Я, признаюсь, виноват, в этом я сознаюсь, много виноват, но домогательства этой… беспокойной женщины, и дурно ведущей себя вдобавок, могут быть ограничены наконец полицией, и я даже сегодня намерен кое с кем видеться и предупредить. Все можно устроить тихо, кротко, ласково даже, по знакомству и отнюдь без скандала. Согласен тоже, что будущность чревата событиями и что много неразъясненного; тут есть и интрига; но если здесь ничего не знают, там ничего объяснить не умеют; если я не слыхал, ты не слыхал, пятый тоже ничего не слыхал, то кто же, наконец, и слышал, спрошу тебя? Чем же это объяснить, по-твоему, кроме того, что наполовину дело – мираж, не существует, вроде того, как, например, свет луны… или другие приведения.
Мышкин (задумчиво). Она… помешанная.
Генерал. В одно слово, если ты про эту. Меня тоже такая же идея посещала отчасти, и я засыпал спокойно. Но теперь я вижу, что тут думают правильнее, и не верю помешательству. Женщина вздорная, положим, но при этом даже тонкая, не только не безумная. Сегодняшняя выходка насчет Капитона Алексеича это слишком доказывает. С ее стороны дело мошенническое, то есть по крайней мере иезуитское, для особых целей.
Мышкин (растерянно). Какого Капитона Алексеича?
Генерал (возмущается). Ах, боже мой, Лев Николаич, ты ничего не слушаешь. Я с того и начал, что заговорил с тобой про Капитона Алексеича; поражен так, что даже и теперь руки-ноги дрожат. Для того и в городе промедлил сегодня. Капитон Алексеич Радомский, дядя Евгения Павлыча…
Мышкин. Ну!
Генерал. За-стре-лился, утром, на рассвете, в семь часов. Старичок, почтенный, семидесяти лет, эпикуреец, – и точь-в-точь как она говорила, – казенная сумма, знатная сумма!
Мышкин. Откуда же она…
Генерал. Узнала-то? Ха-ха! Да ведь кругом нее уже целый штаб образовался, только что появилась. Знаешь, какие лица теперь ее посещают и ищут этой «чести знакомства». … Но какое же тонкое замечание ее насчет мундира-то, как мне пересказали, то есть насчет того, что Евгений Павлыч заблаговременно успел выйти в отставку! Эдакий адский намек! Нет, это не выражает сумасшествия.
Мышкин. Но что же в поведении Евгения Павлыча подозрительного?
Генерал. Ничего нет! Держал себя благороднейшим образом. … Свое-то состояние, я думаю, у него в целостности. … Ты, подлинно сказать, друг дома, Лев Николаевич, и вообрази, сейчас оказывается, хоть, впрочем, и не точно, что Евгений Павлыч будто бы уже больше месяца назад объяснился с Аглаей и получил будто бы от нее формальный отказ.
Мышкин. Быть не может!
Генерал. Да разве ты что-нибудь знаешь? Видишь, дражайший, я, может быть, тебе напрасно и неприлично проговорился, но ведь это потому, что ты… что ты… можно сказать, такой человек. Может быть, ты знаешь что-нибудь особенное?
Мышкин. Я ничего не знаю… об Евгении Павлыче.
Генерал. И я не знаю! Меня… меня, брат, хотят решительно закопать в землю и похоронить, и рассудить не хотят при этом, что это тяжело человеку, и что я этого не перенесу. Сейчас такая сцена была, что ужас! Я, как родному сыну, тебе говорю. Главное, Аглая точно смеется над матерью. Про то, что она, кажется, отказала Евгению Павлычу с месяц назад и что было у них объяснение, довольно формальное, сообщили сестры, в виде догадки… впрочем, твердой догадки. Но ведь это такое самовольное и фантастическое создание, что и рассказать нельзя! Все великодушия, все блестящие качества сердца и ума, – это всё, пожалуй, в ней есть, но при этом каприз, насмешки, – словом, характер бесовский и вдобавок с фантазиями. Над матерью сейчас насмеялась в глаза, над сестрами, над князем Щ.; про меня и говорить нечего, надо мной она редко когда не смеется, но ведь я что, я, знаешь, люблю ее, люблю даже, что она смеется, – кажется, бесенок этот меня за это особенно любит, то есть больше всех других, кажется. Побьюсь об заклад, что она и над тобой уже в чем-нибудь насмеялась. Я вас сейчас застал в разговоре после давешней грозы наверху; она с тобой сидела как ни в чем не бывало.
Обдумав мгновение, генерал добавил.
Генерал. (с чувством и с жаром) Милый, добрый мой Лев Николаевич! Я… и даже сама Лизавета Прокофьевна, которая, впрочем, тебя опять начала честить, а вместе с тобою и меня за тебя, не понимаю только за что, мы все-таки тебя любим, любим искренно и уважаем, несмотря даже ни на что, то есть на все видимости. Но согласись, милый друг, согласись сам, какова вдруг загадка и какова досада слышать, когда вдруг этот хладнокровный бесенок, потому что она стояла пред матерью с видом глубочайшего презрения ко всем нашим вопросам, а к моим преимущественно, потому что я, черт возьми, сглупил, вздумал было строгость показать, так как я глава семейства, – ну, и сглупил, этот хладнокровный бесенок так вдруг и объявляет с усмешкой, что эта «помешанная», так она выразилась, и мне странно, что она в одно слово с тобой: «Разве вы не могли, говорит, догадаться», что эта помешанная «забрала себе в голову во что бы то ни стало меня замуж за князя Льва Николаевича выдать, а для того Евгения Павлыча из дому от нас выживает…»; только и сказала; никакого больше объяснения не дала, хохочет себе, а мы рот разинули, хлопнула дверью и вышла. Потом мне рассказывали о давешнем пассаже с нею и с тобой… и… и… послушай милый князь, ты человек не обидчивый и очень рассудительный, я это в тебе заметил, но… не рассердись: ей-богу, она над тобой смеется. Как ребенок смеется, и потому ты на нее не сердись, но это решительно так. Не думай чего-нибудь, – она просто дурачит и тебя, и нас всех, от безделья. Ну, прощай! Ты знаешь наши чувства? Наши искренние к тебе чувства? Они неизменны, никогда и ни в чем… но… мне теперь сюда, до свидания! Редко я до такой степени сидел плохо в тарелке, как это говорится-то, как теперь сижу… Ай да дача!
Поговорив с князем, генерал уходит в темноту. Князь остается у скамейки.
Эпизод шестой. Воспоминание о тайной беседе с Аглаей.
Та же скамейка, князь сидит удрученный. Из темноты входит Аглая и тормошит князя. Князь сонный пытается понять, кто его тормошит.
Мышкин. Опять эта женщина…
Аглая (смеётся над князем). Какая женщина?…
Мышкин. Другая… мне приснилась… (ловит на себе строгий взгляд Аглаи)
Аглая. Я все знаю! Вы жили тогда в одних комнатах, целый месяц, с этой мерзкой женщиной, с которой вы убежали…
Аглая, опомнившись, села. Князь был ужасно поражен внезапностью выходки и не знал, чему приписать ее.
Аглая. Я вас не люблю.
Князь не ответил; опять молчали с минуту.
Аглая. Я люблю Гаврилу Ардалионовича…
Мышкин. Это не правда.
Аглая. Стало быть, я лгу? Это правда; я дала ему слово, третьего дня, на этой самой скамейке.
Князь испугался и на мгновение задумался.
Мышкин. Это не правда, вы все это выдумали.
Аглая. Удивительно вежливо. Знайте, что он исправился; он любит меня более своей жизни. Он предо мной сжег свою руку, чтобы только доказать, что любит меня более своей жизни.
Мышкин. Сжег свою руку?
Аглая. Да, свою руку. Верьте не верьте – мне все равно.
Князь опять замолчал. В словах Аглаи не было шутки; она сердилась.
Мышкин. Что ж, он приносил сюда с собой свечку, если это здесь происходило? Иначе я не придумаю…
Аглая. Да… свечку. Что же тут невероятного?
Мышкин. Целую или в подсвечнике?
Аглая. Ну да… нет… половину свечки… огарок… целую свечку, – все равно, отстаньте!.. И спички, если хотите, принес. Зажег свечку и целые полчаса держал палец на свечке; разве это не может быть?
Мышкин. Я видел его вчера; у него здоровые пальцы.
Аглая вдруг прыснула со смеха, совсем как ребенок.
Аглая. Знаете, для чего я сейчас солгала? Потому что когда лжешь, то если ловко вставишь что-нибудь не совсем обыкновенное, что-нибудь эксцентрическое, ну, знаете, что-нибудь, что уж слишком редко, или даже совсем не бывает, то ложь становится гораздо вероятнее. Это я заметила. У меня дурно вышло, потому что я не сумела…
Вдруг она опять нахмурилась, как бы опомнившись.
Аглая. Если я тогда… если я тогда и прочла вам про «бедного рыцаря», то этим хоть и хотела… похвалить вас заодно, но тут же хотела и заклеймить вас за поведение ваше и показать, что я все знаю…
Мышкин. Вы очень несправедливы ко мне… к той несчастной, о которой вы сейчас так ужасно выразились, Аглая.
Аглая. Потому что я все знаю, все, потому так и выразились! Я знаю, как вы полгода назад, при всех предложили ей вашу руку. Не перебивайте, вы видите, я говорю без комментариев. После этого она бежала с Рогожиным; потом вы жили с ней в деревне какой-то или в городе, и она от вас ушла к кому-то. (Аглая ужасно покраснела.) потом она опять воротилась к Рогожину, который любил ее как… как сумасшедший. Потом вы, тоже очень умный человек, прискакали теперь за ней сюда, тотчас же как узнали, что она в Петербург воротилась. Вчера вечером вы бросились ее защищать, а сейчас во сне ее видели… Видите, что я все знаю; ведь вы для нее, для нее сюда приехали?
Мышкин. Да, для нее, для нее, чтобы только узнать… Я не верю в ее счастье с Рогожиным, хотя… одним словом, я не знаю, что бы я мог тут для нее сделать и чем помочь, но я приехал.
Он вздрогнул и поглядел на Аглаю; та с ненавистью слушала его.
Аглая. Если приехали, не зная зачем, стало быть, уже очень любите.
Мышкин. Нет, нет, не люблю. О, если бы вы знали, с каким ужасом вспоминаю я то время, которое провел с нею!
Даже содрогание прошло по его телу при этих словах.
Аглая. Говорите все.
Мышкин. Тут ничего нет такого, чего бы вы не могли выслушать. Почему именно вам хотел я все это рассказать, и вам одной, – не знаю; может быть, потому что вас в самом деле очень любил. Эта несчастная женщина глубоко убеждена, что она самое павшее, самое порочное существо из всех на свете. О, не позорьте ее, не бросайте камня. Она слишком замучила себя самое сознанием своего незаслуженного позора! И чем она виновата, о Боже мой! О, она поминутно в исступлении кричит, что не признает за собой вины, что она жертва людей, жертва развратника и злодея; но что бы она вам ни говорила, знайте, что она сама, первая, не верит себе и что она всею совестью своею верит, напротив, что она… сама виновна. Когда я пробовал разогнать этот мрак, то она доходила до таких страданий, что мое сердце никогда не заживет, пока я буду помнить об этом ужасном времени. У меня точно сердце прокололи раз навсегда. Она бежала от меня, знаете для чего? Именно чтобы доказать только мне, что она – низкая. Но всего ужаснее то, что она и сама, может быть не знала того, что только мне хочет доказать это, а бежала потому, что ей непременно, внутренно хотелось сделать позорное дело, чтобы самой себе сказать тут же: «Вот ты сделала новый позор, стало быть, ты низкая тварь!» О, может быть, вы этого не поймете, Аглая! Знаете ли, что в этом беспрерывном сознании позора для нее, может быть, заключается какое-то ужасное, неестественное наслаждение, точно отмщение кому-то. Иногда я доводит ее до того, что она как бы опять видела кругом себя свет; но тотчас же опять возмущалась и до того доходила, что меня же с горечью обвиняла за то, что я высоко себя над нею ставлю, когда у меня и в мыслях этого не было, и прямо объявила мне, наконец, на предложение брака, что она ни от кого не требует ни высокомерного сострадания, ни помощи, ни «возвеличения себя». Вы видели ее вчера; неужели вы думаете, что она счастлива с этою компанией, что это ее общество? Вы не знаете, как она развита и что может понять! Она даже удивляла меня иногда!
Аглая. Вы и там читали ей такие же… проповеди?
Мышкин (задумчиво). О нет, я почти все молчал. Я часто хотел говорить, но я, право, не знал, что сказать. Знаете, в иных случаях лучше совсем не говорить. О, я любил ее; о, очень любил… но потом… потом… потом она все угадала…
Аглая Что угадала?
Мышкин. Что мне только жаль ее, а что я… уже не люблю ее.
Аглая. Почему вы знаете, может, она в самом деле влюбилась в того… помещика, с которым ушла?
Мышкин. Нет, я все знаю; она лишь насмеялась над ним.
Аглая. А над вами никогда не смеялась?
Мышкин. Н-нет. Она смеялась со злобы; о, тогда она меня ужасно укоряла, в гневе, – и сама страдала! Но… потом… о, не напоминайте, не напоминайте мне этого!
Он закрыл себе лицо руками.
Мышкин (кричит). О, оставьте ее, умоляю вас! Что вам делать в этом мраке; я употреблю все усилия, чтоб она вам не писала больше.
Аглая. Если так, то вы человек без сердца! Неужели вы не видите, что не в меня она влюблена, а вас, вас одного она любит! Неужели вы все в ней успели заметить, а этого не заметили? Знаете, что это такое, что означают эти письма? Это ревность; это больше чем ревность! Она… вы думаете, она в самом деле замуж за Рогожина выйдет, как пишет здесь в письмах? Она убьет себя на другой день, только что мы обвенчаемся!
Князь вздрогнул; сердце его замерло. Но он в удивлении смотрел на Аглаю: странно ему было признать, что этот ребенок давно уже женщина.
Мышкин. Бог видит, Аглая, чтобы возвратить ей спокойствие и сделать ее счастливою, я отдал бы жизнь мою, но… я уже не могу любить ее, и она это знает!
Аглая. Так пожертвуйте собой, это же так к вам идет! Вы ведь такой великий благодетель. … Вы должны, вы обязаны воскресить ее, вы должны уехать с ней опять, чтоб умирять и успокаивать ее сердце. …
Свет над сценой гаснет.
Действие третье. Урок.
Страдание – неотъемлемая часть жизни князя Мышкина. С детства он болен припадками, лишён возможности расти и развиваться наравне со своими сверстниками. У него нет опыта общения с противоположным полом, нет опыта распознавания в собеседнике лжи. Он смиренно принимает удары судьбы и учится этим важным социальным навыкам. Он пытается понять, что с ним происходит, что происходит вокруг него.
Явление первое. Откровенный разговор князя Мышкина с Евгением Павловичем.
Мышкин сидит удрученный на скамейке. Евгений Павлович прохаживается перед Мышкиным с закинутыми за спину руками.
Евгений Павлович. Ну, да и в самом деле, согласитесь сами, можно ли выдержать… особенно зная всё, что у вас здесь ежечасно делается, в вашем доме, князь, и после ежедневных ваших посещений туда, несмотря на отказы…
Мышкин. Да, да, да, вы правы, я хотел видеть Аглаю Ивановну…
Евгений Павлович. Ах, милый князь, как могли вы тогда допустить… всё, что произошло? Конечно, конечно, всё это было для вас так неожиданно… Я согласен, что вы должны были потеряться и… не могли же вы остановить безумную девушку, это было не в ваших силах! Но ведь должны же вы были понять, до какой степени серьезно и сильно эта девушка… к вам относилась. Она не захотела делиться с другой, и вы… и вы могли покинуть и разбить такое сокровище!
Мышкин. Да, да, вы правы; да, я виноват, и знаете: ведь она одна, одна только Аглая смотрела на Настасью Филипповну… Остальные никто ведь так не смотрели.
Евгений Павлович. Да тем-то и возмутительно всё это, что тут и серьезного не было ничего! Простите меня, князь, но… я… я думал об этом, князь; я много передумал; я знаю всё, что происходило прежде, я знаю всё, что было полгода назад, всё, и – всё это было несерьезно! Всё это было одно только головное увлечение, картина, фантазия, дым, и только одна испуганная ревность совершенно неопытной девушки могла принять это за что-то серьезное!..
Евгений Павлович несколько минут собирался с мыслями.
Евгений Павлович. С самого начала, началось у вас ложью; что ложью началось, то ложью и должно было кончиться; это закон природы. Я не согласен, и даже в негодовании, когда вас, – ну там кто-нибудь, – называют идиотом; вы слишком умны для такого названия; но вы и настолько странны, чтобы не быть, как все люди, согласитесь сами. Я решил, что фундамент всего происшедшего составился, во-первых, из вашей, так сказать, врожденной неопытности, заметьте, князь, это слово: „врожденной“, потом из необычайного вашего простодушия; далее, из феноменального отсутствия чувства меры, в чем вы несколько раз уже сознавались сами, – и, наконец, из огромной, наплывной массы головных убеждений, которые вы, со всею необычайною честностью вашею, принимаете до сих пор за убеждения истинные, природные и непосредственные! Согласитесь сами, князь, что в ваши отношения к Настасье Филипповне с самого начала легло нечто условно-демократическое, я выражаюсь для краткости, так сказать, обаяние «женского вопроса», чтобы выразиться еще короче. Я ведь в точности знаю всю эту странную скандальную сцену, происшедшую у Настасьи Филипповны, когда Рогожин принес свои деньги. Хотите, я разберу вам вас самих как по пальцам, покажу вам вас же самого как в зеркале, до такой точности я знаю, в чем было дело и почему оно так обернулось! Вы, юноша, жаждали в Швейцарии родины, стремились в Россию, как в страну неведомую, но обетованную; прочли много книг о России, книг, может быть, превосходных, но для вас вредных; явились с первым пылом жажды деятельности, так сказать, набросились на деятельность! И вот, в тот же день вам передают грустную и подымающую сердце историю об обиженной женщине, передают вам, то есть рыцарю, девственнику – и о женщине! В тот же день вы видите эту женщину; вы околдованы ее красотой, фантастическою, демоническою красотой, я ведь согласен, что она красавица. Прибавьте нервы, прибавьте вашу падучую, прибавьте нашу петербургскую, потрясающую нервы оттепель; прибавьте весь этот день, в незнакомом и почти фантастическом для вас городе, день встреч и сцен, день неожиданных знакомств, день самой неожиданной действительности, день трех красавиц Епанчиных, и в их числе Аглаи; прибавьте усталость, головокружение; прибавьте гостиную Настасьи Филипповны и тон этой гостиной, и… чего же вы могли ожидать от себя самого в ту минуту, как вы думаете?
Мышкин. Да, да; да, да, да, это почти что ведь так; и знаете, я действительно почти всю ночь накануне не спал, в вагоне, и всю запрошлую ночь, и очень был расстроен…
Евгений Павлович. Ну да, конечно, к чему же я и клоню? Ясное дело, что вы, так сказать, в упоении восторга, набросились на возможность заявить публично великодушную мысль, что вы, родовой князь и чистый человек, не считаете бесчестною женщину, опозоренную не по ее вине, а по вине отвратительного великосветского развратника. О, господи, да ведь это понятно! Но не в том дело, милый князь, а в том, была ли тут правда, была ли истина в вашем чувстве, была ли натура или один только головной восторг? Как вы думаете: во храме прощена была женщина, такая же женщина, но ведь не сказано же ей было, что она хорошо делает, достойна всяких почестей и уважения? Разве не подсказал вам самим здравый смысл, чрез три месяца, в чем было дело? Да пусть она теперь невинна, – я настаивать не буду, потому что не хочу, – но разве все ее приключения могут оправдать такую невыносимую, бесовскую гордость ее, такой наглый, такой алчный ее эгоизм? Простите, князь, я увлекаюсь, но…
Мышкин. Да, всё это может быть; может быть, вы и правы… она действительно очень раздражена, и вы правы, конечно, но…
Евгений Павлович. Сострадания достойна? Это хотите вы сказать, добрый мой князь? Но ради сострадания и ради ее удовольствия разве можно было опозорить другую, высокую и чистую девушку, унизить ее в тех надменных, в тех ненавистных глазах? Да до чего же после того будет доходить сострадание? Ведь это невероятное преувеличение! Да разве можно, любя девушку, так унизить ее пред ее же соперницей, бросить ее для другой, в глазах той же другой, после того как уже сами сделали ей честное предложение… а ведь вы сделали ей предложение, вы высказали ей это при родителях и при сестрах! После этого честный ли вы человек, князь, позвольте вас спросить? И… и разве вы не обманули божественную девушку, уверив, что любили ее?
Мышкин. Да, да, вы правы, ах, я чувствую, что я виноват!
Евгений Павлович. Да разве этого довольно? Разве достаточно только вскричать: «Ах, я виноват!» Виноваты, а сами упорствуете! И где у вас сердце было тогда, ваше «христианское»-то сердце! Ведь вы видели же ее лицо в ту минуту: что она, меньше ли страдала, чем та, чем ваша другая, разлучница? Как же вы видели и допустили? Как?
Мышкин. Да… ведь я и не допускал…
Евгений Павлович. Как не допускали?
Мышкин. Я, ей-богу, ничего не допускал. Я до сих пор не понимаю, как всё это сделалось… я – я побежал тогда за Аглаей Ивановной, а Настасья Филипповна упала в обморок; а потом меня всё не пускают до сих пор к Аглае Ивановне.
Евгений Павлович. Всё равно! Вы должны были бежать за Аглаей, хотя бы другая и в обмороке лежала!
Мышкин. Да… да, я должен был… она ведь умерла бы! Она бы убила себя, вы ее не знаете, и… всё равно, я бы всё рассказал потом Аглае Ивановне и… Видите, Евгений Павлович, я вижу, что вы, кажется, всего не знаете. Скажите, зачем меня не пускают к Аглае Ивановне? Я бы ей всё объяснил. Видите: обе они говорили тогда не про то, совсем не про то, потому так у них и вышло… Я никак не могу вам этого объяснить; но я, может быть, и объяснил бы Аглае… Ах, боже мой, боже мой! Вы говорите про ее лицо в ту минуту, как она тогда выбежала… о, боже мой, я помню!.. Пойдемте, пойдемте!
Евгений Павлович. Куда?
Мышкин. Пойдемте к Аглае Ивановне, пойдемте сейчас!..
Евгений Павлович. Да ведь ее же в Павловске нет, я говорил, и зачем идти?
Мышкин. Она поймет, она поймет! Она поймет, что всё это не то, а совершенно, совершенно другое!
Евгений Павлович. Как совершенно другое? Ведь вот вы все-таки женитесь? Стало быть, упорствуете… Женитесь вы или нет?
Мышкин. Ну да… женюсь; да, женюсь!
Евгений Павлович. Так как же не то?
Мышкин. О нет, не то, не то! Это, это всё равно, что я женюсь, это ничего!
Евгений Павлович. Как всё равно и ничего? Не пустяки же ведь и это? Вы женитесь на любимой женщине, чтобы составить ее счастие, а Аглая Ивановна это видит и знает, так как же всё равно?
Мышкин. Счастье? О нет! Я так только просто женюсь; она хочет; да и что в том, что я женюсь: я… Ну, да это всё равно! Только она непременно умерла бы. Я вижу теперь, что этот брак с Рогожиным был сумасшествие! Я теперь все понял, чего прежде не понимал, и видите: когда они обе стояли тогда одна против другой, то я тогда лица Настасьи Филипповны не мог вынести… Вы не знаете, Евгений Павлович (понизил голос таинственно), я этого никому не говорил, никогда, даже Аглае, но я не могу лица Настасьи Филипповны выносить… Вы давеча правду говорили про этот, тогдашний вечер у Настасьи Филипповны; но тут было еще одно, что вы пропустили, потому что не знаете: я смотрел на ее лицо! Я еще утром, на портрете, не мог его вынести… Вот у Веры, у Лебедевой, совсем другие глаза; я… я боюсь ее лица! – прибавил он с чрезвычайным страхом.
Евгений Павлович. Боитесь?
Мышкин. Да; она – сумасшедшая!
Евгений Павлович. Вы наверно это знаете?
Мышкин. Да, наверно; теперь уже наверно; теперь, в эти дни, совсем уже наверно узнал!
Евгений Павлович. Что же вы над собой делаете? Стало быть, вы женитесь с какого-то страху? Тут понять ничего нельзя… Даже и не любя, может быть?
Мышкин. О нет, я люблю ее всей душой! Ведь это… дитя; теперь она дитя, совсем дитя! О, вы ничего не знаете!
Евгений Павлович. И в то же время уверяли в своей любви Аглаю Ивановну?
Мышкин. О да, да!
Евгений Павлович. Как же? Стало быть, обеих хотите любить?
Мышкин. О да, да!
Евгений Павлович. Помилуйте, князь, что вы говорите, опомнитесь!
Мышкин. Я без Аглаи… я непременно должен ее видеть! Я… я скоро умру во сне; я думал, что я нынешнюю ночь умру во сне. О, если б Аглая знала, знала бы всё… то есть непременно всё. Потому что тут надо знать всё, это первое дело! Почему мы никогда не можем всего узнать про другого, когда это надо, когда этот другой виноват!.. Я, впрочем, не знаю, что говорю, я запутался; вы ужасно поразили меня… И неужели у ней и теперь такое лицо, как тогда, когда она выбежала? О да, я виноват! Вероятнее всего, что я во всем виноват! Я еще не знаю, в чем именно, но я виноват… Тут есть что-то такое, чего я не могу вам объяснить, Евгений Павлович, и слов не имею, но… Аглая Ивановна поймет! О, я всегда верил, что она поймет.
Евгений Павлович. Нет, князь, не поймет! Аглая Ивановна любила как женщина, как человек, а не как… отвлеченный дух. Знаете ли что, бедный мой князь: вернее всего, что вы ни ту, ни другую никогда не любили!
Мышкин. Я не знаю… может быть, может быть; вы во многом правы, Евгений Павлович. Вы чрезвычайно умны, Евгений Павлович; ах, у меня голова начинает опять болеть, пойдемте к ней! Ради бога, ради бога!
Евгений Павлович. Да говорю же вам, что ее в Павловске нет, она в Колмине.
Мышкин. Поедемте в Колмино, поедемте сейчас!
Евгений Павлович. Это не-воз-можно!
Мышкин. Послушайте, я напишу письмо; отвезите письмо!
Евгений Павлович. Нет, князь, нет! Избавьте от таких поручений, не могу!
Князя переполняет чувство, будто его держат на коротком поводке. Ему было в новинку, что отношения между мужчиной и женщиной так в одночасье могут быть безвозвратно разрушены. Его сознание снова переполняют воспоминания. Он пытается понять, что им было сделано не так.