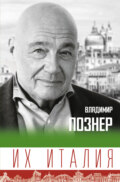Владимир Познер
Прощание с иллюзиями
В Советском Союзе существует своя эволюция ограничений, о чем я еще скажу. Пока же отмечу, что появилось новое ощущение, некоторое чувство уверенности в большей терпимости общества, люди начинают отдавать себе отчет в том, что социализм – по крайней мере концептуально – должен всячески способствовать свободе мысли, слова и выражения.
Тем не менее ограничения остаются, и их много. Но как ни странно, в некотором отношении они менее жестокие, чем в Соединенных Штатах. Например, в советских средствах массовой информации чаще можно встретить критику своего общества и похвалу в адрес другого, нежели в американских. Однако редко появляется критика Горбачева или других членов Политбюро. Если бы это было результатом некоего принципа, в соответствии с которым высокопоставленные члены партии и правительства и не подвергаются критике и не награждаются похвалой, но критикуется или превозносится та или иная политика, то или иное действо, что ж, можно было бы поговорить о пользе или вреде такого подхода. Но на самом деле руководство лишь превозносится, ему курят фимиам. При перестройке и гласности не должно быть проблем с публичной критикой лидера или лидеров страны. А проблема-то есть, и весьма серьезная. Мы молчим в основном из-за традиционного страха последствий. В прошлом любое такое высказывание угрожало твоей карьере, твоей свободе, твоей жизни. К этому добавляется некая традиция почитания чинов – нечто схожее с британской традицией не критиковать королеву. Но страх, конечно, – главная причина молчания. Еще одно табу – внешняя политика СССР. Журналисты, вернее, редакторы весьма неохотно печатают критику в этой области – в отличие, кстати, от тем политики внутренней. Но я надеюсь, что, пока эти строки дойдут до вас, читателя, положение изменится к лучшему.
Итак, о будущем. Сомневаюсь, что будет позволено открыто призывать к свержению правительства и социалистического строя. Подобным правом американец обладает только в том случае, если этот призыв не содержит в себе «ясную и сиюминутную угрозу» – хотя что означают сии слова, понять трудно. Но возможно, примут похожее правило и в России? А вдруг пойдут еще дальше, кто знает? Предсказания – дело малопродуктивное. Вряд ли каких-то пять лет назад кто-нибудь мог предсказать то, что сегодня происходит в Советском Союзе. Определения того, к чему можно публично призывать в любом обществе, зависят от того, каким само общество видит происходящее, в какой мере оно воспринимает это как угрозу своему существованию. Но если оно именно так это воспринимает, угрозу ликвидируют – будь то в Советском Союзе или в Соединенных Штатах Америки.
Оба общества требуют от нас быть честными, когда мы оцениваем ограничения в том, что касается практики свободы человека во всех ее проявлениях. Если эти ограничения противоречат заявленным нами идеалам, мы морально обязаны протестовать. Применительно к социализму и его практике это ставит вопросы одного рода. Применительно к Америке конфликт возникает между давней демократической традицией, с одной стороны, и с другой стороны – экономической системой, которая фактически вверяет власть привилегированному меньшинству. Раньше ли, позже ли, Америке придется разобраться с этим. Исходя из своего опыта жизни в Америке, знаний ее традиций и народа, я полагаю: когда наступит время для решения этих фундаментальных противоречий – а оно наступит неизбежно, – вопрос будет решен в пользу демократии.
* * *
Гм-гм. Смотрите, что идеология способна сотворить с человеком! Она слепит его, делает глухим. Это не оправдание, а констатация факта.
Конечно, все это писалось во времена горбачевской гласности и ельцинской вседозволенности, когда и в самом деле советским СМИ дозволялось все… или почти все…
Было это году в девяностом, какой-то американский журналист обратился ко мне с вопросом, за кого я стал бы голосовать – за Горбачева или за Ельцина, если бы в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы. Я ответил, что, хотя всегда был горячим сторонником Горбачева, я перестал понимать его политику, его назначения, мне неясны кровопролития в Вильнюсе и Риге, Тбилиси и Баку, словом, я скорее всего проголосовал бы за Ельцина.
Через несколько дней меня вызвал начальник Главного управления внешних сношений, заместитель председателя Гостелерадио СССР Валентин Валентинович Лазуткин. Мы с ним было знакомы давно, он сыграл одну из главных ролей в моем назначении политобозревателем и явно относился ко мне с симпатией.
– Володя, – начал он, – у тебя неприятности. Ты давал интервью американцам о том, за кого проголосовал бы, за Михаила Сергеевича или за Ельцина?
– Давал.
– Ты сказал, что проголосовал бы за Ельцина?
– Сказал.
– А зря. Все дошло до Михаила Сергеевича, он очень недоволен. Сейчас у нас идет переаттестация политобозревателей, и Леонид Петрович считает, что тебе нет места на телевидении. Тем более что ты вышел из партии…
Леонид Петрович Кравченко был председателем Гостелерадио, правда, не долго – с 1990 по 1991 год, – но за короткий срок успел продемонстрировать всем свою реакционность; в частности, ему принадлежит заслуга закрытия знаменитой перестроечной программы «Взгляд». Высокий, хорошо сложенный, с подкупающей улыбкой, голубоглазый, чуть курносый – с типично русским лицом «вечного мальчика» (этому образу совершенно не противоречили красиво подстриженные седые волосы), он пришел на ТВ из газеты «Труд», имевшей благодаря его стараниям самый большой тираж среди всех советских газет. Это был человек безусловно способный, умелый и, как мне кажется, лишенный даже намека на совесть. Абсолютный продукт советской системы. Сегодня партия заявила, что Земля плоская – с жаром будет доказывать, что это так. Завтра партия объявит, что Земля круглая – с таким же жаром примется убеждать всех в этом. И горе тому, кто не согласится.
– Валентин Валентинович, – сказал я, – а ведь Леонид Петрович прав, мне и в самом деле нет места на этом телевидении. Я напишу заявление об уходе.
Лазуткин не стал отговаривать меня.
Заявление я написал и отправил в отдел кадров. Но я не ограничился банальной фразой «прошу освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию», а развернуто изложил причины своего нежелания далее работать под началом Кравченко Л.П.
Последующие события приняли неожиданный для меня поворот. Мне предстояло взять интервью у Председателя Президиума Верховного Совета СССР Анатолия Ивановича Лукьянова. Я позвонил ему и объяснил, что интервью не состоится, потому что я подал заявление об уходе. Анатолий Иванович сказал, что этого не может быть и чтобы я приехал немедленно к нему в Кремль. Это было, пожалуй, мое первое посещение кремлевского кабинета. Подробностей уже не помню, в памяти остались лишь огромных размеров кабинет и невероятное количество книг на полках – книг очень хороших.
Я поведал Лукьянову о своем решении, он сказал, что немедленно позвонит Кравченко и «вправит ему мозги». Я объяснил, что приехал к нему не для того, чтобы просить помощи, что решение принято бесповоротно.
– Но хочу заметить вам, Анатолий Иванович, что вы сильно ошибаетесь, когда назначаете таких людей, как Кравченко, на руководящие посты: пока вы у власти и все хорошо, они готовы поцеловать вас в любое место, но первыми всадят вам нож в спину в трудный для вас момент…
Разговор не получился. Покинув кабинет, я пошел к лестнице и столкнулся с Евгением Максимовичем Примаковым, который в то время занимал какой-то высокий правительственный пост (по моим ощущениям, Примаков всегда занимал высокий пост – это, конечно, преувеличение, но сколько я помню Евгения Максимовича, он всегда был «там», наверху). Увидев меня, Примаков спросил басовитым и одновременно скрипучим голосом:
– Володь, я слышал, у тебя неприятности?
– Да что вы, Евгений Максимович, это у них неприятности, у меня все хорошо.
– А ну-ка зайди ко мне…
Если кабинет Лукьянова и удивил меня размерами, то этот просто поразил: по нему можно было ездить на велосипеде.
Разговор состоялся в своем роде замечательный и свелся к двум посылам: первый – я не должен уходить; второй – Кравченко, возможно, и переборщил, но и мы, журналисты, позволяем себе черт знает что и с этим надо что-то делать.

С гостем программы «Pozner & Donahue», сенатором Джо Байденом, ныне вице-президентом США. 1993 г.
Заявление я назад не забрал, и через два дня мне позвонили из приемной Кравченко с просьбой «зайти к Леониду Петровичу». Я сразу понял, что с ним «поговорили», но совершенно не ожидал того, что последовало: он встретил меня как родного вернувшегося в лоно семьи сына, сказал, что я – лучший профессионал среди всех, кто работает на ТВ, и что он мне дает «карт бланш» – мол, могу делать что хочу и как хочу. А ведь это был тот же самый человек, который даже не счёл нужным встретиться со мной, чтобы сообщить, что мне нет места на ТВ, поручив это своему заместителю.
Я отказался, повторил, что не желаю работать с ним на этом телевидении, и ушел. Через некоторое время я получил приглашение от Валентины Николаевны Демидовой вести еженедельное ток-шоу в прямом эфире Московского телевидения. Так появилась программа «Воскресный вечер с Владимиром Познером», которую я вел с удовольствием вплоть до отъезда в США. С Демидовой работать – одно удовольствие: профессионал до мозга костей, сердечная, добрая, она протянула мне руку помощи в трудный для меня момент. За что я был и всегда буду ей благодарен.
И все же работать журналистом в те годы было делом необыкновенно увлекательным: свободы было много – несравненно больше, чем прежде, и гораздо больше, чем сегодня. А что Америка?
Работая в Америке на канале CNBS, где вместе с Филом Донахью мы делали программу «Pozner & Donahue», я близко познакомился с тем, как реально обстоят дела со свободой слова. Приведу случай, который стал роковым для программы «Познер и Донахью». Новым президентом канала CNBS был назначен Роджер Эйлс (нынешний президент канала Fox News), человек крайне реакционных, чтобы не сказать неандертальских, взглядов. Когда наступило время возобновить наш контракт, Эйлс позвонил мне и сказал (помню, как мне кажется, почти дословно):
– Мы продлим с вами контракт, но только при двух условиях. Во-первых, вы должны будете согласовывать со мной тему каждой вашей программы. Во-вторых, вы должны будете согласовывать гостей, которых приглашаете, а то у вас сплошные либералы!
Это была ложь: мы чаще приглашали именно представителей консервативного крыла, людей иных, а то и противоположных нам политических взглядов. Но соврать ради достижения цели никогда не составляло трудности для Эйлса.
Я заметил ему, что это называется цензурой. На что мистер Эйлс ответил (и это точная цитата):
– I don’t give a rat’s ass what you call it, that’s the way it’s going to be[13].
Я объяснил Эйлсу, что не для того переехал из Москвы в Нью-Йорк, чтобы меня цензурировали, и послал его к черту. Фил сказал примерно то же самое. В результате наш контракт не продлили, и программа исчезла.
Замечу, что она была успешной и имела самый высокий рейтинг среди всех политических шоу, шедших по кабельному ТВ в то время. Но никто из телекритиков не «заметил» ее исчезновения. Знаю, что Ральф Нейдер, один из самых известных общественных деятелей США, с возмущением позвонил Тому Шейлзу, главному телекритику престижнейшей газеты The Washington Post, а тот выслушал Нейдера, что-то пробормотал и… ничего не последовало. Все прошло тихо-мирно, без скандала.
Фил продолжал выходить в эфир со своим шоу «Донахью», я же лишился работы. Со мной связался один из самых известных и влиятельных телевизионных агентов США и предложил свои услуги, которые я конечно же принял. Он, как я потом узнал, обратился по моему поводу к трем главным телевизионным сетям Америки – ABC, NBC и CBS. Первая реакция во всех трех случаях была весьма позитивной, но когда предложение доходило до «руководящих этажей», его отвергали. Как оказалось, мне не могли простить моего советского пропагандистского прошлого. Если говорить совершенно откровенно, я не в обиде. За все надо платить. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, получи я работу, но не сомневаюсь: сложилась бы она совершенно иначе. Вполне возможно, что я так и не вернулся бы в Россию.
Через несколько лет после моего отъезда из Нью-Йорка Фила Донахью пригласили вести программу на канале MSNBC, где он имел неосторожность резко выступить против операции «Шок и Трепет» (войны в Ираке). Программу почти сразу же закрыли. Потом кто-то обнаружил записку за подписью председателя правления компании General Electric (которой принадлежит телевизионная компания NBC) о том, что лица, подобные Донахью, не должны появляться в эфире.
И все-таки: уровень свободы печати, свободы слова в Америке значительно выше, чем в России. Тому множество причин, и самая очевидная заключается в том, что в США средства массовой информации контролируются частными владельцами, а в России – властью, либо прямо, либо опосредованно.
Хотя эта причина и лежит на поверхности, она далеко не главная. Если представить себе, что завтра в России власть уйдет из СМИ (как того потребовал президент Медведев), положение изменится незначительно и конечно же не станет таким, как в Америке.
Уж слишком различна история двух стран, слишком рознятся представления о роли СМИ в частности и о свободе печати в целом. Прочтите, что писал Томас Джефферсон, автор Декларации Независимости США, одному своему приятелю в 1787 году: «Поскольку основой нашего правления является мнение народа, первой целью должно быть сохранение этого права, и если бы мне выпало решать, иметь ли нам правительство без газет или газеты без правительства, я, ни минуты на сомневаясь, предпочел бы последнее». Обратите внимание: написано в 1787 году будущим президентом. Что происходило в России в это время? Пик феодализма с Екатериной II, преследование Новикова и Радищева за изданные и написанные ими статьи и книги.
Если посмотреть на это чуть шире, то заметим, что по сути дела русский народ всегда находился в рабстве – почти три века татаро-монгольского ига, за которым через некоторое время последовало установление крепостного права, длившегося без малого четыре века; его отмена не сопровождалась попытками дать крестьянству подлинную свободу (т.е. земельные наделы), а спустя пятьдесят с небольшим лет пришло рабство в виде советской власти с ее прикреплением крестьян к колхозу.
Откуда у народа с подобной историей может взяться понимание свободы? Свобода и ответственность – две стороны одной и той же монеты, без второй нет первой. Но раб по определению безответственен, за него отвечает хозяин. Для раба существует воля – что хочу, то и ворочу, – не имеющая ничего общего со свободой.
Мне потребовалось довольно много времени, чтобы прийти к этим выводам. Придя к ним, я понял: мои прекраснодушные мечты о том, что скоро все изменится к лучшему, суть тоже иллюзии. Повторюсь: если завтра президентом России станет просвещеннейший демократ, если перестанут оказывать давление на журналистов, если и федеральная, и региональная власти будут вынуждены уйти из СМИ, если будут созданы, помимо частных, общественные СМИ, – все равно потребуется еще немало времени, чтобы положение стало таким, каким является в Западной Европе.
«Крепостной» менталитет власти очевиден. Все эти постыдные попытки квалифицировать демократию, называя ее то управляемой, то суверенной, все это словесное жонглирование, напоминающее цирковой номер, есть не что иное, как выражение не то что нежелания, но неспособности нынешней российской власти вырваться из представлений прошлого. Сюда же можем отнести и заигрывания с Русской православной церковью, которая, как ни одна другая сила в России, устремлена в прошлое.
Вернувшись в Россию, я встретился со СМИ, совершенно лишенными обязательств, с журналистами, искренне считавшими, что не несут ответственности ни перед кем, кроме своего главного редактора, – да и то лишь потому, что он может их уволить. А всего через четыре года к власти пришел Владимир Владимирович Путин, и установленная им «вертикаль власти» привела к тому, что журналистики в России почти не стало – были введены неписаные ограничения, приведшие к безграничной самоцензуре, при которой несомненное большинство сегодняшних «журналистов» чувствуют себя как нельзя лучше.
Когда я уезжал из СССР в 1991 году, я покидал страну, в которой, после долгих десятилетий правления веры и страха, робко зарождалась новая вера – без страха. Вернувшись всего через семь лет, я нашел страну, совершенно лишенную какой бы то ни было веры; что до страха, то ему на смену пришли цинизм, безразличие и неуемная жажда денег.
Конечно, есть исключения. Но как мы знаем, исключение только подтверждает правило.
Глава 2. Лимб
Мы выплыли из нью-йоркской гавани в декабре 1948 года на «Стефане Батории», польском океанском лайнере водоизмещением в тридцать четыре тысячи тонн. Помню, как я стоял на палубе и смотрел вниз, на дебаркадер, где толпились провожающие. Проститься с нами пришел лишь один-единственный человек – мой дядя Бийл, муж тети Жаклин. И больше никого. Никого из числа ближайших друзей, из тех, кто пользовался нашим гостеприимством, когда отец неплохо зарабатывал, тех, кто приходил в наш дом, чтобы наслаждаться хорошим вином и хорошей компанией…
Последний год в Америке был тяжелым. Папа потерял не только работу, но и надежду на ее получение. Советскому гражданину с коммунистическим мировоззрением, человеку, который не стеснялся открыто выражать свои политические взгляды, не было места в этой Америке, и он быстро это понял. Он мечтал вернуться в Советский Союз со своей семьей. Он говорил об этом неоднократно с советским генеральным консулом в Нью-Йорке, но тот отвечал уклончиво и неопределенно, от чего отец сходил с ума. Позже, когда мы жили в Германии, картина повторилась, только теперь уклончивые ответы давал не генконсул, а посол СССР в Германской Демократической Республике, – и отец вновь не находил себе места. Сегодня я понимаю, что все мы обязаны жизнью этим двум людям. Если бы мы приехали в Советский Союз чуть раньше, не приходится сомневаться в том, что отца расстреляли бы, мы с матерью очутились бы в ГУЛАГе, а брата разместили бы в приюте для детей врагов народа. Генеральный консул в Нью-Йорке и посол в Берлине знали о том, что творится в СССР. Но ни тот, ни другой не могли рассказать об этом моему отцу, да и он вряд ли поверил бы им; поэтому они изо всех сил пытались задержать его отъезд. Я буду благодарен им по гроб жизни и хочу, чтобы все знали их имена: Яков Миронович Ломакин и Георгий Максимович Пушкин.
Лишившись работы, не имея права на въезд в Советский Союз, мой отец решил вернуться во Францию, страну, которую он знал и любил. Это вполне соответствовало желанию матери. Она не нуждалась во французской визе, поскольку являлась гражданкой Франции. Мы с братом были вписаны в ее паспорт. А вот с отцом дело обстояло иначе. Ему требовалось получить визу. Шел 1948 год, Коммунистическая партия Франции была сильна как никогда. Более того, существовала реальная угроза того, что к власти придет коалиция левых сил. Французские власти моего отца знали, и нельзя сказать, что жаждали его возвращения. Они скорее всего отказали бы ему в визе в любом случае, но тут подоспел донос от бывшего его сотрудника, некоего Шифрина, человека, завидовавшего ему и ненавидевшего его (эти два чувства часто идут рука об руку); в доносе отец был назван «опасным коммунистом». Получив такого рода «предупреждение», французские инстанции поступили вполне предсказуемо – визу не дали.
Именно тогда у матери случился тяжелый нервный срыв. Вдруг прямо на улице она потеряла сознание. С того дня и в течение многих лет она боялась выходить из дома одна. Мне трудно представить себе, что она испытывала, когда ей, женщине сильной и независимой, каждый раз приходилось просить мужа, либо меня, либо знакомых сопровождать ее.
У нас оставалась еще одна возможность – уехать в Мексику. Многие американские «левые» бежали туда от МакКарти и его Америки, и у отца было много добрых друзей среди мексиканских кинодеятелей. И вдруг, словно гром среди ясного неба, он получил предложение от советского правительства: работать в организации «Совэкспортфильм» в составе Советской военной администрации в Германии (СВАГ) с конкретной задачей – восстановление немецкой киноиндустрии в советской зоне оккупации. Обрадовавшись, отец тут же согласился.
* * *
После окончания войны довольно многие из эмигрантов (либо детей эмигрантов), покинувших Советский Союз, стали возвращаться. Их называли «реэмигрантами» и относились к ним с подозрением. Не могло быть и речи, чтобы им предложили советскую представительскую работу за рубежом. А отцу моему предложили. Я, тогда ничего не знавший о советских порядках, не обратил на это никакого внимания, как и моя мама. Лишь спустя много лет я сообразил – а потом и получил доказательства того, что отец сотрудничал с советской разведкой. Он не был кадровым офицером, не получал никаких денег, но как многие другие, в том числе весьма известные и высокопоставленные люди, сотрудничал по идеологическим мотивам. Я к этой теме вернусь, но мне хотелось сразу внести ясность в вопросе папиного назначения в Берлинское отделение «Совэкспортфильма».
* * *
Как сложилась бы моя судьба, если бы французы не отказали моему отцу в визе? Если бы не последовало предложения от советских властей и мы уехали бы в Мексику? Или если бы отец отказался от советского гражданства в пользу американского? Это просто личная головоломка, не более того, поскольку то, что случилось – случилось, и никто никогда не узнает о том, что могло бы быть. Но мне почему-то в голову приходит рассказ О’Генри «Дороги, которые мы выбираем»: если судьбе угодно, чтобы тебя убил Маркиз де Бопертью, то так оно и случится, независимо от выбранной тобой дороги.
В 1948 году нас перестали навещать не только знакомые, но и почти все друзья. Зато появились новые визитеры. Это были представители Федерального бюро расследований (ФБР), задававшие нам обычные вопросы. «Обычные», а не «идиотские», потому что у них своя логика, которая может показаться упрощенной и туповатой, но ее не следует недооценивать. Полиция, как и Церковь, существует очень давно, она – один из древнейших общественных институтов, накопивших громадный опыт. От нас шарахались как от прокаженных, в гости не приходили и не звали. Исчезла даже семья Уиндроу, знавшая нас с середины тридцатых годов. Не пожелал исчезнуть лишь дядюшка Бийл.
Я его никогда не любил. Навещая своих двоюродных братьев в Александрии, я держался от него подальше. Меня настораживало и то, что все зовут его только по фамилии – Бийл. Это был молчаливый человек, он редко улыбался и запрещал своим детям (и мне тоже) дотрагиваться до замечательной игрушечной электрической железной дороги, которую установил в подвале. Он был строг, педантичен, холоден. Но когда дошло до дела, когда все наши либеральные, левые, прогрессивные друзья спрятались под корягу, бежали прочь, предпринимали все, лишь бы их не увидели ни с мамой, ни с отцом, этот человек, несомненно консервативных политических взглядов, этот стопроцентный истинный американец не струсил, не пожелал отказаться от родственников своей жены потому, что они не нравятся ФБР. Нет, не таков был Бийл. Он подчеркнуто публично попросил на CBS свободный день и приехал из Вашингтона в Нью-Йорк, чтобы проводить нас.
Я этого не забыл. И имея возможность на протяжении лет видеть, как страх вынуждал людей предавать друг друга, я все больше понимал значение жеста дядюшки Бийла; и я стал испытывать вину за то, что не любил его, что не разгадал подлинную душу этого немногословного, строгого и сдержанного человека. И один из самых счастливых моментов в моей жизни наступил через сорок лет – вскоре после того, как Бийла оперировали по поводу рака, и незадолго до его кончины. Я приехал к нему в больницу и провел с ним два часа. Потом, прощаясь, обнял его и крепко прижал к себе. И я знаю, что он все понял. Понял без слов.
Но это было в 1988 году, а пока шел год 1948, и я, опершись о перила главной палубы «Стефана Батория», смотрел вниз на толпу провожающих и напевал под нос совершенно бессмысленную песенку – из тех, которые почему-то в мгновенье ока становятся безумно популярными, а потом, буквально с той же скоростью, уходят в Лету:
Mares eat oats and does eat oats
And little lambs eat ivey
A kid’ll eat ivey too
Wouldn’t you?..
Почему в поворотный момент я напевал эту чепуху? Почему я это помню по сей день? Не потому ли, что я, сам того не ведая, находился в состоянии глубокого шока? Мне кажется, что подсознательно я понимал: моя жизнь меняется самым драматическим и коренным образом. Да, я хотел уехать, это правда, но тем не менее внутри что-то ныло, какой-то голос говорил: «Прощай, Америка, здравствуй…» – что? И может, это было способом удержать равновесие?
Я мало что помню о путешествии на «Батории». Корабль приплыл в Саутгемптон, затем заходил в Гавр, Бремерхавен и Копенгаген, пока, наконец, не добрался до порта назначения – Гданьска. Пассажиры по своей разношерстности вполне соответствовали маршруту: тут были и англичане, и французы, и датчане. Я почти не видел ни немцев, ни поляков (если не считать команду). Мне очень приглянулись датчанки, но многие из них курили сигары, что противоречило моим юношеским представлениям о женственности. С тех пор я повзрослел настолько, что могу не моргнув глазом наблюдать за тем, как женщина закуривает «Монтекристо».

«Дядя Бийл», который не испугался ни ФБР, ни соседей
* * *
Женщина, курящая сигару, необыкновенно сексуальна, возбуждает воображение. Удивительно, сколько лет должно было пройти, прежде чем я понял это. Привитые нам с детства представления о том, что прилично, а что нет, крайне неохотно сдают свои позиции…
* * *
К значительным событиям этого путешествия относится то, что я впервые в жизни побрился. Я пошел на это вполне сознательно, решив, что моим старым друзьям не придется привыкать к моему новому лицу, а будущим не знакомо старое. Я хорошо помню бледную и несколько удивленную физиономию, которая после бритья и смытия остатков пены уставилась на меня из зеркала. Весь процесс прошел под бдительным оком и руководством моего отца.
Копенгаген запомнился мне игрушечным городом, теплым и приветливым, с покрытыми снежком улицами и позеленевшими от времени медными дверными ручками; в этом оживленном и мирном городке нам было позволено провести несколько часов. Но, несомненно, самые яркие воспоминания из этого путешествия относятся к войне, точнее, к ее последствиям: зияющие окна полуразрушенных стен, горы обломков и кирпичей, целые кварталы-призраки – такими я увидел Гданьск и Варшаву. Это была совершенно другая планета. Планета, которая внушала мне отвращение. Такой мир пугал меня своей мрачностью, жестокостью, ощущением, что все увиденное – это навсегда. И я закрыл на это глаза, «закрыл» восприятие, говоря себе, что это не мое, что я мимо проходящий, меня это не касается. Я не хотел помнить об этом, но кое-что, словно оборванные картинки, застряло в паутине моей памяти, не предано забвению: гостиница «Бристоль» в Варшаве, бархатные красные ковровые дорожки и хрустальные люстры, свидетели других, роскошных времен; еда – вкусная, но вместе с тем грубоватая и тяжелая. И цены. Тарелка супа стоила десять тысяч злотых, карман оттопыривался из-за пачки денег, на которые можно было купить сущую ерунду. И еще помню одну из официанток в ресторане «Бристоля» – золотые кудри, пронзительные темные глаза, влажные красные губы и фигура богини из греческой мифологии. Я не мог оторвать от нее глаз, а отец, заметив это, расхохотался: «Польские красавицы очень опасны. Когда прочитаешь „Тараса Бульбу“ Гоголя, сам убедишься в этом».
В то время мы с отцом сблизились как никогда прежде. Еще больше сплотило нас одно идиотское происшествие, приключившееся со мной в Кракове. Я всегда ненавидел зоопарки и цирки. Мне по сей день не по себе при виде животных, томящихся в неволе или вынужденных выделывать разные фокусы.
И вот, будучи в Кракове, мы всей семьей в сопровождении польского знакомого моего отца пошли гулять в местный парк. Дело было в декабре, температура ниже нуля, но снег еще не выпал. Вдруг я увидел антилопу. Она стояла на небольшом островке выцветшей травы, окруженном, как мне показалось, асфальтовой дорожкой. «Вот это да! – подумал я, – настоящая живая газель, живущая на воле среди людей». Обрадовавшись, я бросился к ней, ступил на «асфальтовую дорожку», пробежал два шага и… провалился по подбородок в ледяную воду. На самом деле «дорожка» представляла собой ров, покрытый льдом – очень тонким, о чем, видимо, газель догадывалась: она даже не двинулась с места, просто смотрела на меня широко открытыми ласковыми глазами.
Папа вытащил меня, насквозь промокшего и дрожащего от холода.
– А ну, – сказал он, – побежали.
И мы побежали. Мама с польским приятелем поймали такси, а мы бежали и бежали, отец держался чуть сзади, не давая мне сбавить шаг, похваливая меня и подгоняя. Мы примчались в гостиницу и, не останавливаясь, взлетели на третий этаж к себе в номер, где я тут же разделся догола, и папа растер меня водкой до такого состояния, что вся кожа горела.
– Все будет хорошо, – сказал папа, – никакой холод не устоит перед разогретой кровью и хорошей водкой.
Он был прав. Все обошлось даже без намека на простуду. Вместе мы победили ее, и это сблизило нас.
Еще одно воспоминание того времени – варшавское гетто, вернее, то, что осталось от него. Я даже не буду пытаться описать его. Это было сделано не раз и не два людьми куда более талантливыми, чем я. Пустынность, кучи битого кирпича, завывание холодного ветра, невыразимая печаль этой картины остались со мной навсегда. Она порой возникает перед глазами, странным образом напоминая полотно Шагала: я слышу плач одинокой скрипки, одну бесконечную тянущуюся печальную ноту, извлекаемую медленно водимым смычком: вверх-вниз, вверх-вниз.
* * *
Я вернулся в Варшаву лет через шестьдесят, да и то на полтора дня, так что мне неизвестно, существует ли в виде памятника варшавское гетто. Хватило ли у поляков гражданской и исторической совести, чтобы увековечить его героизм? Сумели ли они таким жестом хоть как-то воздать должное тем, кого сами веками презирали и преследовали и, по сути дела, при Гомулке выгнали до последнего из страны?