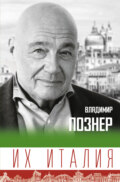Владимир Познер
Прощание с иллюзиями
* * *
Так-то оно так, но требуется некоторое дополнение.
Зимой 2004 года я получил от Эльдара Рязанова приглашение на прием в честь его награждения французским орденом. Рязанов сделал целый ряд телевизионных программ о Франции, представив ее культуру и искусство российскому зрителю, за что правительство этой страны выразило ему благодарность. Все это происходило в резиденции посла, причудливом купеческом особняке, что стоит на улице Якиманке. Собралось довольно много народу, и вот в назначенный час посол Франции господин Клод Бланшмезон, видный мужчина средних лет, выступил вперед и, сказав короткую, но полную достоинства речь, вручил Рязанову орден. Эльдар Александрович, явно растроганный, ответил не менее достойно, раздались аплодисменты, и на этом торжественная часть завершилась. Начался фуршет.
Гости разбрелись по двум-трем залам, а посол вместе со своей переводчицей переходил от группы к группе, обмениваясь, в общем, банальными фразами. Настала и наша очередь, и поскольку я оказался ближе всего к подошедшему послу, он заговорил первым со мной. Не помню, что именно он произнес, но когда его переводчица вступила в разговор, я пояснил на чисто французском языке, что перевод мне не нужен.
– А, так вы француз? – спросил посол.
– Как вам сказать, – ответил я, – я родился в Париже от французской матери, но…
– Никаких «но», – перебил меня господин Бланшмезон, – если вы родились во Франции от француженки, значит вы француз.
– Да, но у меня нет французского паспорта…
– Это не проблема, позвоните мне в понедельник.
Разговор происходил в пятницу. Когда я позвонил в понедельник, секретарь посла сообщил мне, что моего звонка ждет генеральный консул. Я тут же позвонил и был приглашен на среду. Я пришел в указанные день и время, взяв с собой свидетельство о рождении и копию французского удостоверения личности моей мамы. Консул ознакомился с этими документами и, достав мое личное дело, удивившее меня своим объемом, сказал:
– Что ж, месье, все у вас в порядке. Месяца через два или три – уж так работает наша бюрократия – вы получите паспорт и удостоверение личности.
Приблизительно через шесть недель мне принесли письмо от консула, в котором было написано следующее:
«Уважаемый месье Познер,
Прошу Вас явиться (день, число, время) для решения интересующего Вас вопроса.
С совершеннейшим уважением,
(Подпись)».
Явившись, я вновь встретился с консулом, который, протянув мне руку, сказал:
– Месье Познер, имею честь поздравить вас с французским гражданством.
Это случилось 16 февраля 2005 года, и тот день остается одним из самых счастливых в моей жизни.
За полтора года до этого я стал гражданином Соединенных Штатов Америки. Это произошло при куда менее романтических обстоятельствах: приехав на работу в США в 1991 году, я вскоре подал бумаги на получение так называемой «грин кард» (green card) – документа, дающего обладателю абсолютно такие же права, как любому американскому гражданину, кроме права голосовать и быть избранным, но и все обязанности тоже, главная из которых – платить налоги.
Green card дается не сразу и не каждому, но я получил ее очень быстро. Не стану докучать вам описанием тех правил, которые надо соблюдать для сохранения грин кард, замечу лишь, что, имея этот документ и прожив в США не менее пяти лет, вы имеете право подать на гражданство. Что я и сделал. Американский закон гласит: если вы родились в Америке, вы автоматически становитесь гражданином; более того, если вы захотите получить гражданство еще одной страны, вам придется отказаться от американского. Логика простая и очень американская: нет большего блага, чем родиться американцем, и если вы не дорожите этим и хотите получить иное гражданство, что ж, это ваше право, но американского гражданства вас лишат. Однако этот же закон говорит, что если вы не родились американцем, являетесь гражданином другой страны и хотите стать американцем – пожалуйста, ваше иное гражданство не помеха.
Словом, наступил торжественный день, когда меня и мою жену вызвали в центр по получению гражданства, расположенный в нижней части Манхэттена в абсолютно безликом здоровенном здании.
Помимо пятилетнего пребывания, для получения гражданства надо: а) доказать устно и письменно, что вы знаете английский язык и б) ответить на десять вопросов об Америке. При желании вы можете совершенно бесплатно по почте получить вопросы предстоящего «экзамена». В огромном, довольно спартански обставленном и холодном зале ждали вызова человек двадцать «абитуриентов». Почти все были со своими адвокатами, которым в случаи чего предстояло доказать, что их клиент достоин американского гражданства. Обстановка была нервозная и напряженная. Примерно через двадцать минут ко мне подошел высокий худощавый человек лет пятидесяти, на вид образцово-показательный американский чиновник: невыразительные очки, столь же невыразительный коричневый костюм с короткими, чуть не доходящими до туфель штанинами, белой сорочкой и – опять же – совершенно невыразительным галстуком.
– Екатерина Орлова и Владимир Познер? – спросил он.
Получив утвердительный ответ, он продолжил:
– Мистер Познер, вы не возражаете, если дама пойдет первой?
И увел Катю. Мне было совершенно ясно, что нам оказано особое внимание, ибо к другим жаждущим американского гражданства никто не подходит, лишь по громкоговорителю раздается то и дело:
– Мистер Роберто Гонзалес, кабинет восьмой.
– Миссис Светлана Гринберг, кабинет двенадцатый.
Я же был человеком, известным в США не только потому, что проработал почти семь лет на канале CNBS с Филом Донахью, но, возможно, в большей степени из-за своей прошлой пропагандистской деятельности. Словом, я считался VIP.
Минут через сорок вернулась Катя – гражданка США, по словам чиновника в коричневом, блестяще справившаяся с заданием.
– Теперь, – сказал он, чуть нажимая на каждое слово, – посмотрим, как справитесь вы. И повел меня в кабинет.
– Мистер Познер, – начал он, – прежде всего вы должны доказать, что читаете, пишете и говорите по-английски. Это в вашем случае формальность, но будем соблюдать закон. (Вот оно! Понимаете, это чистая формальность, чиновник знает, что я говорю и пишу по-английски лучше, чем он, но есть порядок и его надо соблюсти. Вся Европа смеется над этим – и напрасно. Это вовсе не демонстрация тупости, ограниченности, нет, это демонстрация абсолютного уважения к закону, который одинаков для всех).
– Вот, мистер Познер, – сказал он, протянув мне лист бумаги, – прочитайте первое предложение.
Я прочел. Затем мне был выдан чистый лист с предложением написать что-нибудь. Я спросил, что именно.
– Напишите: «Я хочу быть хорошим гражданином Соединенных Штатов Америки».
Я написал.
– Что же, – произнес чиновник, – теперь ответьте на десять вопросов, которые я вам сейчас задам. И помните, сделаете больше трех ошибок – значит, не сдали. Ясно?
Я ответил правильно на все десять – и не подумайте, что это говорит о моих глубоких знаниях США. Вопросы были простые.
– Поздравляю, – сказал он. – Позвольте я задам вам еще один вопрос вне программы, для удовлетворения моего личного любопытства. Можно?
И он спросил, какой была первая столица США. Я ответил правильно (Нью-Йорк), и дальше произошло самое интересное. Чиновник достал толстенный фолиант, раскрыл его и уточнил:
– Мистер Познер, заполняя опросник, вы написали, что были членом КПСС. Это так? Я кивнул.
– Вы понимаете, что этот факт дает нам основание отказать вам в гражданстве?
– Да, понимаю. А вы хотели бы, чтобы я соврал и написал, что не состоял?
– Мистер Познер, вы также пишете, что вступили в партию с целью изменить ее к лучшему. Это так?
– Да. Это было наивно с моей стороны, но это так.
– Ну, это же меняет дело! Позвольте поздравить вас с удачной сдачей всех тестов. После этого он вывел меня в зал, где сидела Катя, и проводил нас в еще один кабинет. Там поджидал коренастый, усатый человек в темно-синем костюме, который должен был привести нас к присяге.
– Мистер Познер, вам надлежит повторить за мной клятву верности флагу Соединенных Штатов Америки. Вы готовы? Я кивнул.
Поднимите правую руку и посмотрите на флаг. И теперь повторите за мной.
– «Я клянусь в верности…» – начал он, и я повторил.
– «Флагу Соединенных Штатов Америки…» – продолжал он, и я повторил.
– «И Республике, которую она олицетворяет…» – и я повторил.
– «Одна нация под Богом, неделимая, со свободой и справедливостью для всех…»
И тут я запнулся. Усатый господин вопросительно посмотрел на меня.
– Видите ли, сэр, я атеист, и слова «под Богом» для меня неприемлемы.
– Можете эти слова опустить, – ответил он настолько обыденно, что стало ясно: мой случай далеко не редкий.
Я повторил клятву без упоминания всевышнего, господин с усами пожал мне руку, поздравил с вхождением в гражданство и вручил соответствующий документ за подписью президента Билла Клинтона.
Этот день – 4 ноября 2003 года – тоже числится среди самых счастливых в моей жизни. Завершу эту «паспортную» сагу еще одним рассказом.
Года через два я прилетел из Москвы в Нью-Йорк. Прошел паспортный контроль, где пограничный офицер поздравил меня «с возвращением домой», поехал в гостиницу и обнаружил, что паспорта нет. То ли его украли, то ли я его выронил, но факт оставался фактом: паспорт пропал.
На следующее утро, ровно в девять, я позвонил в Паспортный центр города Нью-Йорка. Как ни старался, я не смог добиться живого человеческого голоса, а бесконечная запись не разъясняла, как мне поступить. И я поехал. Центр этот тоже находится в нижней части острова и выглядит столь же безлико, как тот, в котором я получил гражданство. У входа стояли двое вооруженных автоматами охранников. Я подошел и начал:
– Я потерял паспорт и хотел бы…
Один из них перебил меня:
– Прямо, налево по коридору, белое окошко.
В окошке сидела афроамериканка не слишком приветливого вида.
– Я потерял паспорт… – заговорил я, но она тоже перебила:
– Белый телефон на стенке справа.
И в самом деле, на стене висел белый телефон, а рядом с ним, за прозрачной пластмассовой защитой, была прикреплена инструкция. Начиналась она так:
«1. Поднимите трубку.
2. Услышав гудок, нажмите цифру «1».
3. Услышав слово «говорите», четко и ясно изложите свой вопрос…»
И так далее. Таким образом я получил порядковый номер и время, когда должен подняться на десятый этаж в зал номер такой-то. На часах было 9:30 утра, а встречу мне назначили на 11:00. Я вышел, попил кофе, почитал газету и вернулся без пяти одиннадцать.
– Мой номер такой-то, – сказал я охранникам, которые жестом пригласили меня пройти. Я поднялся на десятый этаж, вошел в большой зал, часть которого состояла и застекленных окошек. Не успел я сесть, ровно в одиннадцать раздался голос: «Владимир Познер, окно номер три». Я подошел. Меня поджидал мужчина лет пятидесяти, лицо которого я почему-то запомнил – может, потому что он удивительно походил на Чехова. – Привет, как дела? – спросил он. – Да так себе. – Что случилось? – Да то ли у меня украли, то ли я потерял паспорт. – Ну, это не беда. Вот вам бланк, заполните его. Я заполнил и вернул бланк Чехову.
– Та-а-а-к, – протянул он, – вы натурализованный гражданин США?
Я кивнул.
– Это чуть осложняет дело. У вас есть документ, подтверждающий ваше гражданство?
– Есть, но он в Москве, я его не вожу с собой.
– А напрасно. Надо иметь при себе хотя бы ксерокопию.
– Я могу позвонить в Москву и попросить, чтобы прислали мне в гостиницу копию по факсу – поеду, получу и вернусь к вам.
– Отлично, буду ждать, – сказал Чехов.
Я тут же позвонил, помчался в гостиницу, где факс уже ждал меня. Схватив его, вернулся в Паспортный центр. В половине первого я подошел к окошку номер три и протянул факсимильную копию. Чехов посмотрел на нее, покачал головой и сказал:
– Сэр, мне очень жаль, но я получил разъяснение, что нам нужен оригинал.
– Но оригинал в Москве. Не могу же я лететь туда, не имея паспорта!
– И не надо, сэр, не нервничайте. В Вашингтоне имеется второй оригинал, который нам пришлют. Но эта операция будет стоить вам девяносто долларов. Я готов был заплатить любую сумму, лишь бы получить паспорт.
– Мистер Познер, – сказал Чехов, – вас будут ждать ровно в три часа в зале номер два. Я вышел на улицу, съел хот-дог «со всеми причиндалами» – так говорят, когда на сосиску накладывают все специи и все соусы плюс кетчуп и горчицу. Запил эту гадость бутылкой кока-колы, и без пяти три пришел в зал номер два. Ровно в три раздался голос:
– Мистер Валдимир Познер! – Именно так, Валдимир, а не Владимир.
Я подошел к окошку. Довольно мрачная черная женщина протянула мне паспорт и сказала:
– Проверьте, все ли правильно.
В паспорте значилось «Владимир», а не «Валдимир». Все было правильно.
– Распишитесь в получении.
Я расписался. Время было пять минут четвертого. Меньше чем за один рабочий день я получил новый паспорт. Признаться, я был потрясен.
Я отправился в другой зал, подошел к окошку, за которым сидел Чехов, и сказал: – Сэр, не могу даже подобрать слова, чтобы выразить вам благодарность за такую работу. Я поражен.
Чехов посмотрел на меня и совершенно серьезно, я даже сказал бы строго, ответил:
– Сэр, вы за это платите налоги.
* * *
Несмотря на то, что я осознавал себя французом, несмотря на прохладное отношение к Америке отца, я-то Америку любил. Я обожал Нью-Йорк – и продолжаю его любить. Я люблю его улицы, его запахи, его толчею. Этот город был – и в определенном смысле остается – моим городом. Тогда я не понимал, что люблю его, ведь дети редко думают о таких вещах. Но там я чувствовал себя дома.
Как любой американский мальчик того (да и настоящего) времени, я обожал бейсбол. Мои первые воспоминания об этом «всеамериканском времяпрепровождении», как его там называют, связаны с двумя бейсбольными мячами, которые были подарены моей матери игроками сборных «всех звезд» Американской и Национальной лиги во время ее работы над документальным фильмом об их ежегодной игре – в данном случае 1937 года. На одном мяче стояли автографы «всех звезд» одной лиги, на другом – подписи звезд другой. Каких там фамилий не было! И Хаббел, и Гериг, и ДиМаджио… Пусть российский читатель попробует представить себя обладателем хоккейной клюшки с автографами Боброва, Пучкова, Якушева, Харламова, Фирсова, Петрова, Александрова, братьев Майоровых, Старшинова, Третьяка, Мальцева… Сегодня в Америке эти мячи были бы оценены на вес золота.

Я играю в софтбол в составе созданной мною команды «Московские чайники». Сан-Франциско, 1990 г.
В «Сити энд Кантри» мы играли не в бейсбол, а в софтбол, это в общем одно и то же, только мяч побольше и помягче, что позволяет играть без перчатки-ловушки. Отец одного из моих соучеников, брокер с Уолл-стрит, приятельствовал с владельцем самой знаменитой из всех бейсбольных команд – «Нью-йоркские Янки». Поэтому Бобби, его сын, знал о «Янки» все, был знаком с игроками, даже имел счастье посидеть с ними на скамейке запасных во время игр на легендарном «Янки-стадионе». Господи, да он даже здоровался за руку со знаменитым Филом Риззуто! Бобби изобрел игру – бейсбол на косточках. Каждый бросок косточек, каждая их комбинация обозначала какой-то момент бейсбольного действия. Сила изобретения заключалась в том, что для игры не требовался партнер; ты бросал кости и для одной команды, и для другой. Мы были фанатами этого дела. Каждый имел особую тетрадь, в которой расписывал все команды двух высших бейсбольных лиг, всех игроков, и мы разыгрывали свой чемпионат страны, тщательно ведя учет всем удачам и неудачам. Но, пожалуй, увлекательнее всего было создавать команды из любимых героев. Например, в одной из моих команд играли три мушкетера (д’Артаньян, понятное дело, был лучшим), Гайавата, Маугли, сэр Ланцелот, Гек Финн и Том Сойер. Кроме того, в запасе у меня имелся Джим – тем самым я ввел «черного» игрока в состав высшей лиги раньше, чем «Бруклинские Доджеры», которые первыми в истории бейсбола включили в команду Высшей (и совершенно белой) лиги великого Джеки Робинсона. Эта команда называлась «Герои». У меня был целый набор команд, но только одна из них могла конкурировать с «Героями» – «Могучие Мифы». В нее входили такие игроки, как Геркулес, Пол Баньян и Святой Георгий, но не стану больше докучать вам деталями. Я стал болельщиком «Янки» отчасти из-за Бобби, но главным образом благодаря тому, что дважды встретился с Джо ДиМаджио – первый раз у отца на работе, второй – после игры в раздевалке «Янки-стадиона».
Нынешнему американцу трудно представить себе, какой фигурой для бейсбола тридцатых —сороковых годов был «ДиМадж», как его ласково называли. Это тем более сложно понять русскому читателю, который если и имеет представление об этом человеке, то весьма смутное. Могу твердо заявить: таких игроков сегодня нет. Он был буквально живой легендой. Существовали другие замечательные игроки, но ДиМадж – особый. Он олицетворял все лучшее, что имелось в бейсболе, он был безупречным рыцарем без страха и упрека, моим идеалом, да что там – идолом. Он обладал необыкновенным чувством собственного достоинства, внушал уважение, в нем ощущался настоящий класс и какое-то волшебство – в общем, второго такого спортсмена не было.
По субботам и воскресеньям мы отправлялись в парк Ван Кортланд Хайтс и играли в бейсбол. Я играл довольно прилично и конечно же в центре, как ДиМаджио. Если бы не он, я болел бы за «Бруклин Доджерс». Все-таки «Янки» считались командой богатых, все ее игроки были белые, а это противоречило моим представлением о справедливости. И когда «Доджерс» включили в свой состав Джеки Робинсона, я чуть не изменил своим любимцам. Но не сделал этого, ведь у них играл Джо ДиМаджио.
Даже за пределами Америки я продолжал следить за бейсболом. Когда «Доджерс», переехав в Лос-Анджелес, покинули Бруклин, самый демократичный, колоритный и своеобразный из всех пяти административных районов Нью-Йорка, игра каким-то образом изменилась – она потеряла единственную команду, как бы олицетворявшую маленького человека, явного аутсайдера по жизни. Побеждая, «Доджерс» словно показывали тем самым язык «толстым котам», будто публично издавали громкий и неприличный звук в адрес всех толстосумов. Понятно, команда была собственностью и игрушкой какого-то владельца, он мог купить и продать любого игрока, а то и всех разом, и в этом смысле «Доджерс» ничем не отличались от любой другой профессиональной бейсбольной команды – что тогда, что сейчас. Однако было в них что-то особенное, какое-то популистское волшебство, выделявшее их и делавшее особенно любимыми среди болельщиков. С переводом команды в Лос-Анджелес волшебство исчезло, испарилось под лучами жаркого калифорнийского солнца, появились новые, все в загаре, игроки с не менее загоревшими болельщиками. Они стали командой, игравшей хорошо, подчас блестяще, но командой, которая никогда больше не выведет на поле таких, как «Герцог» Снайдер, «Карлуша» Фурилло или «Малышка» Рийс. И никогда не будет у нее таких болельщиков, какими были «Фанаты Флетбуша» (во Флетбуше, одном из районов Бруклина, находился овеянный легендами стадион «Доджерс» – «Эббетс-филд»), не имевшие равных себе ни по силе глоток, ни в синхронном реве, от которого дрожали стены близлежащих домов, ни в красноречии – когда, например, перекрывая ор стадиона, вставал флетбушский щеголь и элегантно советовал своему питчеру «воткнуть мяч этому мудиле в ухо» (в данном случае имея в виду моего кумира ДиМаджио). Исчезла та команда, и вместе с нею исчезли ее искристые игроки и безумные болельщики.

Сан-Франциско, 23.09.1990 г.
По сей день я слежу за бейсболом, читая спортивную страницу газеты International Herald Tribune. Когда бываю в Штатах, смотрю бейсбол по телевизору. Но это уже другая игра. Нынешние игроки надевают специальные перчатки, прежде чем взять в руки биту; теперь они носят одну бейсболку при игре в нападении, другую – при игре в защите. Играют они не на траве, а, прости господи, на искусственном покрытии, носящем названии «астротурф». Вообще, почти не осталось стадионов с нормальным естественным газоном. Сегодня это считается чуть ли не аномалией.
Конечно, спорт прогрессирует. Нынешние команды Национальной баскетбольной ассоциации играючи расправились бы с командами тех лет. То же относится к футболу. Но не к бейсболу. Мне представляется, что когда-то эта игра требовала большего мастерства и более сильных спортсменов, чем сегодня. Скажете, во мне говорит возраст, ностальгия? Бог с вами! Я точно знаю, что моя команда звезд тех лет во главе, конечно, с Джо ДиМаджио разгромила бы любую нынешнюю в пух и прах.
* * *

На промо-туре моей книги в Денвере, штат Колорадо. 1990 г.
* * *
Когда эта книжка вышла в США, меня отправили в «бук-тур».
Автор за счет издательства посещает разные города страны, выступая по радио и телевидению, давая интервью газетам, встречаясь в книжных магазинах с потенциальными покупателями. Так я оказался в Сан-Франциско. Работа очень напряженная, я отдыхаю в гостиничном номере, раздается телефонный звонок:
– Мистер Познер?
– Да.
И дальше меня приглашают на какой-то званый ужин, от которого я, понятно, отказываюсь за неимением времени. И тут мне говорят:
– Но как же так, мистер Познер, ведь придет Джо ДиМаджио!..
Как? Джо? Сам Джо?! Да пропади все пропадом! Даже если бы ждал меня президент США, я послал бы его подальше.
И вот я вхожу в шикарный зал, где собралось некоторое количество весьма утонченных и высокомерных представителей светской элиты, и вдруг понимаю, что никакого Джо ДиМаджио нет и в помине, что меня, говоря просто, поимели. Я лихорадочно начинаю придумывать способ сбежать и вроде даже придумал, когда открывается дверь в зал и входит… Джо. Он необыкновенно элегантен, он двигается в мою сторону грациозной походкой великого атлета и, приблизившись, протягивает руку:
– Джо ДиМаджио.
А я мычу что-то нечленораздельное, будто мне снова семь лет и я потерял дар речи.
– Я принес кое-что для вас, – говорит Джо. Он вынимает из кармана пиджака бейсбольный мяч и протягивает его мне. Я беру его и читаю надпись: «Владимиру Познеру, человеку, с которым я всегда хотел познакомиться. Джо ДиМаджио».
Дамы и господа, жизнь удалась!


На передаче Donahue Фил обсуждает мою книжку. Это в немалой степени способствовало тому, что она стала бестселлером. 1990 г.
* * *
Где бы человек ни рос, он открывает мир вокруг и внутри себя. Нет ничего более увлекательного. Но это вдвойне верно для Нью-Йорка. Я уж не говорю о том, что именно в этом городе я впервые влюбился. Мне было четырнадцать, ей хорошо за тридцать. Она была американкой ирландского происхождения, а я всегда имел слабость к ирландцам, но не спрашивайте почему – не знаю. У нее была копна волос цвета красной меди, глаза, словно сапфиры, и таинственноволнующая улыбка ирландской феи. Я считал ее самой красивой и желанной женщиной на свете (после разве что Линды Дарнелл, голливудской актрисы, лишенной всякого таланта, но одаренной такими губами и бюстом, перед которыми не смог устоять киномагнат и самолетостроитель Хоуард Хоукс – что уж оставалось мальчику, вступавшему в период половозрелости). Она владела моими эротическими снами так же основательно, как Джо Луис владел титулом чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, нокаутируя всех претендентов из года в год. Но то были тайные сны, о них не знал никто. В реальной жизни я безнадежно любил Мэри, которой хватило деликатности и ума не выставить меня на всеобщее осмеяние. Она была счастлива в браке, но тем не менее приглашала меня в кино, в ресторан, к себе домой на коктейль, обращаясь со мною как со взрослым. Я был горд и находился на седьмом небе, чувствуя себя рыцарем прекрасной дамы… до того дня, когда она пригласила меня на фильм «Моя дражайшая Клементина» – отличный вестерн с Генри Фондой в главной роли и участием… Линды Дарнелл. Вот поистине конфликт интересов! Но за исключением этого единственного случая, моя первая любовь была необыкновенно счастливой, подарила мне бесценный опыт, и до сего дня, вспоминая Мэри, я испытываю сладкое волнение и благодарность.
* * *
И сегодня ничего не изменилось. Вернувшись в Нью-Йорк после тридцативосьмилетнего перерыва по приглашению Фила Донахью, я чуть ли не на второй день отправился навестить Рут Лоперт, мою крестную мать и вдову ближайшего папиного друга. Она была свидетелем моей юношеской влюбленности, так что совершенно не удивилась вопросу о Мэри. Услышав, что все у нее хорошо, я попросил Рут дать мне ее номер телефона – уж очень не терпелось увидеть ее.
– Давай я сама позвоню ей, – сказала Рут. – Зайдешь завтра, и я тебе все дам.
На следующий день Рут огорошила меня:
– Мэри запретила мне давать тебе ее телефон и попросила передать, что не будет встречаться с тобой.
Я не сразу понял, в чем дело, даже решил, что это связано с политикой. Но когда я с усмешкой заговорил об этом, Рут выразительно посмотрела на меня и сказала:
– Не будь идиотом.
И в самом деле я был идиотом. Ведь в последний раз я видел Мэри будучи подростком – я помнил молодую, обаятельную, красивую женщину, и Мэри, перешагнувшая уже семидесятилетний рубеж, хотела остаться в моей памяти только такой.
* * *
В Нью-Йорке же я получил свою первую работу – стал разносчиком газет и заодно впервые вкусил то, что принято называть капиталистической конкуренцией. Читателю следует учесть, что в Америке не принято давать детям карманные деньги за так: их нужно заработать. Мне отец платил пятьдесят центов в неделю за то, что я накрывал и убирал со стола и по субботам чистил ботинки всем членам семьи. Но я хотел большего, и для этого следовало найти работу, поскольку на любую просьбу увеличить размер моего еженедельного пособия отец отвечал:
– Деньги не растут на деревьях, их надо зарабатывать.
Вот я и нанялся к Сэму, владельцу магазинчика за углом. Приходилось вставать в полшестого утра, чтобы успеть прийти к шести. В первое мое рабочее утро Сэм показал мне весь маршрут и те дома и квартиры, у которых я должен оставлять номер той или иной газеты. На следующее утро я уже разносил газеты, но под бдительным оком Сэма, желающего убедиться, что я все правильно запомнил. С третьего дня я все должен был сделать сам: появиться у Сэма ровно в шесть, нагрузить здоровенную почтовую сумку газетами, перекинуть ее через плечо – и вперед! К семи требовалось сдать Сэму пустую сумку. Строго говоря, Сэм не нанимал меня, поскольку не платил мне ни цента.
– Запомни, Билли, – сказал он мне в самый первый день (Билл и Билли – уменьшительные формы от Вильяма, а для американского уха Виль– ям и Владимир достаточно схожи), – чтобы ты у меня не стучался к клиентам в двери и не звонил в звонки, понял? Но по праздникам – дело другое. По праздникам ты звони в звонок и барабань в дверь, пока не откроют. И тут выдавай им улыбку на миллион долларов и говори: «Доброе утро, сэр, или мэм, я ваш разносчик, поздравляю вас с праздником. Вот вам ваши газеты». Они дадут тебе на чай, и эти деньги – твои. Сколько дадут – не мое дело, понял?
Я понял. И в Рождество получил больше ста долларов чаевых – в то время это была большая сумма. Я купил себе английский велосипед с тремя скоростями, специальную корзину к нему и уже потом развозил газеты на велосипеде. Развозить и разносить – это принципиально разные вещи.
Однажды я проспал. Примчавшись в киоск, обнаружил, что Сэма нет, он сам пошел разносить газеты. Я дождался его возвращения и стал извиняться:
– Сэм, прости меня, у нас были гости, я поздно лег, что-то случилось с будильником…
Мне ведь было только десять лет. Сэм похлопал меня по плечу и сказал:
– Да не бери ты в голову, Билли! Нет проблем. Но когда в следующий раз проспишь, лучше совсем не приходи. Понимаешь, тут есть паренек, он очень хочет на твое место. Ему эта работа очень нужна, понял?
И вновь я понял. Сэм не стал ругать меня, выговаривать, читать нотации. Но он преподал мне урок на всю жизнь, урок простой и ясный: либо ты держишься на плаву, либо тонешь. Сэм относился ко мне хорошо, я знаю это совершенно точно, вообще он был добрый человек. Но с той минуты я не сомневался: как бы он ко мне ни относился, если я еще раз опоздаю – прощай моя работа.

Дома в Нью-Йорке. Мне 12 лет

Моя любимая собака Жук
Такие уроки способствуют взрослению человека, и этому же способствовали мои столкновения с расизмом. Одно произошло на Лонг-Айленде, в местечке Миллерплейс. Недалеко от дома, который снимали мои родители летом (в русском понимании это была дача, но в том-то и дело, что дачи не может быть нигде, кроме России, дачный мир – мир совсем другой, далекий от американского), находилась небольшая бензоколонка, принадлежавшая двум братьям. Им было по двадцать с небольшим лет, мне же – лет тринадцать. Я торчал у них целыми днями, болтая о том о сем, запивая болтовню кока-колой. Как-то подъехал негр. Они заправили его машину, помыли ветровое стекло, и он отправился прочь. А они принялись обсуждать этих «ниггеров» (черномазых), которые уж больно стали воображать, и высказывались в том смысле, что с удовольствием пристрелили бы их, представься подходящий случай. Ну, я тут же вступился:
– Вы что это такое говорите?
И выступил с пламенной речью о Декларации Независимости, братстве и равенстве, Аврааме Линкольне и тому подобном, полагая, что потом мы пожмем друг другу руки, а они, стыдливо опустив очи долу, скажут что-нибудь вроде: «Спасибо тебе за то, что прочистил нам мозги, Влади».
Вместо этого они сказали:
– Ты, парень, видно, взасос целуешься с этими черномазыми. Пошел-ка ты на х… отсюда. И не попадайся нам, а то жопу на голову натянем.
Я был потрясен. Ведь мне эти парни очень нравились. Мы же были друзьями. И вдруг оказалось, что какая-то абстрактная чепуха (ведь цвет кожи – это же чепуха!) способна превратить двух симпатичных людей в самых отъявленных сукиных сынов. Я прекрасно понимал, что они не шутят и в самом деле готовы избить тринадцатилетнего пацана до полусмерти. Этот урок я тоже запомнил.

Мы с Жуком дома в Нью-Йорке. 1945 г.
Такой же поворот в отношениях на сто восемьдесят градусов произошел в Америке применительно к русским, хотя это было событие совершенно иного масштаба и с другой подоплекой. Во время войны все обожали Советский Союз, существовали различные организации помощи России, восхищение вызывало то, как русские воюют с Гитлером. Признаки этого встречались на каждом шагу. Я страшно гордился своим русским именем. Более того, я так хотел, чтобы меня принимали за русского, что ради этого однажды пошел на обман. Летом 1942 или 1943 года я находился в детском летнем лагере в Кетскилских горах, когда туда с визитом приехала делегация советских женщин. В течение всего лета я врал ребятам и взрослым, что я – русский и, разумеется, говорю по-русски. И вдруг – на тебе! Прибыли мои «соотечественники», а я по-русски ни бум-бум. Я спрятался под своей койкой, но меня нашли и вытащили. Потом, крепко держа за руки, повели знакомить с ними. Меня, красу и гордость летнего лагеря «Ханкус-Панкус» (даю слово, название истинное) – единственного лагеря во всей Америке, способного похвастаться тем, что среди детей есть один всамделишный русский. Благодаря папе и его русским друзьям я знал несколько слов, типа «да», «нет», «спасибо», «до свидания» и «пожалуйста». Каким образом состоялось наше знакомство при таком словарном запасе – загадка. Думаю, все объясняется тактичностью этих женщин. В этот же день в честь советских гостей устроили концерт, который должен был открываться песней «Полюшко-поле…». В Америке эту песню знали из-за популярности Краснознаменного ансамбля Красной Армии, я же слушал ее десятки, если не сотни раз на патефоне моей тети Лёли. К сожалению, слов песни я не помнил, кроме первых двух, которые, собственно, и составляют ее название. Угадайте с трех раз, кому было поручено солировать по-русски (хор подхватывал на английском языке)? У меня не было проблем во время репетиций: я начинал со слов «Полюшко-поле…» и дальше выдавал различные звукосочетания, которые все принимали за русские. И все мне сходило с рук, пока не появились эти женщины! Я был бессилен изменить что-либо. Уж лучше бы разгневанный Зевс метнул молнией и уничтожил меня. Но Зевсу было угодно послушать мое пение – и я спел нечто совершенно невообразимое, полнейшую абракадабру, выводя дрожащим дискантом «Полюшко, поле…» и мечтая провалиться сквозь землю. И кто спас меня? Спасли те самые советские женщины, которых я так боялся. Он говорили всем, что я замечательно пел, ласково трепали меня по головке и нежно улыбались – а я пишу об этом спустя сорок пять лет и поныне краснею от мучительного стыда.