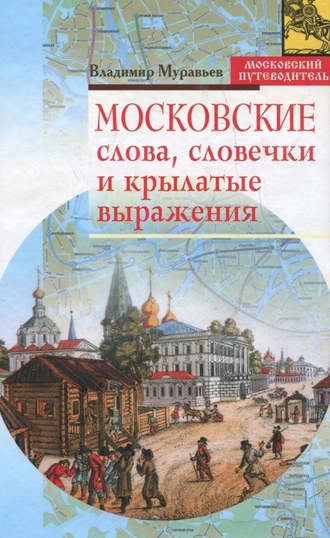
Владимир Муравьев
Московские слова, словечки и крылатые выражения
Предисловие
В Москве всегда и во всех сословиях ценилось выразительное слово, яркий эпитет, точное определение, певучая строка, складное присловье и замысловатый рассказ. Эта любовь москвичей к слову, умелое до виртуозности использование его в речи, богатство лексики народного языка, вбиравшего в себя сокровища всех русских говоров и из них создававшего общерусский литературный язык, – все это нашло воплощение в фольклоре и в русской классической литературе.
С.В. Максимов, автор широко известной и много раз переизданной книги «Крылатые слова», отводит московскому народному слову особое место в русском фольклоре.
С одной стороны, он отмечает общерусские корни всего московского: «Москву собирала вся Русь и сама в ней засела».
А с другой – московскую своеобычность: «За долгие и многие годы Москва успела выработать свои обычаи и наречия, свои песни, пословицы и поговорки и привела их во всенародное обращение вследствие долговременных связей и неизмеримо обширного знакомства с ближними и дальними русскими областями. Недаром говорится, что отсюда (обычно имеется в виду название какого-нибудь весьма отдаленного от столицы места, где бытует поговорка. – В.М.) до Москвы мужик для поговорки пешком ходил».
Меткое и выразительное, обрисовывающее ту или иную жизненную ситуацию, характер того или иного человека, общепонятное, общеупотребительное пословичное слово, если вдруг задуматься не над переносным его значением, а над прямым смыслом, часто представляется загадочным и (говоря словами С.В. Максимова) «либо темною бессмыслицею, либо даже совершенной чепухой».
Но зато какой глубиной и красками наполняется пословица, если становится известно ее происхождение, события, породившие ее. Только узнав это, понимаешь, как много стоит за пословицей или за одним-единственным метким словом, и лишь тогда сможешь по-настоящему понять их и насладиться их совершенством.
Москвичи всегда отличались пытливостью и любили все объяснять и растолковывать. А.Н. Островский в «Записках замоскворецкого жителя» отметил эту страсть москвичей и добродушно посмеялся над ней.
«Страна эта, – начинает свой очерк о Замоскворечье Островский, – по официальным известиям, лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, отчего, вероятно, и называется Замоскворечье. Впрочем, о производстве этого слова ученые еще спорят. Некоторые производят Замоскворечье от скворца; они основывают свое производство на известной привязанности обитателей предместьев к этой птице. Привязанность эта выражается тем, что для скворцов делают особого рода гнезда, называемые скворечниками. Их вот как делают: сколотят из досок ящичек, совсем закрытый, только с дырочкой такой величины, чтобы могла пролезть в нее птица, потом привяжут к шесту и поставят в саду либо в огороде. Которое из этих словопроизводств справедливее, утвердительно сказать не могу. Полагаю так, что скворечник и Москва-река равно могли послужить поводом к наименованию этой страны Замоскворечьем, и принимать что-нибудь одно – значит впасть в односторонность».
В очерках, входящих в эту книгу, автором предпринята попытка объяснить некоторые пословицы, поговорки, названия, то, что Максимов называл «крылатыми словами», которые вызвали к жизни и ввели в русскую речь московская история и московский быт.
Разнообразны и выразительны московские топонимы – названия урочищ-районов, улиц, переулков. Каждое старинное московское название – это не только звучное и красивое слово, они давались со смыслом и рассуждением и обязательно по какому-то характерному признаку, которым отличались улица или переулок от других улиц и переулков. В наименовании улицы существовали свои законы, поэтому, зная их, можно проникнуть в тайну даже таких загадочных московских названий, как Арбат, Зацепа, Балчуг…
О некоторых из них рассказывают очерки «Истинно московские названия».
Речь, слово – первоначало и фольклора – народного творчества, и литературы – произведений писателей-профессионалов. В прежние времена, до того, как в русский язык вошли слова «фольклор» и «литература», и то и другое носило единое название – словесность. Это справедливо, так как граница между ними весьма зыбкая и неопределенная.
В этой пограничной области существует целый пласт словесного творчества, обычно никуда не включаемый, – сочинения прикладного, бытового характера. О некоторых его «жанрах» – выкриках уличных торговцев, заказных стихотворных поздравлениях и других «бытовых» сочинениях старой Москвы – прочтете в этой книге.
Московская речь дала жизнь и московской профессиональной литературе.
Поэт XVIII века А.А. Палицын написал большое стихотворение «Воспоминание о некоторых русских писателях моего времени», главное место в нем посвящено московским поэтам, успехи которых, как полагает автор, обусловило то, что они постоянно слышали московскую народную речь.
Московский никогда не умолкал Парнас,
Повсюду муз его был слышен мирный глас —
Живущим внутрь иль вкруг сея градов царицы,
Языка чистого российского столицы,
И должно в нем служить всем прочим образцом.
Не легче ль в той стране быть сладостным певцом,
Красноречивым быть творцом,
Где все, что окружает,
Природный к слову дар острит и умножает?..
Где слышны верные в языке ударенья
В жилищах поселян, среди уединенья.
В окрестностях Москвы, и в рощах, и в полях,
В народных всех речах,
В их песнях, в шутках их, пословицах, в играх
Блистают правильность и острота в словах…
Московский говорит крестьянин, как и князь:
Произношенье их равно и в речи связь,
Иль часто лучше тех князей и к смыслу ближе,
Которые язык забыли свой в Париже.
Прелестна мне Москва с окрестностьми ея,
Тем боле, что люблю язык свой страстно я…
Все, что так многословно и обстоятельно, но верно и справедливо поведал наблюдательный А.А. Палицын, в 1830-е годы вместило в себя афористически краткое высказывание А.С. Пушкина: «Альфиери изучал итальянский язык на флорентийском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком».
Московская тема в русской поэзии имеет давнюю традицию, первые стихи о Москве были написаны в XVII веке. О Москве писали не только москвичи, но все же лучшие стихи о ней написаны теми поэтами, которые имели возможность пожить в московской речевой стихии, проникнуться ею. Впрочем, знакомство с московской речью вообще обогащало язык писателя. Недаром Н.М. Языков, о котором А.С. Пушкин писал: «Сей поэт удивляет нас огнем и силою языка», призывал:
Поэты наши! для стихов
В Москве ищите русских слов!..
При написании этой книги использованы многочисленные литературные источники: словари русского языка, исторические документы, публикации фольклора, мемуары, произведения художественной литературы, а также собственные наблюдения автора над живой московской речью, которую он имеет счастье слышать со дня своего рождения.
Душа Москвы
Описания внешнего облика Москвы и жизни москвичей иностранными путешественниками и самими москвичами похожи на разгадывание какой-то загадки, в них всегда присутствует нота удивления. В путеводителях XVIII – начала XIX века, в произведениях писателей и поэтов рассказ о Москве обычно сопровождается множеством эмоциональных восклицаний, но при этом чувствуется, что почти всегда сами авторы бывают как бы не удовлетворены написанным. Среди художников-видописцев начала XIX века, много рисовавших Москву, бытовало мнение, что «Москва никому не дается». То же «не дается» испытывали, обращаясь к московской теме, и литераторы.
К.Н. Батюшков в очерке «Прогулка по Москве», написанном менее чем за год до пожара 1812 года, писал: «Странное смешение древнего и новейшего зодчества… Я думаю, что ни один город не имеет ниже малейшего сходства с Москвой. Она являет редкие противоположности в строениях и нравах жителей. Здесь – роскошь и нищета, изобилие и крайняя бедность, набожность и неверие, постоянство дедовских времен и ветреность неимоверная – как враждебные стихии, в вечном несогласии, и составляют сие чудное, безобразное, исполинское целое, которое мы знаем под общим именем Москва».
Несходство чего-либо с чем-либо нагляднее всего проявляется при сравнении. В XIX веке любили сравнивать Москву и Петербург, противопоставляя один город другому. В этих сравнительных описаниях много интересного, тонкого, остроумного, особенно когда они принадлежали перу таких авторов, как А.И. Герцен, Н.В. Гоголь, А.С. Пушкин, В.Г. Белинский… Однако и в них целостного, определенного образа Москвы не складывалось, наблюдения и замечания оставались лишь черточками, деталями образа. Сравнения-противопоставления Москвы и Петербурга стремились обнаружить черты несходства: в Петербурге все улицы прямые и дома высокие, а в Москве – улицы кривые и домишки в землю вросли; в Петербурге суета, в Москве – мертвая тишина и так далее. Но такие противопоставления при первом же непредубежденном взгляде на обе столицы оказывались несостоятельными. Не тем эти города отличны один от другого: и в Петербурге немало кривых переулков и домиков в три окошечка, а в московской жизни так же полно суеты, – одним словом, и там и там всего наглядишься. Остроумнейший человек пушкинского времени москвич П.А. Вяземский, отвечая искателям различий между Петербургом и Москвой, пишет эпиграмму «Сравнение Петербурга с Москвой», в которой, наоборот, подчеркивает сходство старой и новой столиц:
Как на Неве,
Так и в Москве.
И все же, что ни говори, а каждый чувствовал, знал и видел: Москва – это Москва и ничто иное. Но в чем ее своеобразие? М.Н. Загоскин свою московско-петербургскую сравнительную статью «Брат и сестра» снабжает выразительным подзаголовком «Загадка».
В 1834 году, поступая в Юнкерское училище, гениальный юноша М.Ю. Лермонтов на экзамене написал сочинение «на вольную тему» – «Панорама Москвы». Вспоминая знаменитое описание панорамы Москвы в «Бедной Лизе», где Карамзин говорит: «Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей», он вступает с ним в полемику: «Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча: Москва не безмолвная громада камней, холодных, составленных в симметрическом порядке… нет! у нее есть своя душа, своя жизнь».
Это было прозрение. Было найдено слово «душа», обозначившее то, что незримо объединяло весь конгломерат строений, вставших по сторонам прямых и кривых, длинных и коротких, разной ширины улиц, переулков, проездов, дорог в неповторимое явление человеческого бытия и культуры – город Москву.
«Душа – заветное дело», «душа – всему мера», – утверждают пословицы, приводимые В.И. Далем в его собрании «Пословицы русского народа». Так какова же она, мера Москвы? Писатели, публицисты, путешественники много и охотно рассуждали об особенностях московской жизни, о свойствах характера москвичей и об их отличиях от всех других, и в общем ни у кого не вызывает сомнения, что «на всех московских есть особый отпечаток». Только вот в чем он заключается?
Н.В. Гоголь, человек аналитического склада ума и точных обобщений, приводит длинный ряд характерных черт Москвы и Петербурга, черт действительно верных, действительно присущих только той или другой столице.
«Москва женского рода, – пишет Гоголь, – Петербург мужского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы по всей форме была мода: если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее; если отвороты фрака велики, то у ней как сарайные двери. Петербург – аккуратный человек, совершенный немец, на все глядит с расчетом и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва – русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане: она не любит средины. В Москве все журналы, как бы учены ни были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкой мод; петербургские редко прилагают картинки; если уж приложат, то с непривычки взглянувший может перепугаться. Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и прочих, и прочих; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности… В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время. В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большей частью на обед; Петербург в байковом сюртуке, заложив обе руки в карманы, летит во всю прыть на биржу или в “должность”». Но в конце Гоголь резко обрывает характеристику Москвы неопределенным, алогичным, но в своей алогичности необычайно верно передающим невозможность решения поставленной задачи афоризмом героя грибоедовской комедии полковника Скалозуба: «Дистанция огромного размера».
О той же неуловимости «московского отпечатка» пишет в очерке «Петербург и Москва» В.Г. Белинский: «Москвичи так резко отличаются от всех немосквичей, что, например, московский барин, московский мыслитель, московский литератор, московский архивный юноша – все это типы, все это слова технические, решительно непонятные для тех, кто не живет в Москве».
Но из множества перечисленных и описанных писателями и публицистами частных московских черт в конце концов четко вырисовывается одна московская особенность, и она-то, присутствуя во всех бесконечных московских ликах, является главной и объединяет в одно все это, на первый взгляд, казалось бы, несоединимое до взаимоисключения московское разнообразие.
Эта главная черта была осознана и письменно сформулирована во второй половине XVIII века, причем получила, так сказать, официальную, высочайшую апробацию. «Я вовсе не люблю Москвы», – написала императрица Екатерина II в своих «Записках». Москвичей, в том числе и московское дворянство, она характеризует как «сброд разношерстной толпы, которая всегда готова сопротивляться доброму порядку и с незапамятных времен возмущается по малейшему поводу, страстно даже любит рассказы об этих возмущениях и питает ими свой ум».
Мнение императрицы было хорошо известно подданным. Н.М. Карамзин в статье «Записка о московских достопамятностях» писал: «Со времен Екатерины Великой Москва прослыла республикою, – и соглашался с частичной правильностью ее высказываний: – Там, без сомнения, более свободы…»
«Вольность», «независимость» Москвы в конце XVIII века становится своеобразным литературно-политическим символом: название знаменитой книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» заключало в себе, кроме прямого, сюжетного, второй, символический смысл.
Идею свободы, независимости можно обнаружить во многих сторонах жизни и чертах характера москвичей, вплоть до московских чудачеств, которые А.С. Пушкин называет странностями: «Невинные странности москвичей, – говорит он, – были признаком их независимости».
Идея свободы самой историей была заложена и в градостроительный принцип Москвы.
После того как князь Юрий Долгорукий в середине XII века поставил на холме над рекой «град мал, древян» и назвал его по имени реки Москвой, город, естественно, начал расти и расширяться. Московские князья были заинтересованы в привлечении в город людей: ремесленников, крестьян, воинов, и поэтому призывали их отовсюду специальными грамотами и посулами.
Приходящий в Москву люд расселялся отдельными селениями по роду занятий: огородники на удобных для огородничества землях, гончары возле глины, кузнецы, оружейники и другие мастера, чье ремесло связано с огнем, возле воды, по берегам рек – так, чтобы было чем тушить ненароком вспыхнувший пожар – беду старых деревянных городов, воины – дружинники и стрельцы – возле ворот и застав. Поселяясь в городе, они получали от князя льготы, или, как еще говорили, свободы, от некоторых налогов, поэтому и их поселение называлось свобода, или слобода, так как в живом русском языке «в» может заменяться на «л». В каждой слободе было свое управление, конечно, права его были ограничены, поскольку слободы подчинялись общегородскому управлению, но в бытовой, культурной жизни, наконец, в планировочном, градостроительном отношении были самостоятельны. В слободах строились свои церкви, были свои лавки и базары, складывались свой быт и свои обычаи, поэтому все слободы отличались друг от друга.
С ростом города старинные слободы и деревни входили в городскую черту, становились его частью, но сложившиеся в них экономические и бытовые связи выделяли их в естественные административно-экономические районы, причем районы сохраняли свои исконные слободские названия – Гончары, Каменщики, Садовники, Зубово и так далее. До сих пор, несмотря на многочисленные слияния и разделения районов Москвы, сохраняется своеобразие отдельных местностей города: Арбатские переулки отличаются от Замоскворечья, Заяузье от Лефортова, и это стало одной из главных черт своеобразия Москвы.
М.В. Ломоносов, анализируя феномен Москвы, писал: «Москва стоит на многих горах и долинах, по которым возвышенные и униженные стены и здания многие городы представляют, которые в один соединились».
После Ломоносова многие писатели, публицисты, поэты писали о своеобразии московских районов. Вот, например, стихотворение известного поэта пушкинского времени М.А. Дмитриева «Московская жизнь»:
Знаете ль вы, что Москва? – То не город, как прочие грады,
Разве что семь городов, да с десятками сел и посадов.
В них-то что город, то норов, а в тех деревнях свой обычай.
…В нашей Москве благодатной дышит несколько жизней:
Пульс наш у каждого свой, не у всех одинако он бьется,
Всякий по-своему хочет пожить, не указ нам соседи…
Там, на Кузнецком мосту, блеск и шум, и гремят экипажи,
А за тихой Москвою-рекой заперты все ворота.
Там, на боярской Тверской, не пробил еще час привычный
обеда,
А на Пресне, откушав давно, отдохнули порядком,
И кипит самовар, и собираются на вечер гости…
А.Н. Островский в своем очерке «Записки замоскворецкого жителя» называет Замоскворечье даже не «городом», а «страной»: «Страна эта… лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, отчего… и называется Замоскворечье».
Может быть, самым наглядным примером слободского своеобразия, но не замкнутости является известная с XVI века Немецкая слобода (Лефортово), в которой селились иноземцы, но там же искони жили и русские, и, как повествует старый путеводитель, «все религии жили в полном согласии». При том что местность называли «немецкой слободой» и, по расхожему мнению, Петр I там обрел топор, которым прорубал «окно в Европу», с тем же районом связаны значительные факты русской культуры.
Здесь родился один из самых почитаемых русских святых – юродивый Василий Блаженный, родились великие русские поэты А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, здесь сложился талант замечательного русского художника П.А. Федотова…
Принцип разумной свободы и независимости слобод в общей застройке Москвы пронизывал всю структуру города, при всем существовавшем социальном неравенстве. Соседство дворца и лачуги воспринималось как естественное явление, и князь П.А. Вяземский писал о Москве:
Здесь чудо барские палаты
С гербом, где вписан знатный род.
Вблизи на курьих ножках хаты
И с огурцами огород…
Все это так – и тем прекрасней!
Разнообразье – красота:
Быль жизни с своеобразной басней,
Здесь хлам, там свежая мечта.
Здесь личность есть и самобытность,
Кто я, так я, не каждый мы…
То же, что отметил Вяземский в москвиче, выделив из «мы» «я», отмечают и многие другие писатели. В москвиче сильно стремление к личной свободе, самостоятельности, и это качество не зависит от социальной принадлежности, поэтому-то все жители Москвы так держатся своих особенных привычек и воззрений. Московские предания богаты воспоминаниями о чудаках и оригиналах. Москвич стремился к частной собственности, потому что не государственная, не общественная собственность, а только частная давала независимость. В.Г. Белинский в очерке «Петербург и Москва» иронизирует: «У самого бедного москвича, если он женат, любимейшая мечта целой его жизни – когда-нибудь перестать шататься по квартирам и зажить своим домком. И вот, с горем пополам, призвав на помощь родное «авось», он покупает… пустопорожнее место в каком-нибудь захолустье и лет пять, а иногда и десять, строит домишко о трех окнах… И наконец наступает вожделенный день переезда в собственный дом; домишко плох, да зато свой… Таких домишек в Москве неисчислимое множество».
Личная независимость естественно порождает в человеке чувство самоуважения и уважение к нему со стороны других. Белинский отмечал, что эти самые «домишки о трех окнах» «попадаются даже на лучших улицах Москвы, между лучшими домами, так же как хорошие (то есть каменные в два и три этажа. – В.М.) попадаются в самых отдаленных и плохих улицах, между такими домишками».
Москва как город складывалась и развивалась под воздействием и по принципам свободного гражданского общежития, духовности и сопутствующего им житейского здравого смысла.
Планировка кварталов, направление улиц и переулков определились их общественной необходимостью и рельефом местности; при строительстве учитывались интересы соседей – ближних, уличных, всей слободы, и в то же время каждый строился, как ему удобнее и сообразуясь со своими средствами. При таком естественном развитии укреплялась традиция сосуществования и преемственности, удачные, удобные для людей улицы и переулки оставались на века. Город жил, строился и перестраивался, но при этом обязательно учитывались приобретения прошлого. «Москва строилась веками», – утверждает пословица.
Живой, естественно развивающийся организм Москвы хорошо чувствовали архитекторы, которым было поручено восстановление Москвы после пожара 1812 года. Тогда сгорело, было разрушено почти две трети зданий, но Москва как город, как структура не была уничтожена.
В созданную в мае 1813 года «Комиссию для строений Москвы», на которую возлагалась задача восстановления города и нового строительства, вошли архитекторы Д.Г. Григорьев, О.И. Бове, И.Д. Жуков, Ф.Д. Соколов, Ф.М. Шестаков и другие. Многие из них были учениками или соратниками М.Ф. Казакова и его последователями. Комиссия принялась за разработку плана восстановления столицы.
Одновременно Александр I поручил составить план восстановления Москвы главному архитектору Царского Села В.И. Гесте, который Москвы не знал, но тем не менее взялся за выполнение поручения и представил свой проект. Его проект предусматривал почти полную перепланировку города. Москва представлялась Гесте чем-то вроде регулярного французского парка с центральной площадью-клумбой – Кремлем и отходящими от него веером прямыми улицами-лучами, кончавшимися на приведенном к правильному кругу Камер-Коллежском валу площадями. В феврале 1813 года Гесте посетил Москву, но работа над проектом велась по планам, без ознакомления с натурой, поэтому проект был в значительной степени плодом абстрактных построений и фактически ломал исторически сложившуюся структуру города. Проведение новых улиц-лучей, расширение старых, образование площадей требовало многочисленных сносов. Сам Гесте объяснял, что «все строения, которые означены в сломку, состоят в одноэтажных и малой части двухэтажных домов, весьма не важных», так же легко он относился к древним постройкам, рекомендуя, например, «выровнять», то есть снести, стены Китай-города и сделать на его месте бульвар.
Получив в июне 1813 года лихой проект Гесте, московский генерал-губернатор Ф.В. Ростопчин послал в Петербург свои возражения на него. Прежде всего он сообщает, что среди предназначенных к сносу строений «есть много значащих зданий и обширных домов… Уничтожение же вовсе сих строений, исключая знатного убытка, хозяевам нанесет огорчение и произведет ропот, быв совсем несогласно благотворным видам государя императора». Не согласен он и с уничтожением Китайгородской стены: «Стену Китай-города, хотя она и требует поправления, должно оставить, потому что она по долговременности своей заслуживает уважения и дает вид величественности части города, ею окруженной».
Следует особенно подчеркнуть, что сохранение исторической застройки, памятников архитектуры и памятников истории (в большинстве случаев они соединяют в себе и то и другое, как, например Сухарева башня) – является главной московской градостроительной традицией. Ее понимали и понимают настоящие московские архитекторы. Понимало и понимает это московское общество, причем общество в широком смысле, общество всех классов и сословий.
Москва – исторический город, она вошла в ряд мировых исторических столиц благодаря своей исторической застройке, поэтому разрушение этой застройки означает просто уничтожение Москвы. Московское общество, понимая это, во все времена относилось к разрушителям старины с неодобрением.
В 1813 году замечательный и импульсивный поэт Н.М. Языков в стихотворении, посвященном Москве, писал:
Здесь наших бед и нашей славы
Хранится повесть! Эти главы
Святым сиянием горят!
О! проклят будь, кто потревожит
Великолепье старины;
Кто на нее печать наложит
Мимоходящей новизны!
Всем известны проклятья, которые посылали москвичи в 1930-е годы в адрес разрушителей исторической Москвы, возглавляемых руководителем московских большевиков Л.М. Кагановичем. Памятна и расправа властителей-разрушителей с защитниками московских памятников, которых НКВД арестовывало, сажало в тюрьмы, отправляло в лагеря. Один из подвергнутых репрессиям искусствовед Г.К. Вагнер свои воспоминания назвал: «Десять лет Колымы за Сухареву башню», его обвинили в том, что он «ругал Кагановича, Ворошилова и других за снос Сухаревой башни и Красных ворот».
Демьян Бедный, радуясь результатам устрашения, писал:
Как грандиозны перемены
Везде, во всем – и в нас самих.
Снесем часовенку, бывало,
По всей Москве: ду-ду! ду-ду!
Пророчат бабушки беду.
Теперь мы сносим – горя, мало,
Какой собор на череду.
Скольких в Москве – без дальних споров —
Не досчитаешься соборов!
Дошло: дерзнул безбожный бич —
Христа-Спасителя в кирпич!
Земля шатнулася от гула!
Москва и глазом не моргнула.
Опасаясь порицать политику московских властей открыто, москвичи осуждали ее потихоньку, в разговорах.
Деятелей сталинского Генерального плана реконструкции Москвы до сих пор поминают недобрым словом, их черная слава дошла до внуков и правнуков.
Такие же чувства испытывают и современные москвичи к современным посягателям на великолепье московской старины, такая же слава уготована им и в народной памяти.
Однако вернемся к проекту реконструкции Москвы придворным архитектором В.И. Гесте в 1813 году.
«Комиссия для строений Москвы» выступила с решительными возражениями против этого «спущенного сверху» плана, для чего, конечно, требовались и профессиональная честность, и немалое гражданское мужество. К счастью, архитекторы, восстанавливавшие Москву после пожара 1812 года, обладали этими качествами в полной мере. В отзыве на имя царя они писали: «Прожектированный план хотя заслуживает полное одобрение касательно прожектов теоретических, но произвести оные в исполнение почти невозможно, ибо многие годы и великие суммы не могут обещать того события, чтобы Москву выстроить по оному плану, поелику художник, полагая прожекты, не наблюдал местного положения».
Отбившись от проекта Гесте, московские архитекторы разработали собственный план, в котором соблюдалась историческая преемственность в планировке города и ставилась задача сохранить и восстановить пострадавшие исторические памятники. Но в то же время, развивая московские градостроительные традиции, они создали новый архитектурный стиль – московский ампир, постройки которого естественно вошли в городскую среду и стали еще одной своеобразной чертой облика Москвы.
Веками Москва накапливала эти черточки, воплотившиеся в тех или иных зданиях, тщательно отбирала, а отобрав, крепко за них держалась, потому что они-то и создавали ее образ – и смысловой, и эстетический, и архитектурный.
Личность невозможна без самосознания. «Гость недолго гостит, да много видит», утверждает пословица. Таким образом, гостю надлежит смотреть и видеть, а хозяину, чтобы не ударить в грязь лицом следует строить красоту, вызывающую восторг и удивление (это, впрочем, на Руси всегда умели) и беречь ее от разрушения. Самая ранняя известная нам письменная русская оценка Москвы относится к XIV веку, к эпохе Дмитрия Донского и Куликовской битвы. В «Задонщине» – повести-поэме, посвященной этой битве, читаем: «О жаворонок-птица, красных дней утеха, возлети под синии небеса, посмотри к сильному граду Москве», а после победы князь Дмитрий обращается к своему боевому соратнику: «И пойдем, брате князь Владимир Андреевич, во свою Залесскую землю к славному граду Москве». К этому же времени относится и описание Москвы в летописи: «Град Москва велик и чуден, и много людий в нем и всякого узорочия».
Городскими «чудесами» и «узорочьем» раньше называли то, что теперь получило название памятников истории и архитектуры.
Образ города складывался в сочетании направленного на «украшение» строительства и векового народного, общественного отбора «истинно московских» достопримечательностей.
Среди народных лубочных листов XVIII–XIX веков, расходившихся по всей России, проникавших в самые удаленные деревни, есть листы, рассказывающие о Москве. Ведь лубок прежде всего – это рассказ, рассказ в картинках. Так вот эти лубки, названия которых варьировались, но смысл оставался один – «Московские святыни и достопримечательности», – представляют собой расположенные по листу в рамках-картушах или без них изображения этих самых «истинно московских» сооружений. В XX веке по тому же принципу давался образ Москвы в календарях, выпускаемых И.Д. Сытиным, в путеводителях, даже в таком издании, как «Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Под редакцией В.П. Семенова-Тян-Шанского».
Принцип создания лубка-рассказа о Москве на протяжении века не менялся, правда, число изображений бывало разное, но круг изображаемых сюжетов оставался постоянным, скупо пополняясь с годами.
М.Ю. Лермонтов в «Панораме Москвы», окинув общим взглядом открывающуюся с высоты Ивана Великого панораму города и сказав о нем несколько фраз, затем так же останавливает взгляд на отдельных постройках – храме Василия Блаженного, Сухаревой башне, памятнике Минину и Пожарскому и, характеризуя их, дает общий художественный образ Москвы. Свободное разнообразие, естественная индивидуализациия – основы этого образа, а его детали – отдельные памятники. Потому-то, заметим, ни один из них не может быть ничем заменен, и утрата каждого наносит урон и градостроительному, и духовному образу города.






