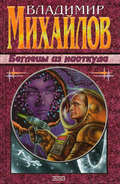Владимир Михайлов
Один на дороге
III
Мгновенный срез во времени. В одну и ту же секунду.
Генерал, командир дислоцированного в городе соединения, он же начальник гарнизона, расхаживает по кабинету. Он поглядывает на часы, пожалуй, чуть чаще, чем полагалось бы человеку, уверенному в том, что все идет как надо. Он не очень молод для своих звания и должности; соединение ему дали, когда он в глубине души на это почти и не надеялся, и искренне жалел – не потому, что быть генералом куда почетней, чем полковником, но потому, что чувствовал в себе силы и, что еще важнее, – умение командовать именно на таком уровне, и командовать хорошо, чтобы везде был настоящий армейский порядок. Он знал службу во многих ее разрезах и, полагавший, что больших неожиданностей для него быть уже не может, он сейчас волнуется несколько больше, чем следовало бы и чем сам он признается себе: в минном деле, в пиротехнике он не специалист…
Первый секретарь горкома, тоже в своем кабинете, стоит у окна. Он только что положил трубку прямого междугородного телефона. Разговор, кажется, прибавил ему забот; секретарь хмурится и, раздумывая, постукивает пальцами по стеклу…
Очень немолодая, но очень прямо держащаяся женщина, одна-одинешенька в небольшом особнячке на окраине, включает телевизор. Пока аппарат греется, она подходит к стене и глядит на висящий на уровне ее глаз портрет молодой женщины, портрет не совсем профессиональный, но написанный явно человеком способным. Женщина на портрете обладает определенным сходством с хозяйкой особняка: дочь? или она сама много лет назад? Есть в этом портрете, если присмотреться, одна странность. Он не очень велик, сорок на шестьдесят, примерно, но при этом один угол его, правый нижний, использован для неожиданной цели: там, где художник ставит обычно свою подпись, на портрете наклеено зеркальце необычной формы: оно напоминает дворянский гербовый щит. А подписи нет. Женщина, нечаянно глянув в зеркальце, машинально поправляет прядь волос, все еще густых, и поворачивается к посветлевшему уже экрану…
В четырехстах километрах к северо-востоку, в другом городе, другая женщина, куда моложе первой (более чем вдвое), в больничной пижаме и халате, не очень уверенно идет по длинному коридору, в который выходят двери палат. Подходит к столику дежурной сестры недалеко от выхода в холл, пронизанный по вертикали шахтой лифтов.
– Он не сказал – когда?..
– Ну, теперь уже скоро, милая, – отвечает сестра с профессиональным доброжелательством. – Если не завтра, то послезавтра. Соскучилась по дому?
Выздоравливающая отвечает неожиданно:
– Наверное… Не знаю…
В том же городе пожилой человек, под штатским пиджачком которого угадывается неистребимая выправка, листает календарь.
– Теперь до ноября военных праздников не будет, – говорит он громко и грустно. – И не зайдет никто…
– У тебя и так все праздники – военные, – откликается женский голос из соседней комнаты.
– Много ты понимаешь… – с досадой говорит отставник.
Он включает стоящий на столике проигрыватель, опускает иглу. И когда звучит «Майскими, короткими ночами», садится на узкий диванчик рядом и глядит куда-то далеко – за окно, за стены соседних высоких домов, за облака, за горизонт, – глядит в былое…
Еще на тысячу километров восточнее сухонькая старушка сидит на лавочке подле зарослей малинника на обширном – теперь таких не дают – участке подмосковной дачи, недалеко от домика, которому лет пятьдесят, и по сравнению с нынешними виллами он выглядит бедно. Старая женщина пишет, пристроив большой блокнот на коленях. Несколько книг по истории на русском, немецком, английском, топорщась закладками, лежат на скамейке рядом…
А тысячи на две километров западнее этой дачи, по аккуратной, чистой улице большого города едет человек в не новом, но ухоженном «трабанте». Он едет внимательно и дисциплинированно, как, впрочем, и остальные водители вокруг; на лице – спокойствие и удовлетворение жизнью, он бессознательно мурлычет под нос, автоматически переключая скорости: «Майн шатц, майн шатц – матроз-ин-зее…» Мало кто теперь помнит эту песенку, когда-то служившую гимном эскадры тральщиков на Остзее – до самого мая сорок пятого года; да и сам ездок вряд ли вспомнит ее по заказу, а тут вот она как-то вынырнула на короткое время из памяти, и он напевает…
А в городе, в котором происходит пока действие, в двухместном номере гостиницы человек с трубкой в зубах порывисто встает со стула, на котором сидел перед пишущей машинкой, и делает несколько шагов по комнате.
– Мало, – говорит он. – Все не то. – Трубка во рту почти не мешает ему говорить: привычка… – Мне надо отыскать хотя бы одного живого человека… Только убей, не знаю как.
Молодая женщина, завершающая перед зеркалом сложную подготовку к выходу на люди (любой живописец пришел бы в отчаяние, если бы ему каждый день приходилось начинать и завершать одну и ту же картину, пусть – шедевр, он не выдержал бы, а вот женщины как-то мирятся), успокаивающе говорит:
– Найдем. Если не ты, то я.
– Н-да? Каким же это образом?
– Каждого, кто будет со мной заговаривать, я стану спрашивать об этом. Собирайся, пойдем обедать.
– Как будто в этом городе можно пообедать, – саркастически говорит человек с трубкой, но все же закрывает машинку чехлом.
– Попробуем просто спуститься в ресторан.
– И там все опять будут принимать тебя за мою дочь?
– Это неважно, – говорит она. – Все равно я тебя люблю…
Вот так живут в один момент времени разные люди. Связь между ними пока не ясна. Ее просто нет, этой связи. Но это – неподвижный срез. Время идет, и связь возникает.
IV
Итак, Лидумс улыбнулся, а я – нет. Хотя посмеяться над своей былой глупостью иногда бывает даже приятно: так подчеркивается пройденное с тех пор расстояние и хотя бы косвенно напоминается о своих нынешних достоинствах. Но даже думать о собственных добродетелях, настоящих или воображаемых, мне не хотелось; вообще я не желал думать о себе: самоанализ, по-моему – занятие для пенсионеров. А главное, мне как-то ни о чем сейчас не думалось.
Мы выбрались на поверхность без особой лихости: возраст берет свое, хочешь ты с ним считаться или нет. Кое-как отряхнули комбинезоны, пожмурились от света; после подвального мрака день казался ярким, хотя на дворе стояли сумерки и нудно моросило. Привезшая нас машина, почему-то крытый УАЗ медслужбы, ожидала поодаль, за уже выставленным оцеплением. По соседству с развалинами, на выровненной площадке, стояло несколько бульдозеров с как-то растерянно задранными ножами, поодаль понуро склонили шею два экскаватора, еще поодаль виднелась пара вагончиков на колесах, лежала куча теса – наверное, для времянок. Строительство, видимо, затевалось нешуточное, и я почти понял, что имел в виду полковник, предупреждая, что времени у нас будет не так-то уж много. Однако согласиться с этим я не мог. И почувствовал, как поднимается во мне раздражение. Даже порадовался ему: сильных эмоций я не переживал уже давненько. Для раздражения были причины. К своей работе я всегда относился очень серьезно. Это не бирюльки. Мы рискуем жизнью – своей и (порой) подчиненных, подчиненных и – порой – своей. И экономить время на нашем деле способны разве что слабоумные.
Так я и сказал Лидумсу, как только мы уселись в кузове, майор утвердился рядом с шофером, и мы тронулись. Полковник улыбнулся мне самой обаятельной из своих улыбок.
– Дай я введу тебя в курс, – предложил он. – Ты еще не все понял. Стройка не городская, не областная – она на контроле в Москве. Государственного значения. Так что, как ты сам разумеешь, Москва будет жать на область, область – на город, а на кого останется жать городу, если не на нас?
– Не очень-то. Мы не город и не область, мы – армия.
– Светлый ум! – удивился Лидумс. – Это ты точно уловил, масенька: городу мы не подчинены. И даже области. Но нарисуй себе такую картинку. На строителях и так висит множество грехов, они просто не успевают оправдываться. Да что говорить, газеты ты хоть изредка, надо полагать, читаешь, не одни же диссертации коллег… А тут возникает ситуация, когда они хотят, даже больше – когда они готовы работать, а им не дают. Кто? Мы. В нашем деле они не разбираются, да и не желают. Они напишут слезницу в горком. Горком обратится в обком, если понадобится, то есть, если сам не сможет придать нам требуемое ускорение. Армия, конечно, сила, но ведь и они собираются строить не пивной бар… Поэтому их примут, выслушают и постараются помочь на любом уровне, особенно когда поймут, что помощь не касается рабочей силы, фондовых материалов и отношений с поставщиками, а просят они всего лишь возможности начать работу. Значит, на помощь к ним с удовольствием придет всякий, к кому они обратятся. Конечно, никто не станет навязывать нам готовых выводов; но секретарь горкома обратится в обком, первый секретарь обкома – к командующему округом, а они оба – члены ЦК и, следовательно, наш командующий – не только военачальник, но и политический деятель, – и отмахнуться от этого вопроса, сказав: «Моим офицерам виднее», не сможет. Он вызовет нас и даст срок, скорее маленький, чем большой, а мы люди военные, и спорить с командующим нам не положено, да и смысла не имеет… И мы, составившие развернутые, на много дней рассчитанные диспозиции по принципу «Эрсте колонне марширт…», сами того, может быть, не ощущая, начнем невольно ломать свои же графики, где-то чего-то не додумывать, чего-то не учитывать, в результате нам покажется, что решение есть, поскольку мы что-то поняли, хотя на самом деле решения у нас еще не будет, потому что свои догадки не успеем всесторонне испытать и на сжатие, и на излом, и на разрыв – и начнем действовать, а это может оказаться смерти подобно не в переносном, но в самом буквальном смысле слова. Так что лучше не идти на обострение и с самого начала просить времени столько, чтобы не восстановить против себя всех. Армия-то мы армия, но, как говорится, армия и народ едины. Согласен? Такая уж селяви, любезный мой подполковник.
– Не пойму: что же ты предлагаешь конкретно?
– Да обойтись самым простым способом: уничтожить все на месте.
– Подорвать?
– Слушай, а почему бы и нет? – сказал он, воодушевляясь. – Минимум затрат – и времени, и работы. Заложить у ворот заряд и рвануть. Выигрыш в любом случае. Сам подумай: если там действительно заминировано, то подземелье, конечно, обрушится – тем лучше для строителей: не придется рыть котлован, и грунт мы им так уплотним – лучше не надо. Поблизости нет вроде бы ничего такого, что могло бы пострадать. А? Что молчишь? Думаешь?
Ничего я не думал. Мне было просто досадно. Узкие специалисты – а к таким принадлежу я – обычно хорошо знают своих товарищей по профессии, достигших такого же или еще более высокого уровня мастерства; знают, если даже никогда не служили вместе. Существуют задачи, для решения которых достаточно выделить взвод пиротехников под командой лейтенанта, и задачи, которые можно доверить единицам из специалистов Вооруженных сил. То, что к этому делу привлекли Лидумса, было естественно: он служил в этом округе, тут было его хозяйство. Но какого черта понадобилось вызывать меня, оторвав от работы в лаборатории, от (как предполагалось) свежих листов диссертации, если речь идет всего лишь об уничтожении на месте? Задача не сложнее кроссворда из «Огонька»…
– Не знаю, – сказал я наконец. – Мне не нравится.
– Ну, конечно. Слишком просто, да? Ниже нашего ученого достоинства? Так, что ли?
– Нет. Просто не люблю принимать решения без достаточных данных. Не люблю спешить. А ты торопишься. Словно на тебе уже сидят и строители, и власти, и все на свете.
– Слушай! – сказал он. – Так ведь строить-то надо! Это я и без них понимаю. Тебе, конечно, легче, – ты человек пришлый…
– Из Америки, что ли? – сердито спросил я.
– Ладно, извини. Что же, тогда давай доложим оба, как каждый из нас понимает это дело. Генерал, насколько я понимаю, нас ждет. А потом сходим под заправимся. Какова она ни на есть, жизнь, а принимать пищу время от времени нужно. Хозяева, может быть, и оставили на нас в столовке расход, но, честно говоря, хочется чего-нибудь такого – не табельного. Так что приглашаю в ресторан.
– Согласен, – сказал я решительно. – Сменим обстановку, а то мы сегодня все время в стенах, то в одних, то в других.
– Ну, стен нам и сейчас не миновать, – усмехнулся он и усы его выразительно встопорщились.
– Ну, там хоть будет попросторней.
– И людно.
– И накурено. И шумно. И пестро.
– И много женщин, – сказал он.
– И все с мужчинами, – сказал я.
– Ну, – он развернул плечи, – что мы, не отобьем, что ли? Такие молодцы!
– Гвардия! – сказал я.
– Но отбивать мы не станем, – предупредил он.
– Они нам ни к чему, – согласился я.
– Просто посидим и поговорим.
– Ты все еще не танцуешь?.. Дьявол! – Нас сильно тряхнуло, мы ухватились за скамейки, чтобы не оказаться на полу. – Нет, он нас живыми не довезет… Так что же насчет танцев?
– Только под градусом, – сказал я. – А градусы у меня все в прошлом. А ты?
– Танцую. Но редко. Если женщина очень нравится и хочет того. Ну, раз нам все ясно, мешкать не станем… – Машина замедлила ход, завернула, остановилась. – Шагом марш – на доклад.
– С песней, – сказал я.
– Это еще не тот доклад, – предупредил Лидумс, – это предварительный. Так что не вибрируй от страха. Вот когда в курсе твоих мыслей окажется все начальство, и окружное, и здешнее гражданское – тогда воистину начнется «смешались в кучу кони, люди». Ну, вперед.
– Вперед, – согласился я, понемногу при помощи таких вот необязательных слов выжимая из себя усталость. – Только вперед, до самого конца.
V
В штабе было тепло, и очень кстати: после промозглости подземелья по телу нет-нет да и пробегал озноб. Мы прибыли к начальнику гарнизона, как были – в комбинезонах, майор позволил нам только обмахнуть сапоги. О нас доложили, и Лидумс вошел первым; меня пригласили только минут через пять, на что я нимало не обиделся: генерал хотел сперва услышать того, кто был в более близких служебных отношениях с ним. Я бы и сам так сделал на его месте.
Войдя, я увидел на лице начальника гарнизона выражение сдержанного недовольства. Может быть, он полагал, что именно так следует встречать младших в звании, потому что – кто перед богом не грешен, царем не виноват? – но не исключено, что он заподозрил нас, а в первую очередь меня, в желании перестраховаться. Наверное, в какой-то степени оно так и было. Но рисковать можно, играя десять втемную: ну, проиграешь пятеркой больше, не смертельно… Однако после того, как я представился, генерал заговорил дружелюбно:
– Полковник Лидумс считает, что объект целесообразнее всего уничтожить на месте. Вы тоже так полагаете?
– С оговорками, товарищ генерал, – сказал я. Он слегка нахмурился:
– Я вас слушаю.
– Мы пока еще не знаем, что находится в подземелье. Догадок может быть много, разгадка – лишь одна. И она может оказаться настолько не в нашу пользу, что уничтожать объект на месте получится чересчур опасно. Нам нужно хотя бы приблизительно знать, что и как там заложено – если что-то заложено вообще.
– Да, – сказал генерал, – полковник доложил мне. Но вы согласны с тем, что уничтожение на месте – самый быстрый способ ликвидировать ситуацию?
– Несомненно, – согласился я.
– И что, принципиальных, подчеркиваю: принципиальных возражений тут быть не может? Я чуть замешкался с ответом, и генерал добавил:
– При такой постановке вопроса вряд ли кто-нибудь получит повод для претензий. И мы решим все быстро и кардинально.
В конце концов, может быть, они и правы? Для меня время, которое потребуется для выяснения всех обстоятельств, – это лишь какое-то количество размышлений, запросов и ожиданий. Но для большинства – это деньги, планы, простои, неприятные разговоры…
– В таком случае, – продолжал генерал, – я сразу же дам команду, чтобы вам предоставили все, что потребуется для подготовки и осуществления взрыва.
– И все же, товарищ генерал, – я решил не отступать, – остается необходимость проверки, уточнения…
– Понимаю. Но полагаю, что эти действия можно вести параллельно.
Он был прав, конечно; и кроме того (он ничего не сказал об этом, но понять можно было и так) – на городское руководство произведет хорошее впечатление, что какие-то работы начнутся уже немедленно. Это и будет соответствовать представлению людей гражданских, что в войсках все делается немедленно. Словно бы в армии не надо думать, СЛОВНО бы любая ситуация у нас уже заранее предусмотрена, если не уставом, то во всяком случае изложена в одном из наставлений по соответствующей службе…
– Товарищ генерал, – сказал я отчетливо. – Все необходимое будет сделано в самый краткий возможный срок.
– Надеюсь, – сказал он. – Хорошо. Идите. И помните: более важной задачи у вас никогда не было.
Это еще как сказать, – подумал я. Хотя – кто знает? И мы, четко повернувшись, вышли из кабинета.
VI
Мы уселись в неуютном ресторанном зале. Было полно, но не шумно – высокие потолки скрадывали звук. С первого взгляда можно было подумать, что ресторан оккупирован интуристами, но это были соотечественники, одетые в большинстве куда заграничное иностранцев, во всяком случае женщины. Пока Лидумс заказывал, я осматривался, вживаясь в обстановку.
Интересного ничего не было, только одна пара привлекла внимание: молодая, очень красивая женщина с надменным, немного капризным выражением лица (лет двадцати пяти, прикинул я) и с нею мужчина раза в два старше, не очень видный, одетый неброско, но что-то от богемы чувствовалось в нем; какой-нибудь преуспевающий деятель культуры с клюнувшей на деньги девицей, наверное. Они негромко переговаривались, я не слышал о чем, но руки помогали понять, они лежали на столике, ее и его, одна в другой. В их сторону посматривали, но они не обращали внимания – видимо, привыкли. Она что-то сказала, он улыбнулся ей, и я вдруг понял, почему они вместе, и понял, что деньги тут ни при чем – по этой улыбке и по тому, как женщина распахнулась навстречу ей; мне стало вдруг обидно – обидно за себя, за все, что могло быть, и чего не случилось. Наверное, обида эта нашла выход в моем взгляде; человек ощутил его, поднял глаза на меня, и я увидел в них спокойную печаль, что дается пониманием жизни. Мы были примерно одних лет, и я пожалел, что не научился смотреть так на все окружающее.
– Ну, – сказал Лид мне, слегка выкатил глаза и шевельнул рыжеватыми усами; они у него словно жили самостоятельной жизнью, шевелились, топорщились, вставали дыбом и выражали не меньше, а порой и больше слов. – Что-то ты мне не очень нравишься. – Он никогда не стеснялся в таких случаях; не молчал, правда, и тогда, когда было за что похвалить. – Так сколько лет мы не виделись?
– А черт его знает, – сказал я. – Не помню. Вместе не служим с шестьдесят третьего.
После шестьдесят третьего мы с ним, конечно, встречались, но мельком, все собирались посидеть и поболтать, но то у него не получалось со временем, то у меня. Наверное, так можно всю жизнь прособираться на встречу с человеком – и не собраться.
– Ладно, – сказал он. – Вот мы, наконец, и поболтаем. Рассказывай, что у тебя нового. И не таращи глаза на чужих дам.
– Я просто так гляжу.
– Осматриваешь подземелье?
– Почему подземелье?
– Ах, черт, – сказал он. – Да… Привязалось. Интересно, что все-таки там было? Прелестно, если бы там оказался, скажем, угольный бункер. Или котельная. Или слесарная мастерская. Или, например, подпольная типография.
– Подпольных типографий, думается, здесь не было, – усомнился я.
– А котельные не заглубляют на двадцать метров. И ворота в них не делают из легированного сплава.
– И не императорская усыпальница, – предположил я.
Лидумс кивнул:
– Склепы были в другом месте. А если, допустим, какая-нибудь секретная тюрьма службы безопасности?
– Это если бы служба безопасности находилась в доме сверху. А где она располагалась у них действительно? Ты знаешь?
– Знаю, – сказал он. – Тут, в центре. Не годится. Ну, а почему не предположить чего-нибудь попроще? Скажем, склад взрывчатки?
– Тогда уж скорее винный погреб.
– Вряд ли, – вздохнул он не без сожаления. – А почему не склад?
– Возьми хотя бы подъездные пути. По-твоему, туннель приспособлен для транспортировки бомб и снарядов? На руках их там, что ли, носили? Куда подгоняли машины? Да и какой идиот станет располагать склад боеприпасов под жилым домом, в населенном районе? Брось. Да вообще: мы сюда отдыхать пришли, или?..
– Ты прав, – согласился он. – Отдохнуть, поговорить за жизнь. Ну, рассказывай, что у тебя нового. Я усмехнулся.
– Считают, – начал я, – что квазары – все-таки естественные образования. Так что вряд ли стоит интерпретировать их, как систему сигналов, содержащих информацию о чужом разуме.
Когда-то мы любили говорить с ним на такие темы; оба мы считали себя несостоявшимися физиками, хотя ни он, ни я никогда и не пытались стать физиками; армия крепко держала нас с самой молодости, и чем дальше, тем труднее становилось представлять свою жизнь вне ее: армия – не профессия, это образ жизни, охватывающий все стороны твоего физического и психического бытия – если ты, конечно, не случайный человек в ней. Но тем не менее физику и астрономию мы с ним любили, и говорили на такие темы много, с горячностью и бескомпромиссностью дилетантов. И сейчас я сделал попытку с самого начала повернуть разговор в эту сторону: там, где мыслишь астрономическими категориями, для личных тем не остается места, настолько ничтожными кажутся они но сравнению с ленивым величием мироздания. Но со времени последнего такого разговора мы стали куда старше, и Лидумс на мою уловку не поддался.
– Об этом поговорим в другой раз, – сказал он, – и не прекословь. У нас еще будет время порассуждать обо всем, чего мы не знаем, а сейчас черед того, что мы знаем. – Он ухмыльнулся, как всегда, когда ему казалось, что он сострил; острить он любил, но юмор его, хотя и обладавший пробивной силой подкалиберного снаряда, «отличался» легкостью и гибкостью тяжелого танка. Только указывать ему на это не следовало: можно было спорить с ним по делу, но все, что касалось его юмора, было неприкосновенным. – Излагай, как твои дела. Где Светлана, где парень, чем ты занят в своем хозяйстве, и прочее.
– Я уже пять лет один, – ответил я. – Вот тебе и весь сказ. Все здоровы, все благополучны. Каждому хорошо так, как есть на деле.
– А если и не хорошо, то никто этого не показывает, – кивнул он. – Вы оба всегда были упрямы. Почему все случилось?
– А черт его знает, – искренне сказал я. – Случилось вроде бы без повода, вроде бы неожиданно. Я потом пытался понять, когда же это началось. И нашел. Началось тогда, когда она впервые представила себе такую возможность. И высказала это вслух. А потом…
– И не было никаких причин? Я пожал плечами.
– Наверное, были… Я был сильно влюблен однажды. Может быть, даже не влюблен, а – больше.
– Долго?
– Да. Но там ничего не было. Знаешь, как у нас на это смотрят…
– Знаю.
– Ничего не было. Во всяком случае, с той стороны никому ничто не грозило. И не это было причиной.
– Что же?
– Не знаю – если говорить о нас. А если вообще – думаю, что догадался. Развитие наших психологии, мужской и женской, шло с разной скоростью. Мы еще не разучились командовать, а они уже разучились подчиняться. И найти равнодействующую поведений трудно. Поэтому и детей рождается меньше, чем надо бы. Лет через двадцать – кого мы будем призывать в армию? Но кому интересно рожать, если мысль о почти неизбежном расхождении взглядов на жизнь присутствует, явно или скрыто, уже в самом начале союза? Правда, тогда кажется, что это скоро пройдет, притрется – желание официально и без помех лежать в одной постели оказывается сильнее всего. То, что называют любовью и что в девяти случаях из десяти ею не является. А если говорить конкретно о наших женах – им приходится куда труднее, чем всем прочим. Да что я тебе объясняю…
– Так что сейчас ты один.
– Да.
– И как?
– Спокойно, – сказал я.
– На ковре стоял?
– Не без того. С батальоном расстался. Но как специалист уважения не потерял. Вот сижу, изобретаю. Как принято говорить – творческая работа.
– И не тянет в строй?
– Иногда… Тянет, наверное, не в строй, а в молодость. А она прошла в строю. Теперь их уже никак не разделить.
– А это твое одиночество – не подводит?
– Теперь – нет.
– Не запивал?
– Когда понял, что такая угроза есть – бросил напрочь, завязал, как говорят. Забыл вот предупредить тебя, чтобы на меня не заказывал.
– Ладно, дело добровольное… И больше закабаляться не думаешь?
Я хотел ему сказать, что чуть не закабалился однажды – но в последний момент испугался, и всю жизнь, наверное, буду жалеть об этом; было это в Риге, но служили мы тогда уже в разных местах и виделись редко. Однако к чему ему были такие детали? И я ответил кратко:
– Нет. Не думаю.
– Ну, ладно, – сказал он, отчего-то вздохнув. Помолчали, пока официант размещал на столе принесенное. Потом официант стал наливать из графинчика, я прикрыл свою рюмку ладонью и налил в бокал минеральной. – Давай, – сказал Лидумс, – за встречу.
Мы чокнулись, выпили каждый свое. Он вкусно поморщился, я почувствовал, что хочу есть. Некоторое время было не до разговоров.
– Ты поэтому такой? – спросил он, когда мы утолили первый голод.
– Какой? И – почему?
– Не такой, – сказал он с таким выражением, словно слова эти содержали откровение. Я пожал плечами.
– Время прошло…
– Мне ведь с тобой работать, – проговорил он, пристально глядя на меня. – Работа, как ты понимаешь, может оказаться нешуточной. Так что я хочу быть уверен. Хочу понять: что с тобой? Переживания после Светланы? Или она чем-то донимает? Неудачная любовь? Неприятности по службе? Здоровье? Короче – отчего ты такой… снулый?
– Ни в одном глазу, – снова попытался я уйти от сути разговора.
– Не финти, мася, – употребил он одно из его любимых, им самим изобретавшихся словечек, которые, каждое в отдельности, ничего не выражали, но без которых близким друзьям невозможно было его представить. – Может, ты просто устал без женщины – если ее и на самом деле у тебя нет? Давно не трогался тельцами? – Это снова был его лексикон. – Я заметил, как ты глядел на ту кинозвезду…
– Она артистка?
– Не знаю, кто она. Впервые вижу. Но – могла бы. – Он хищно шевельнул усами. – Отвечай, шнябли-бубс.
Он употреблял свои словечки чаще, чем (как мне помнилось) раньше – и не потому, что пара рюмок, выпитых сейчас, подействовала на него: в этом отношении он был железным. Он просто хотел, чтобы я снова почувствовал себя в тех временах, когда мы были вместе, молодые и беззаботные (хотя тогда нам казалось, что забот у нас сверх мэры, и может быть, так оно и было, но плохое обычно забывается быстрее); чтобы я снова стал легким на подъем, готовым на любое дело, пусть наполовину авантюрное, где успех гарантировали лишь отчаянная решимость, азарт и натиск – таким, каким я и был когда-то. Да, дело предстояло веселое, и он хотел иметь надежного напарника.
– Хвораешь ты, что ли? – начал он снова. – Какой-то ты все же кислый. Может, обиделся, что я тебя встретил без цветов? Так видишь ли, я до последнего момента и не знал, что тебя прикомандировали.
Я лениво поразмыслил: обидеться или не стоит? Но в конце концов, мы действительно не встречались кучу лет, и за это время случилось множество такого, о чем Лидумс не знал. Так что я лишь пожал плечами:
– Я в норме.
– Странная какая-то у тебя норма стала, – буркнул он. – Или зубы болят? Расскажи о своей тоске, и мы тебя сразу вылечим. Найдем средство…
– Спасибо, доктор Лидумс, – поблагодарил я, давая понять, что прошлое не забыто. Мы когда-то звали его доктором за любовь к медицинским советам и консультациям, которые он предоставлял охотно и в неограниченном количестве. – Но пульс у меня нормальный.
– Ну, ладно, – вымолвил он медленно, с расстановкой и, пожалуй, даже угрожающе; но это была просто такая манера. – Тогда, может быть, поболтаем немного о деле? Спокойно, неофициально, без протокола, в порядке бреда… Хотя бы насчет моей гипотезы относительно склада. Кто сказал, что мы видели единственный и главный вход? Может быть, это как раз запасной выход?
– А главный где же?
– А понятия не имею. Он может оказаться в любых, пока еще не раскопанных развалинах в радиусе хотя бы сотни метров. А то и не склад, а завод взрывчатки. В развалинах могли быть и подъездные пути, и подъемники, и все, что нужно. Есть логика?
– Н-ну… не исключено.
– Знаешь – мне, откровенно говоря, хотелось бы, чтобы там оказался именно склад. Потому что тогда вопрос об уничтожении уладился бы сам собой.
Я только взглянул на него, потом отвернулся и снова стал глазеть на ту женщину с ее спутником.
– Ладно, – сказал он. – Но что-нибудь другое ты предложить в состоянии?
Я пожал плечами.
– Нет, – сказал он. – Так ты не отделаешься. Возражать легче всего. Но я пока ничего другого не вижу. А если ты видишь, то давай, не тяни резину.
– Подумать надо…
– Мысли в темпе.
Он был прав. Сейчас мне нужно было упорно вводить свои мысли в нужный ритм, задать им истинное направление, искать варианты, из которых потом часть отпадет, как маловероятная, останутся наиболее достоверные, и можно станет разрабатывать схемы. Я – сова, человек ночной, и мне думается лучше всего именно по вечерам.
Но сейчас не хотелось возвращаться – хотя бы мысленно – в подземелье, думать о возможных схемах минирования и вообще о чем-то, связанном с задачей. Я попытался все же мысленно распахнуть стальные ворота, переступить порог, оглядеться, увидеть… Что увидеть? Коридор с выходящими в него дверями? Обширный зал? Или всего лишь промежуточную площадку с уходящей вниз лестницей, исчезающей, может быть, в черной, неподвижной роде? И – аккуратные, стандартные ящики у стен, наполненные взрывчаткой, с подползающими к ним яркими пластмассовыми шнурами или проводами в надежной изоляции? А возможно, не ящики, а серые цементные заплаты ка бетонной стене – и провода или шнуры уходят в этот цемент, а все остальное – там, внутри?.. Я попробовал мысленно увидеть все, названное только что – и не смог. Картины не возникало; и не потому, что я не знал, что же в действительности находится за воротами: на то и фантазия, чтобы представлять то, чего не знаешь, на то – интуиция и догадка. Но интуиция молчала, фантазия не работала, опыт исчез, словно его и не было.
– Пока у меня конкретных мыслей нет, – сказал я. – Но нельзя предпринимать что-то, не обладая никакой информацией. Что пока есть у нас? Мы предполагаем, что место это минировано. Знаем, что можно подойти к воротам. И все. Что за заглушка в воротах? Фальшвинт? Это если бы они отворялись наружу. Что за болты в потолке? Ничего мы не знаем. А если там хранятся тысячи тони? И уничтожение даст взрыв такой мощности, на какую мы и не рассчитываем? Нет, без информации ка такое дело никто не пойдет. И ты тоже. Нужны сведения, которые помогут проникнуть внутрь и решить вопрос на месте.