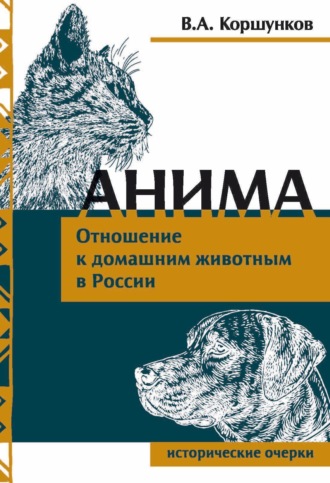
Владимир Коршунков
Анима. Отношение к домашним животным в России
«И по плачущим, кротким глазам»
У Н.С. Лескова в газетной статье «Страстная суббота в тюрьме» (1862) есть сравнение тягот семейной жизни с участью избиваемой лошади: «Да! Сколько таких людей, которые не жалуются на своё несчастие, а терпят его как запряжённая лошадь, которую кучер хлещет по облупленному кнутом боку и которая не может ни выпрыгнуть из оглобель, ни сломить их?»[147]
Про Фридриха Ницше рассказывали, будто 3 января 1889 года в Турине он увидал, как извозчик избивает остановившуюся лошадь. Тогда Ницше вмешался, прервал экзекуцию, зарыдал, обняв лошадиную голову, а после этого навсегда замолчал, проведя последние свои годы в лечебнице для душевнобольных. Эта история стала для венгерского режиссёра Белы Тарра толчком к созданию фильма «Туринская лошадь», который был представлен на Берлинском кинофестивале в начале 2011 года. Литератор И.Н. Михайлов заметил: «Я так полагаю, что если бы в хорошо одетом господине с пышными усами, рыдающем на шее у несчастного животного, случайно не опознали Ницше, то на его месте могла бы быть вся наша русская литература: от Некрасова до Толстого!» И далее: «Это не Ницше, а русская литература горько рыдала на шее лошади. И она же, русская литература, любя, хлещет нещадно старых клячонок на постоялых дворах»[148].
Из-за таких литературных упражнений образ побитой лошадёнки стал расхожим литературно-публицистическим мотивом, символом бесправия и угнетения.
Российский писатель Асар Эппель (1935–2012), вспоминая повседневную жизнь середины XX века на московской окраине, среди «травяных улиц», рассуждал о почти безвыходной ситуации, когда лошадь, поскользнувшись зимою на утрамбованной ледяной дороге, падает и никак не может подняться. В этом случае бывает так: «Ну дядёк её колошматил! И дрыной, и под живот! Чтоб встала». И в ответ на эту мальчишескую реплику – замечание повзрослевшего героя: «Знаю. Видел. Читал. Неоднократно описано»[149].
Да, описано. Сцена избиения лошади есть у Н.А. Некрасова в стихотворном цикле «О погоде» (1859): «Под жестокой рукой человека // Чуть жива, безобразно тоща, // Надрывается лошадь-калека, // Непосильную ношу таща». А погонщик, отбросив кнут, схватил полено «и уж бил её, бил её, бил!» – «Лошадь только вздыхала глубоко // И глядела… (так люди глядят, // Покоряясь неправым нападкам)». Тот лупцевал её и по спине, и по бокам, «и по плачущим, кротким глазам». В другом месте стихотворного цикла Некрасов упомянул «Понуканье измученных кляч, // Чуть живых, окровавленных, грязных…»[150].
Вскоре после того писатель-народник Н. В. Успенский опубликовал рассказ о покупке лошади, где есть фраза: «…Она спотыкалась и падала в оглоблях, и за это её стегали по голове и по глазам…»[151]
Под влиянием некрасовских стихов создан был известный эпизод у Ф.М. Достоевского в «Преступлении и наказании» (1866), при изложении сна Раскольникова, где тому припоминается виденное в детстве[152]. У кабака – впряжённая в телегу «маленькая, тощая, саврасая крестьянская клячонка, одна из тех, которые – он часто это видел – надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно, так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам…». В телегу заваливается подвыпившая компания, и разгорячившийся хозяин «берёт в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь савраску». А та только и может еле-еле сдвинуть такую тяжесть. Тогда разъярённые мужики бьют её смертным боем. На укоризны кого-то из толпы хозяин орёт: «Не трожь! Моё добро! Что хочу, то и делаю. Садись ещё! Все садись! Хочу, чтобы беспременно вскачь пошла!..» И подзуживает прочих: «По морде её, по глазам хлещи, по глазам!» Там, в кошмарном сне, хозяин с подоспевшими парнями приканчивал животину железным ломом, а вмиг пробудившийся от ужасного видения Раскольников живо представлял, каково будет убивать старуху[153]. Асар Эппель ссылался именно на «Преступление и наказание»: «А в белое декабрьское небо глядит конёв глаз, и для пущей убедительности “глаз” этот заимствован автором у самого Достоевского»[154].
Вятский журналист из левой, интеллигентской газеты в статье, посвящённой юбилею освобождения крестьян в России, вспоминал тяготы «крепостного времени» и писал:
«Но разве не случается вам теперь сплошь и рядом видеть мужика, который нещадно бьёт по глазам и под паха свою изнурённую клячу, а когда вы наброситесь на него, то он на вас же огрызнётся:
– А тебе что. Не твоя скотина, а моя; захочу – убью. Спрашиваться тебя не стану.
И действительно мужик может уморить свою скотину голодом, может связать и с живой начать драть кожу, – и не ему, ни его соседям это не будет казаться ни ужасом, ни зверством»[155].
Запоминающееся выражение «бить по глазам» прямо заимствовано вятским автором у Некрасова и Достоевского: оно западало чувствительному читателю в душу и память, а социальный пафос подводил к выводу, будто мужицкие зверства – тяжкое наследие прежнего режима. Социальная критика проявлялась и ранее. В финале пьесы А.Н. Островского «Не сошлись характерами», опубликованной в 1858 году, упомянуто, как надменный барич лупил встречных мужиков «по глазам». Этот тип выговаривал матери за то, что она его дурно воспитывала: «Вы любовались, когда мы с моим гувернёром, вашим любимцем, скакали по нашим наследственным полям и хлестали по глазам мужиков, которые не сворачивали с дороги. Вам весело было!»[156]
Литератор Е.Д. Зозуля (1891–1941) в выпущенной в 1936 году книжке «Моя Москва» приводил один случай: «Осенним вечером в шестнадцатом году около Страстной площади (теперь Пушкинская) поскользнулась на влажном асфальте и упала лошадь. (Этот участок Тверской, очень незначительный, был асфальтирован давно.) Лошадь упала на бок, сразу, поскользнувшись передними и задними ногами. Было около одиннадцати часов вечера – самый разгар проституционной биржи. С тротуара раздались свист, хохот, улюлюканье. На улице было полутемно. Запахло чем-то жутким, погромным. Со всех сторон неслась матерная брань. Лошадь поднимали. На тротуаре продолжались выкрики, смех, свист. Это было безмерно отвратительно. Это кричала, свистела и улюлюкала старая Москва»[157]. У Зозули, как и у предреволюционного вятского журналиста, случай с лошадью призван продемонстрировать мрачные, погромные, бесчеловечные нравы старого режима. А в более раннем рассказе Зозули, напечатанном в 1925 году, речь шла о голодном времени, когда при одном из наркоматов жила лошадь по кличке Лимонада, служившая для деловых поездок. Однажды измождённую Лимонаду запрягли, но она от бескормицы не могла сдвинуться с места. Тогда возчик начал остервенело, всерьёз избивать её палкой: «не бить – рубить, как мясник, тяжело дыша…» Однако у советского автора это не становится символом эпохи – наступившей коммунистической. Да и возчик оказался не таким уж звероподобным. «Я отнял у него палку, причём не мог не заметить, что Кузьма охотно выпустил палку из своих рук. Похоже было, что он бьёт Лимонаду по обязанности, но знает, что есть другой способ заставить её двигаться»[158]. Конечно, есть другой способ: надо её покормить. Разумный рассказчик так и сделал.
Писатель-фронтовик Виктор Астафьев в беседе с журналистом в 1994 году указывал на происшествие с избитой лошадью, рассуждая о терпении народном: «А грех ли – наше долготерпение? Грех – в том смысле, что обязательно это всегда плохо в России заканчивается, уж такой кровью… Видел однажды: колхозная лошадь – спина, шея сбиты, одна подкова на четыре ноги, и ещё какой-то придурок начал её… лупцевать. Через 15 минут, брыкая тощим задом, она разнесла всё в щепки, только он живой, слава богу, остался, и потом ещё бежала куда-то с рваной шлеёй – она ж колхозная, расползлась, с одной оглоблей и хомутом; умчалась, докуда сил хватило, в поле… и там упала. Вот этого боюсь, что, как колхозная лошадь, страна разнесётся, всю сбрую, всё хозяйство – в щепки. И будут же бить кого попало!»[159] В повести Евгения Фёдорова «Былое и думы» (1992) – тоже об избиении лошади. Кнутом по морде, со всей силы: «И, наконец, уловив, привязал к столбу, пошёл остервенело, во всю богатырскую силёнку кнутищем жарить. Да всё по морде! Заядло, бешено, безобразно, неутомимо. Эх, раззудись, плечо! Эх, развернись, рука! Отвёл душу». Автор заключает в стиле Зощенко: «Как, значит, пакостно в сёлах наших бессловесную тварь лупцуют»[160]. Всё те же слова о битье «по глазам» выдают источник образа, использованного современным писателем Михаилом Кураевым: «Как отчаявшийся возница бранит последними словами выбившуюся из сил клячу, хлещет, уже не веруя в пользу кнута, и по спине, и по шее, и по глазам, так и Татьяна Петровна бранью и затрещинами понуждала единственного своего помощника разделить её непомерный и неизбежный труд»[161]. И у другого современного беллетриста Бориса Минаева в первой части книги «Мягкая ткань» – всё то же избиение лошади, опять-таки с оглядкой на Достоевского[162].
А рассуждение Асара Эппеля, у которого герой-повествователь помнит, что такое бывало «неоднократно описано», продолжается:
«…С упавшими запряжёнными в сани лошадьми вообще не ясно, что на снеговой дороге делать.
То есть мне ясно, что ничего поделать нельзя».
Такое бывает, когда лошадь валится набок – в оглоблях, постромках, во всей упряжи. Она зажата и притиснута, сама подняться не может. Но ведь и поднять её возчику или даже всем сбежавшимся людям тоже никак нельзя. И распрячь, чтобы помочь ей подняться, также невозможно – она и сама зажата, и под собою упряжь держит.
«Словом, гужевой народ в таковых случаях всегда озадачивался, а писателей рвущая душу сцена, наоборот, занимала, – поскольку у милосердия получался разнотык с безвыходностью и необходимостью. Как родовые, например, муки.
Впервые запрягши коня, люди обрекли себя на эту нравственную одноходовку, ибо не в силах что-либо поделать с упавшей лошадью. Нужна всё равно лошадиная сила. <…>
И остаётся – бить. Но не просто, а так, чтобы конь от боли обезумел. <…>
И другого способа нет. И помощи ждать неоткуда. И то, что оно только так может происходить, – моё открытие. Верней, народный, накопленный с развитием бытовой культуры опыт. Но осмыслил, то есть собрал воедино и что к чему дотумкал, – я первый!»
Далее писатель многозначительно прибавлял: «Так что не присосеживайтесь, а станете писать исследования, обязательна соответствующая ссылка».
Согласен. Делаю ссылку – вот она[163].
Добавлю только, что и при некоторых недомоганиях скота своеобразным способом избавления мог быть болевой шок. Например, в случае болезни, которая именовалась в народе «ногтем»: когда животное билось в судорогах, надо было стригануть краешек его уха[164].
В отношениях человека и лошади в нашей стране (как и в других крестьянских странах) долгое время господствовал прагматизм, который сейчас кажется бездушным и жестоким. Лошадь ценили – но только как скотину рабочую, средство производства. Потому-то о ней худо-бедно заботились (так нынешние хозяева берегут собственные недешёвые автомобили), но и вовсю эксплуатировали – до тех пор, пока живое орудие труда становилось непригодным к повседневной тяжёлой работе.
Нежная дружба с сивкой и защита лошади
В дореволюционной русской литературе и публицистике совсем не много примеров, выявляющих доброе, ласковое отношение крестьянина к лошади. Вот один из них. В «рассказе» (а точнее, всё-таки в повести) А. А. Потехина «Крестьянские дети» (1881) говорилось о похоронах умерших во время холерной эпидемии отца и матери трёх детей. Только старуха да увечный мужичок помогали сиротам при погребении родителей. В телегу запрягли единственную лошадь, которая имелась у этого семейства. Потехин писал:
«…Старый сивка был совсем родной, общий любимец и постоянный товарищ покойного Ивана в его земной работе. Иван купил его сосунчиком, в тот год, как женился; сам выкармливал его, сам объезжал и приучал к работе; больше десяти лет они вместе, общими силами, взрывали Иванову полосу, вывозили на неё удобрение, семена и свозили с неё хлеб. Они с одной земли питались, на одну и ту же полоску клали и свой труд, и пот, и силу – над одной горевали и радовались». Далее даже так: «Нежная дружба соединяла хозяина и сивку: ни одного дня не встречались они без ласкового слова с одной стороны и такого же ласкового ржания – с другой; Иван гладил его по спине, трепал по шее; а сивка норовил положить ему свою голову на плечо; после детей и жены, Иван больше всего на свете любил своего сивку; когда ему недужилось или плохо елось, Иван был сам не свой и терял аппетит…
– Я лучше сам недоем, да сивку накормлю, – говорил он. И действительно: бывали скудные годы, почти голодные, – Иван и жена его постились и худели, а сивка находил всегда свою привычную пищу – и тела не терял…»
Теперь же, влача погребальную телегу, сивка еле плёлся[165].
Текст, дурно сделанный стилистически, а кое-где звучащий почти пародийно, грешит чрезмерной сентиментальностью. Хрестоматийный, обобщённый труженик-пахарь (по имени, конечно же, Иван) и его «сивка» нежно дружат и сообща, помогая друг другу, орошают потом скудную ниву…
Правду жизни искать у Потехина было бы неуместно. Ещё при жизни автора о его рассказах и романах из народной жизни критики отзывались отнюдь не восторженно. Признавая в них «знание крестьянской жизни» и «колоритный язык», замечали, что «недостатком их является приподнятость тона, в сентиментальном духе славянофильского народничества». И вообще «в них больше знания внешнего быта, чем народной психологии»[166]. Ну, разве что ситуация, когда работящий крестьянин готов сам недоедать, а свою единственную лошадь содержать сытой, у Потехина правдоподобна. Тогда яснее становится то, что (при заранее заданной фокусировке взгляда) можно принять за «нежную дружбу» человека и животного: неразрывная их взаимосвязь – коли плохо будет лошади, то и человеку тоже.

Союз любителей животных.
Киров (Вятка). Фотография автора, 2019
Это всё – о простом народе, с его сивками-бурками да каурками. Знатные, богатые люди ценили лошадей хороших, породистых. А. А. Перовский (1787–1836), взявший себе писательский псевдоним Антоний Погорельский, в книге «Двойник, или Вечера в Малороссии» (1828) замечал: «Я вспомнил, как часто случалось мне видеть, до какой степени может простираться в человеке страсть к лошадям, собакам, кошкам и другим животным!» Он добавлял, что страсть эта иногда поглощала даже «священные чувства родства и дружбы». Лошади среди упомянутых тут домашних животных – на первом месте. В той же книге Погорельского приводился такой случай. Молодой офицер ехал верхом по Москве в 1812 году, накануне вступления туда французов. Конь споткнулся на мосту.
«– Бедный Феникс! – сказал офицер вполголоса, – любезный мой товарищ, этого за тобою не бывало! Как худо плачу тебе за верную твою службу!
Он погладил Феникса по шее и опять вонзил окровавленные шпоры в разодранные бока усталого коня»[167].
Любезный товарищ очень устал, его бока разодраны шпорами доброго хозяина. Причина в том, что хозяин очень спешил? Это его извиняет?..
В Москве в начале XX века полицейское ведомство постоянно указывало извозчикам на недопустимость использования кнутов с вплетённой проволокой или кусками свинца. За этим должны были наблюдать городовые. Предотвращать живодёрство помогали члены Общества покровительства животным. Заметив такое, они предъявляли членские билеты Общества (с девизом из Священного Писания: «Блажен, иже и скоты милует»), требуя от ближайшего полицейского служителя составить протокол[168]. Литератор-бытописатель Е.П. Иванов (1884–1967) в очерке о московских извозчиках начала XX века приводил слова кого-то из них: «Дурошлёп, не кнутом корми животное, а евонным кушаньем! Ну-ка тебя так похлещи; ты што говорить будешь? А!.. Попроси кого поучить тебя. За это нашего брата покровители животных тягают!..»[169] Публицист В.В. Розанов в 1902 году писал в газете: «Редко, но всегда с удовольствием я наблюдал в Петербурге такую сцену: седок на извозчике махает руками, останавливает лошадь, что-то кричит. Все смотрят на него с удивлением. Но он занят своим делом: заметил нумер ломовика, нещадно колотившего лошадь на какой-нибудь колдобине, погрозил ему кулаком, выругался – и поехал дальше. Это член “Общества покровительства животным”. И признаюсь и, пожалуй, извиняюсь перед читателем, что всякого такого члена я считаю как бы своим другом». По наблюдению Розанова, пассажиры петербургской конки обычно жалели худых и голодных кляч, не требовали от кучера быстрой езды и даже останавливали его, если тот принимался понукать лошадёнок побоями[170].

Листок из записной книжки Я. Ф. Мултановского
Московские извозчики – это переселившиеся в город вчерашние крестьяне, для которых лошадь была просто орудием производства, не более того.
Вятский священник, публицист, общественный деятель Я.Ф. Мултановский (1869–1929) вскоре после революции предложил создать губернское Общество защиты лошади. В городе Кирове (Вятке), в областном архиве хранится его записная книжка, заполнявшаяся в течение нескольких лет, уже под конец жизни. Мултановский писал: «Защита лошади + др[угих] полез [ных] жив[отны]х издавна входила в мои планы…» (подчёркнуто автором. – В.К.). Когда-то прежде он «закормил» до смерти своего коня – Серка, и с той поры его мучила совесть. В 1921 году, «во Фролов день, после молебна на площ[ади], я гов[орил] поучение в защиту ло[ша]ди (“блажен, иже и скоты милует”)». Видимо, тогда проповедь последствий не имела. В 1923 году он всё же основал «Лошадиное общество». По словам Мултановского, хотя общей целью в то время было обновление людей, а не скотов, он, несмотря на перегруженность работой, взялся за дело, полагая, что вегетарианство и милосердие к животным должны входить в программу такого обновления. Мултановский создал устав и собрал инициативное ядро Общества. Он просил редакцию губернской газеты «Вятская речь» напечатать объявление или хотя бы заметку в «Хронике». Знакомые журналисты сначала вроде бы и хотели это сделать (правда, подтрунивая), но после отказались наотрез. Пришлось ему ограничиться крохотным платным объявлением. Состоялось-таки собрание, на котором утвердили устав. Было решено принимать в Общество прежде всего ветеринаров. Наконец, в редакции «Вятской речи» Мултановскому пояснили, что Обществу защиты лошади новые власти не дадут ходу, так как «всякие об[щест]ва, им[еющие] вид благотворительных, в советском] государстве] не допустимы»,
Листок из записной книжки Я.Ф. Мултановского да и в общегражданском кодексе уже есть статьи о защите животных (Мултановский был человек дотошный: он искал, но не нашёл в советских законах ничего подобного). А «Вятская речь» даже напечатала четыре карикатуры против инициатора благого дела и его Общества. Мултановский с горечью записал: «Не лучше ли бы открыть и развить хотя одно это “скотское” об[щест]во, чем сделать 100 дел для вишкилят (жителей села Вишкиль, где он долгие годы священствовал. – В. К.), оказавшихся хуже “скотов” несмысленных». Крестьяне, возмущался Мултановский, люди жестоковыйные[171]. Короче говоря, большевики в 1923 году в далёкой провинции не потерпели даже такого, в буквальном смысле вегетарианского, объединения приличных людей.
Интимное отношение к скотине?
Примерно так же, как к лошади, устанавливалось отношение крестьянина к другой кормилице его семьи – корове. Она была необходима в домашнем хозяйстве. С ней появится молоко для малых детей, творог да сметана – ценная прибавка к рациону, будет навоз для удобрения полей и огородов, ну а бычки станут мясным запасом. Если в какой-либо деревенской семье коровы не бывало, то жизнь сразу становилась гораздо хуже. Прагматизм властвовал и тут: корова воспринималась в качестве средства производства продуктов и удобрений – по крайней мере, за это её ценили взрослые члены семейства (у детей могло быть иначе, душевнее).
М.М. Пришвин 5 сентября 1925 года сделал запись в своём дневнике: «Слышу: “Ко-ро-ва!” – и думаю об этой священной крестьянской материальности. Представляю себе, что если какой-нибудь озорник убил бы корову, то хозяин её может убить озорника и будет оправдан. Корова – это самость крестьянина, это он сам, материализованный, и притом общественно: она своим навозом удобряет землю, молоком кормит человека»[172]. Именно так: мужик не то чтобы любит – он использует, эксплуатирует. И очень коровой дорожит, при случае убить за неё может. За неё или же за себя и своих?..
В представлении современного человека отношение крестьян прошлого времени к своим домашним животным нередко рисуется как чуть ли не идиллическое. Это происходит, надо думать, оттого, что безусловная зависимость крестьянского хозяйства от наличия в нём лошади и коровы перетолковывается как доброе, любовное отношение крестьянина к его животным – в соответствии с нынешними образцами восприятия животных (да хотя бы кошек и собак) в городской культуре. Если ситуация относится к отдалённому прошлому, то иной раз сказывается наивное с научной точки зрения толкование «языческой» традиции (или «полуязыческой», «двоеверной», пронизанной «языческими пережитками») как якобы близкой к природе.
Вот пример такого недопонимания. Житель города Осташкова Тверской губернии И.А. Нечкин, служивший приказчиком у богатых купцов, вёл дневник, названный им «Вседневные записки на 1850 год». Анализировавший эти записи историк А.И. Куприянов обращает внимание: «Но особенно проникновенные лирические ноты в рассказе главы семейства появляются… при описании событий, связанных с покупкой коровы и её осеменением…» Куприянов цитировал дневник Нечкина: «Купил себе коровушку, чёрную, белоголовую, у Гаврилы Петрова Гуляева или Рыжикова за 45 р. ассигн. <…> Сию ночь коровушка была у быка в гостях, у Алексея Григор. Долгова». Историк так комментирует сей пассаж: «Эта лексика, связанная с коровой, для прозаического мировосприятия осташковского мещанина может показаться неожиданной, но очевидно, что она не только уместна, но и глубоко символична, поскольку молоко отелившейся коровы необходимо для сына и горячо любимой дочери. И, вследствие этого “гостевания” коровы у быка, уже не надо будет покупать молоко у соседей. Думается, что здесь в Нечкине говорит не столько хозяин, у которого будет своё молоко, сколько горожанин, ещё сохранивший особое, интимное отношение к скотине. “Коровушка” в восприятии этого осташковского мещанина не просто “кормилица”, но своеобразный член семьи. <…> Все эти данные, несомненно, свидетельствуют о том, что Нечкин сохранил традиционное крестьянское, свойственное, впрочем, и горожанам до эпохи массовой урбанизации, особое отношение к скотине, в частности к корове»[173].

Расписка о продаже попом коровы. 1780.
Центральный гос. архив Кировской обл. Ф. 1321. Оп. 1. Д. 36. Л. 5
Ну да, достаточно образованный человек из небольшого города употребляя ласковое именование «коровушка», использовал условно-риторический эвфемизм – «была в гостях». Уклончивое, уважительное описание такого события вообще-то совсем не характерно для русского речевого обихода. Едва ли мужик изъяснялся бы так же (а вот девка или баба, пожалуй, стала бы). Видимо, разница в словоупотреблении крестьянина и мещанина, действительно, может отражать различное восприятие домашнего животного. Но тогда всё наоборот, и это никак не пережитки некоего искони присущего крестьянству гуманного мировосприятия и «особого отношения к скотине», а проявление иного, уже городского, стиля мышления. Если вообще этот пример показателен и такие обобщения тут уместны… Скажем, в другом месте дневника Нечкин описывал случай, когда испытал жгучее чувство стыда. Он добирался с богомолья на хозяйской лошади, и её с трудом удалось довести до «завода» (конского завода). Лошадь не могла идти сама, её подталкивали – «пихали». Собрались зеваки, «и кто что галдил»! Нечкин жаловался в дневнике: «Ах, было скучно и обидно смотреть и слышать оное… Лошадь валяется на заводе, и все заводчики ходили и смотрели… и галдили, кому что хотелось, у меня мороз по коже так и подирает, а делать нечего. Терпи казак, когда в плен попал»[174]. Он сосредоточен тут на собственных переживаниях, до плачевного состояния лошади ему, кажется, вовсе нет дела. Конечно, имеется разница между хозяйской (в общем-то чужой) лошадью и собственной коровой, приобретённой за 45 рублей. Но всё же приписывать осташковскому мещанину середины XIX века трепетное отношение к животным не следует.






