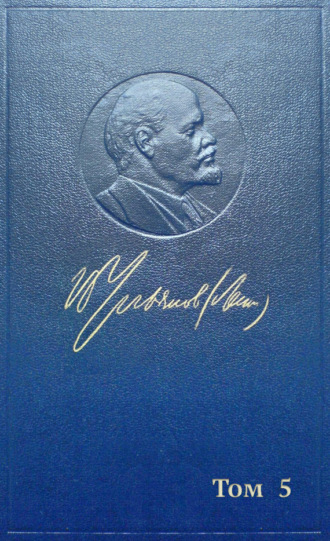
Владимир Ленин
Полное собрание сочинений. Том 5. Май – декабрь 1901
IV
Эпоха «диктатуры сердца», как прозвали министерство Лорис-Меликова, показала нашим либералам, что даже «конституционализм» одного министра, даже министра-премьера, при полном колебании правительства, при одобрении «первого шага к реформе» большинством в Совете министров не гарантирует ровно ничего, если нет серьезной общественной силы, способной заставить правительство сдаться. Интересно также, что и правительство Александра III, даже после выступления с манифестом об утверждении самодержавия, не сразу еще стало показывать все свои когти, а сочло необходимым попробовать некоторое время подурачить «общество». Говоря «подурачить», мы не думаем приписать политику правительства какому-либо маккиавелистическому плану{35} того или другого министра, сановника и т. п. Нельзя достаточно настаивать на том, что система лжеуступок и некоторых, кажущихся важными, шагов «навстречу» общественному мнению вошла в плоть и кровь всякого современного правительства и русского в том числе, ибо и русское правительство в течение уже многих поколений сознало необходимость считаться с общественным мнением так или иначе, в течение уже многих поколений воспитывало государственных деятелей, изощренных в искусстве внутренней дипломатии. Таким дипломатом, имевшим назначение прикрыть отступление правительства к прямой реакции, явился сменивший Лорис-Меликова министр внутренних дел граф Игнатьев. Игнатьев выступал не раз как чистейший демагог и обманщик, так что автор «Записки» Витте проявляет не мало «полицейского благодушия», называя период его министерства «неудавшейся попыткой создать самоуправляющуюся местно землю с самодержавным царем во главе». Правда, именно такая «формула» была выдвинута в то время И. С. Аксаковым, ею пользовалось для своих заигрываний правительство, ее разносил Катков, основательно доказывая необходимую связь между местным самоуправлением и конституцией. Но было бы близорукостью объяснять известную тактику полицейского правительства (тактику, необходимо присущую ему по самой его природе) преобладанием в данный момент того или другого политического воззрения.
Игнатьев выступил с циркуляром, обещая, что правительство «примет безотлагательные меры, чтобы установить правильные способы, которые обеспечивали бы наибольший успех живому участию местных деятелей в деле исполнения высочайших предначертаний». Земства ответили на этот «призыв» ходатайствами о «созыве выборных от народа» (из записки гласного Череповецкого земства; мнение гласного Кирилловского земства губернатор не разрешил даже напечатать). Правительство предложило губернаторам оставлять такие ходатайства «без дальнейшего производства», «и в то же время были, по-видимому, приняты меры, чтобы подобные ходатайства не были возбуждаемы в других собраниях». Делается пресловутая попытка созывать по выбору министров «сведущих людей» (для обсуждения вопроса о понижении выкупных платежей, об упорядочении переселений, о реформе местного управления и пр.). «Работы экспертных комиссий не вызвали сочувствия в обществе, а со стороны земств, несмотря на все предупредительные меры, вызвали даже прямой протест. Двенадцать земских собраний заявили ходатайства, чтобы к участию в законодательной деятельности земские люди приглашались не в отдельных случаях и не по назначению от правительства, а постоянно и по выбору земств». В Самарском земстве подобное предложение было остановлено председателем, «после чего собрание в виде протеста разъехалось» (Драгоманов, н. с, стр. 29; «Записка», стр. 131). Что граф Игнатьев надувал земцев, это видно из такого, например, факта: «Полтавский предводитель дворянства, г. Устимович, автор проекта конституционного адреса 1879 г., заявил открыто в губернском дворянском собрании, что он получил от графа Игнатьева положительное уверение (sic![18]), что правительство призовет представителей страны к участию в законодательной работе» (Драгоманов, там же). Прикрытие правительственного перехода на решительно новый курс этими проделками Игнатьева закончилось, и назначенный 30-го мая 1882 г. министром внутренних дел Д. А. Толстой недаром заслужил себе прозвище «министра борьбы». Ходатайства земств даже об устройстве каких-нибудь частных съездов отклонялись без церемоний, и даже по жалобе губернатора на «систематическую оппозицию» земства (Череповецкого) был случай замены управы правительственной комиссией и административной ссылки членов управы. Д. А. Толстой, верный ученик и последователь Каткова, решил предпринять прямо уже «реформу» земских учреждений, исходя из той основной мысли (действительно подтверждаемой, как мы видели, историей), что «оппозиция правительству свила себе прочное гнездо в земстве» (стр. 139 «Записки»: из первоначального проекта земской реформы). Д. А. Толстой проектировал заменить земские управы подчиненными губернатору присутствиями и все постановления земских собраний признать подлежащими губернаторскому утверждению. Это была бы действительно «радикальная» реформа, по интересно в высшей степени, что даже и этот ученик Каткова, «министр борьбы», «не отступил, – по выражению самого автора «Записки», – от привычной политики министерства внутренних дел по отношению к земским учреждениям. Свою мысль – упразднить в сущности земство – он не выразил в своем проекте прямо; под видом правильного развития начал самоуправления он желал оставить внешнюю форму последнего, но лишив ее всякого внутреннего содержания». В Государственном совете эта мудрая государственная политика «лисьего хвоста» была еще дополнена и развита, и в результате земское положение 1890 г. «оказалось новой полумерой в истории земских учреждений. Оно не упразднило земства, но обезличило и обесцветило его; не уничтожило и всесословного начала, но придало ему сословную окраску;… не сделало из земских учреждений действительных органов власти… но увеличило над ними опеку губернаторов… усилило право губернаторского протеста». «Положение 12-го июля 1890 г. было, в намерении его составителя, шагом по пути к упразднению земских учреждений, но никак не коренным преобразованием земского самоуправления».
Новая «полумера» – как излагает дальше «Записка» – оппозиции правительству не уничтожила (оппозицию реакционному правительству и невозможно было бы, разумеется, уничтожить усилением этой реакционности), а только сделала некоторые проявления ее скрытыми. Оппозиция проявлялась, во-первых, в том, что некоторые антиземские, если можно так выразиться, законы встречали отпор и de facto[19] не осуществлялись; во-вторых, опять-таки в конституционных (или по крайней мере имеющих запах конституционализма) ходатайствах. Первого рода оппозицию встретил, например, закон 10-го июня 1893 г., подчинивший подробной регламентации земскую организацию врачебного дела. «Земские учреждения дали дружный отпор министерству внутренних дел, которое и отступило. Пришлось приостановить введение уже готового устава в действие, отложить его в сторону для полного собрания законов и выработать новый проект, построенный на началах совершенно противоположных (т. е. более угодных земствам)». Закон 8-го июня 1893 г. об оценке недвижимых имуществ, вводивший равным образом принцип регламентации и стесняющий права земства в деле обложения, тоже встречен несочувственно и в массе случаев «на практике вовсе не применяется». Сила созданных земством и принесших значительную (сравнительно с бюрократией, конечно) пользу населению врачебных и статистических учреждений оказывается достаточной, чтобы парализовать сфабрикованные в петербургских канцеляриях уставы.
Второго рода оппозиция выразилась и в новом земстве в 1894 г., когда адреса земств Николаю II снова намекнули совершенно определенно на их требования расширить самоуправление и вызвали «знаменитые» слова о бессмысленных мечтаниях.
«Политические тенденции» земства не исчезли, к ужасу гг. министров. Автор «Записки» приводит горькие жалобы тверского губернатора (из отчета его за 1898 г.) на «тесно сплоченный кружок людей либерального направления», сосредоточивающий в своих руках все ведение дела губернского земства. «Из отчета того же губернатора за 1895 г. видно, что борьба с земской оппозицией составляет тяжелую задачу местной администрации и что от председательствующих в земских собраниях предводителей дворянства требуется иногда даже «гражданское мужество» (вот как!) для выполнения конфиденциальных циркуляров министерства внутренних дел о предметах, которых земские учреждения не должны касаться». И дальше идет рассказ о том, как губернский предводитель дворянства сдал перед собранием должность уездному (тверскому), тверской – новоторжскому, новоторжский тоже заболел и сдал председательство старицкому. Итак, даже предводители дворянства обращаются в бегство, не желая исполнять полицейских обязанностей! «Законом 1890 г., – сетует автор «Записки», – земству дана сословная окраска, усилен в собраниях правительственный элемент, в состав губернских земских собраний введены все уездные предводители дворянства и земские начальники, и если такое обезличенное сословно-бюрократическое земство продолжает тем не менее проявлять политическую тенденцию, то над этим следовало бы призадуматься»… «Противодействие не уничтожено: глухое недовольство, молчаливая оппозиция живут несомненно и будут жить до тех пор, пока не умрет всесословное земство». Таково последнее слово бюрократической мудрости: если урезанное представительство порождает недовольство, то уничтожение всякого представительства – по простой человеческой логике – еще усилит это недовольство и оппозицию. Г-н Витте воображает, что если закрыть одно из учреждений, выносящих наружу хоть частичку недовольства, то недовольство исчезнет! Но думаете ли вы, что Витте предлагает поэтому что-либо решительное, вроде упразднения земства? Нет, ничуть не бывало. Разнося уклончивую политику ради красного словца, Витте сам не предлагает ничего, кроме нее же, – да и не может предлагать, не вылезая из своей шкуры министра самодержавного правительства. Витте бормочет что-то совершенно пустяковинное о «третьем пути»: не господство бюрократии и не самоуправление, а административная реформа, «правильно организующая» «участие общественных элементов в правительственных учреждениях». Сказать такой вздор легко, но только ровно уже никого теперь – после всяких опытов со «сведущими людьми» – не обманет эта выдумка: слишком очевидно, что без конституции всякое «участие общественных элементов» будет фикцией, будет подчинением общества (или тех или других «призванных» от общества) бюрократии. Критикуя частную меру министерства внутренних дел – введение земства на окраинах, – Витте по общему вопросу, им же самим выдвинутому, не может дать ровно ничего нового, подогревая только старые приемы полумер, лжеуступок, обещания всяких благ и неисполнения никаких обещаний. Нельзя с достаточной силой подчеркнуть, что по общему вопросу о «направлении внутренней политики» Витте и Горемыкин – едино суть, и спор между ними есть спор своих людей, домашняя ссора в пределах одной шайки. С одной стороны, и Витте спешит заявить, что «ни упразднения земских учреждений, ни какой-либо ломки существующего порядка я не предлагал и не предлагаю… об упразднении их (существующих земств) при настоящих условиях едва ли может быть речь». Витте, «с своей стороны, думает, что с созданием на местах сильной правительственной власти возможно будет с большим доверием отнестись к земствам» и т. д. Создавши сильный бюрократический противовес самоуправлению (т. е. обессилив самоуправление), можно больше «доверить» ему. Старая это песенка! Г-н Витте боится только «всесословных учреждений», он «вовсе не имел в виду и не считал для самодержавия опасной деятельность разного рода корпораций, обществ, сословных или профессиональных союзов». Например, относительно «сельских общин» г. Витте нимало не сомневается в их безопасности для самодержавия вследствие их «косности». «Преобладание отношений по земле и связанных с ними интересов придают сельскому населению такие духовные особенности, которые делают его безразличным ко всему, что выходит за пределы политики своей колокольни… Наш крестьянин занят на сходах раскладкой податей…. распределением поземельных участков и т. п. Кроме того, он неграмотен или полуграмотен, – какая же тут может быть политика?» Г-н Витте очень трезв, как видите. По отношению к сословным союзам он заявляет, что в отношении их опасности для центральной власти «существенное значение имеет разобщенность их интересов. Пользуясь этой разобщенностью, правительство против политических притязаний одного сословия всегда может находить опору и противовес в других». Не что иное, как одну из бесконечных попыток полицейского государства «разобщить» население, представляет собой и «программа» Витте: «правильно организованное участие общественных элементов в правительственных учреждениях». С другой стороны, и г. Горемыкин, с которым г. Витте так яростно полемизирует, ведет и сам ту же систематическую политику разобщения и притеснения. Он доказывает (в своей записке, на которую отвечает Витте) необходимость создания новых должностей чиновников для надзора за земством; он – против разрешения даже простых местных съездов земских деятелей; он горой стоит за положение 1890 г., этот шаг к упразднению земства; он боится включения земствами в программы оценочных работ «тенденциозных вопросов», боится земской статистики вообще; он стоит за то, что народную школу надо изъять из рук земства и передать в ведение учреждений правительственных; он доказывает, что земства неспособны вести продовольственное дело (земские деятели вызывают – видите ли – «преувеличенные представления о размерах бедствия и потребностях пострадавшего от неурожая населения»!!); он отстаивал правила о предельности земского обложения «в целях ограждения землевладения от чрезмерного увеличения земских сборов». Таким образом Витте совершенно прав, когда он заявляет: «Вся политика министерства внутренних дел по отношению к земству заключается в медленном, но неуклонном подтачивании его органов, постепенном ослаблении их значения и постепенном же сосредоточении их функций в ведении правительственных установлений. Нисколько не преувеличивая, можно сказать, что когда указываемые в записке (Горемыкина) «мероприятия, принятые за последнее время в целях упорядочения отдельных отраслей земского хозяйства и управления», будут приведены к благополучному концу, то в действительности у нас не будет никакого самоуправления, – от земских учреждений останется одна идея да внешняя оболочка, без всякого делового содержания». Политика Горемыкина (и еще более Сипягина) и политика Витте идет, следовательно, к одному и тому же, и состязание но вопросу о земстве и конституционализме есть, повторяем, не более как домашняя ссора. Милые бранятся – только тешатся. Таков итог «борьбы» гг. Витте и Горемыкина. Что же касается до наших итогов по общему вопросу о самодержавии и земстве, то их удобнее подвести в связи с разбором предисловия г-на Р. Н. С.[20]
V
Предисловие г-на Р. Н. С. представляет много интересного. В нем затронуты самые широкие вопросы о политическом преобразовании России, о разнообразных способах этого преобразования, о значении тех и других сил, ведущих к преобразованию. С другой стороны, г. Р. Н. С, стоящий, очевидно, в близких отношениях к либеральным кругам вообще и земско-либеральным кругам в особенности, представляет из себя, несомненно, нечто новое в хоре нашей «подпольной» литературы. Поэтому и для выяснения принципиального вопроса о политическом значении земства и для ознакомления с веяниями и… не скажу: направлениями, а настроениями в кругах, близких к либералам – очень стоит остановиться поподробнее на этом предисловии, разобрать, плюс или минус, насколько плюс, насколько и в чем минус это новое?
Основная особенность воззрений г. Р. Н. С. состоит в следующем. Как видно из очень многих, цитируемых нами ниже, мест его статьи, он поклонник мирного, постепенного, строго легального развития. С другой стороны, он всей душой восстает против самодержавия и жаждет политической свободы. Но самодержавие потому и есть самодержавие, что оно запрещает и преследует всякое «развитие» к свободе. Это противоречие проникает собой всю статью г. Р. Н. С, делая его рассуждения крайне непоследовательными, нетвердыми, шаткими. Совместить конституционализм с заботой о строго легальном развитии самодержавной России можно только посредством предположения или хотя бы допущения того, что самодержавное правительство само поймет, утомится, уступит и т. п. И г-ну Р. Н. С. с высоты его гражданского негодования действительно случается падать и до этой вульгарной точки зрения самого неразвитого либерализма. Вот пример. Г-н Р. Н. С. говорит о себе: «… мы, видящие в борьбе за политическую свободу для сознательных современных людей России их Аннибалову клятву, столь же святую, как некогда борьба за освобождение крестьян для людей сороковых годов…» и еще: «… как ни тяжело нам, людям, давшим «Аннибалову клятву» борьбы с самодержавием», и т. д. Хорошо сказано, сильно сказано! Эти сильные слова служили бы украшением статьи, если бы всю ее проникал тот же дух непреклонной, непримиримой борьбы («Аннибалова клятва»!). Эти сильные слова – именно потому, что они так сильны – будут звучать чем-то фальшивым, если рядом с ними промелькнет нотка искусственного примирения и успокоения, попытка провести, хотя бы ценою всяческих натяжек, концепцию мирного, строго легального развития. А у г. Р. Н. С. таких ноток и таких попыток, к сожалению, слишком достаточно. Он уделяет, например, целых полторы страницы подробному «обоснованию» той мысли, что «государственная политика в царствование Николая II заслуживает еще более (курсив наш) сурового осуждения с нравственной и политической точки зрения, чем черный передел реформ Александра II при Александре III». Почему же более сурового осуждения? Оказывается, потому что Александр III боролся с революцией, а Николай II – с «легальными стремлениями русского общества», первый – с политически сознательными, второй – «с вполне мирными и подчас даже действующими без всякой ясной политической мысли общественными силами» («плохо даже сознающими, что их сознательная культурная работа подтачивает государственный строй»). Это в очень значительной степени неверно фактически, – о чем речь ниже. Но и помимо того нельзя не отметить странности самого хода рассуждений автора. Он осуждает самодержавие, и из двух самодержцев он более осуждает одного не по характеру политики, которая осталась прежней, а потому, что перед ним нет (будто бы) «задир», вызывающих, «естественно», резкий отпор, нет, следовательно, повода к преследованиям. Не сквозит ли в самом уже употреблении подобного аргумента явной уступки тому верноподданному доводу, что-де нашему батюшке-царю нечего бояться созвать излюбленных людей, ибо все эти излюбленные люди и не помышляли никогда о чем-либо, выходящем из рамок мирных стремлений и строгой легальности? Нас не удивляет, если мы читаем такой «ход мыслей» (или такой ход лжи) у г. Витте, который пишет в своей записке: «Казалось бы, что там, где нет ни политических партий, ни революций, где никто не оспаривает прав верховной власти, – там нельзя противопоставлять администрацию народу или обществу…»[21] и т. д. Нас не удивляет такое рассуждение у г. Чичерина, который в записке, поданной графу Милютину после 1-го марта 1881 г., заявлял, что «власти необходимо прежде всего показать свою энергию, доказать, что она не свернула своего знамени пред угрозою», что «монархический порядок совместен с свободными учреждениями лишь тогда, когда они являются плодом мирного развития, спокойной инициативы самой верховной власти», и советовал создать «сильную и либеральную» власть, действующую при помощи «законодательного органа, усиленного и обновленного выборным элементом»[22]. Со стороны вот этакого г. Чичерина было бы совершенно естественно признавать заслуживающей большего осуждения политику Николая II потому, что в его царствование мирное развитие и спокойная инициатива самой верховной власти могли бы привести к свободным учреждениям. Но естественно ли, прилично ли такого рода рассуждение в устах человека, давшего Аннибалову клятву борьбы?
И фактически г. Р. Н. С. не прав. «Теперь, – говорит он, сравнивая настоящее царствование с предыдущим, – … о том насильственном перевороте, который предносился деятелям «Народной воли», никто серьезно не помышляет». Parlez pour vous, monsieur! Говорите только за себя! Нам же доподлинно известно, что революционное движение в России за последнее царствование не только не умерло и не ослабело по сравнению с прошлым царствованием, а, напротив, воскресло и возросло во много раз. И какое же это было бы «революционное» движение, если бы из его участников никто серьезно не помышлял о насильственном перевороте? Нам, может быть, возразят, что в приведенных строках г. Р. Н. С. имеет в виду не насильственный переворот вообще, а переворот специфически «народовольческий», т. е. переворот и политический и социальный в одно и то же время, переворот, ведущий не только к низвержению самодержавия, но и к захвату власти. Такое возражение было бы неосновательно, ибо, во-первых, для самодержавия как такового (т. е. для самодержавного правительства, а не для «буржуазии» или «общества») важно вовсе не то, для чего его хотят свергнуть, а то; что его хотят свергнуть. А, во-вторых, и деятели «Народной воли» в самом начале царствования Александра III «преподнесли» правительству альтернативу именно такую, какую ставит перед Николаем II социал-демократия: или революционная борьба, или отречение от самодержавия. (См. письмо Исполнительного комитета «Народной воли» к Александру III от 10-го марта 1881 г., где поставлены два условия: 1. общая амнистия по всем политическим преступлениям и 2. созыв представителей от всего русского народа при всеобщем избирательном праве и свободе печати, слова и сходок.) Да г. Р. Н. С. и сам отлично знает, что о насильственном перевороте «серьезно помышляют» многие не только из среды интеллигенции, но и из среды рабочего класса: загляните на стр. XXXIX и след. его статьи, где говорится о «революционной социал-демократии», которой обеспечены и «массовая основа и умственные силы», которая идет к «решительной политической борьбе», к «кровавой борьбе революционной России с самодержавно-бюрократическим режимом» (XLI). Не подлежит, таким образом, никакому сомнению, что «благонамеренные речи» г. Р. Н. С. представляют собой лишь особый прием, попытку повлиять на правительство (или на «общественное мнение») посредством уверений в своей (или в чужой) скромности.
Г-н Р. Н. С. думает, впрочем, что понятие борьбы можно истолковать очень широко. «Упразднение земства, – пишет он, – даст революционной пропаганде огромный козырь – мы говорим это вполне объективно (sic!), не испытывая никакого отвращения к тому, что обычно зовется революционной деятельностью, но и не восхищаясь и не увлекаясь именно этой формой (sic!) борьбы за политический и общественный прогресс». Эта тирада очень знаменательна. Если приподнять quasi[23]-ученую формулировку, щеголяющую совершенно некстати «объективностью» (раз автор сам ставит вопрос о предпочтительности для него той или другой формы деятельности, или формы борьбы, то говорить при этом об объективности его отношения – то же самое, что приравнивать дважды два к стеариновой свечке{36}), – то получится старая-престарая аргументация: мне вы, господа правители, можете поверить, если я вас пугаю революцией, ибо у меня к ней душа совсем не лежит. Ссылка на объективность есть не что иное, как фиговый листочек, прикрывающий субъективную антипатию к революции и революционной деятельности. А в прикрытии нуждается г. Р. Н. С. потому, что с Аннибаловой клятвой борьбы подобная антипатия никак не совместима.
Впрочем, не ошибаемся ли мы насчет этого самого Аннибала? Давал ли он в самом деле клятву борьбы с римлянами или только борьбы за прогресс Карфагена, каковой прогресс, конечно, в последнем счете повредил бы Риму? Нельзя ли понимать слово борьба не так «узко»? Г-н Р. Н. С. думает, что можно. Борьба с самодержавием – так следует из сопоставления Аннибаловой клятвы с текстом приведенной тирады – проявляется в разных «формах»: одна форма – это борьба революционная, нелегальная, другая форма – это вообще «борьба за политический и общественный прогресс», т. е., другими словами, мирная, легальная деятельность, насаждающая культуру в рамках, дозволенных самодержавием. Мы нисколько не сомневаемся в том, что и при самодержавии возможна легальная деятельность, двигающая вперед российский прогресс: в некоторых случаях довольно быстро двигающая прогресс технический, в немногих случаях весьма незначительно – прогресс общественный, в совершенно исключительных случаях и в совершенно миниатюрных размерах – прогресс политический. Можно спорить о том, насколько именно велик и насколько возможен этот миниатюрный прогресс, насколько единичные случаи такого прогресса способны парализовать то массовое политическое развращение населения, которое производится самодержавием повсюду и постоянно. Но подводить, хотя бы и косвенно, мирную легальную деятельность под понятие борьбы с самодержавием – значит содействовать этому развращению, значит ослаблять и без того бесконечно слабое в русском обывателе сознание своей ответственности, как гражданина, за все, что делает правительство.
К сожалению, г. Р. Н. С. не одинок среди нелегальных писателей, пытающихся стереть разницу между революционной борьбой и мирным культурничеством. У него есть предшественник, г. Р. М., автор статьи «Наша действительность» в знаменитом «Отдельном приложении к «Рабочей Мысли»»{37} (сентябрь 1899 г.). Возражая социал-демократам-революционерам, он писал: «Ведь и борьба за земское и городское общественное самоуправление, и борьба за общественную школу, и борьба за общественный суд, и борьба за общественную помощь голодающему населению и т. д. есть борьба с самодержавием… Эта общественная борьба, по какому-то странному недоразумению не обращающая на себя благосклонного внимания многих русских революционных писателей, как мы видели, уже ведется русским обществом и не со вчерашнего дня… Настоящий вопрос в том, как этим отдельным общественным слоям… вести эту борьбу с самодержавием возможно успешнее… А главный для нас вопрос: как должны вести эту общественную борьбу с самодержавием наши рабочие, на движение которых наши революционеры смотрят как на лучшее средство ниспровержения самодержавия» (стр. 8–9). Как видите, г. Р. М. не считает нужным и прикрывать свою антипатию к революционерам; легальную оппозицию и мирную работу он прямо объявляет борьбой с самодержавием и даже главным считает вопрос, как должны рабочие вести «эту» борьбу. Г-н Р. Н. С. далеко не так примитивен и не так откровенен, но родственность политических тенденций у нашего либерала и у крайнего поклонника чисто рабочего движения проглядывает довольно ясно[24].
Что касается до «объективизма» г. Р. Н. С, то мы должны заметить, что он иногда и прямиком отбрасывает его. Он остается «объективным», когда говорит о рабочем движении, об его органическом росте, о грядущей неизбежной борьбе революционной социал-демократии с самодержавием, о том, что организация либералов в нелегальную партию будет неизбежным результатом упразднения земства. Все это изложено очень деловито и очень трезво, настолько трезво, что можно радоваться распространению в либеральных кругах правильного понимания рабочего движения в России. Но когда г. Р. П. С. начинает говорить не о борьбе с врагом, а о возможном «смирении» врага, – он сразу теряет свой «объективизм», выражает свои чувства, переходит даже от изъявительного наклонения к повелительному.
«Только в том случае дело не дойдет до конечной и кровавой борьбы революционной России с самодержавно-бюрократическим режимом, если среди власть имущих окажутся лица, у которых найдется мужество – смириться перед историей и смирить перед ней самодержца… Несомненно, что среди высшей бюрократии есть лица, не сочувствующие реакционной политике… Они, единственные лица, имеющие доступ к престолу, никогда не решаются громко высказывать свои убеждения… Быть может, однако, огромная тень неизбежной исторической расплаты, тень великих событий внесет колебания в правительственную среду и вовремя разрушит железный строй реакционной политики. Для этого теперь нужно сравнительно немного… Быть может, оно (правительство) не слишком поздно поймет также фатальную опасность охранения самодержавного режима всеми средствами. Быть может, оно, еще не встретившись с революцией, само утомится своей борьбой с естественным, исторически необходимым развитием свободы и поколеблется в своей «непримиримой» политике. Перестав быть последовательным в борьбе со свободой, оно будет вынуждено все шире и шире раскрывать ей двери. Быть может… нет, не только может быть, но да будет так!» (Курсив автора.)
Аминь! остается нам только сказать по поводу этого благонамеренного и возвышенного монолога. Наш Аннибал так быстро прогрессирует, что выступает уже перед нами в третьей форме: первая форма – борьба с самодержавием, вторая – насаждение культуры, третья – призывы к смирению врага и попытки запугать его «тенью». Какие страсти! Мы вполне согласны с почтенным г. Р. Н. С. в том, что «теней»-то святоши русского правительства скорее всего на свете испугаются. И непосредственно пред этим заклинанием теней наш автор, указавши на рост революционных сил и на грядущий революционный взрыв, восклицал: «С глубокой скорбью мы предвидим те ужасные жертвы и людьми и культурными силами, которых будет стоить эта безумная агрессивно-консервативная политика, не имеющая ни политического смысла, ни тени нравственного оправдания». Какую бездонную пропасть доктринерства и елейности приоткрывает такой конец рассуждения о революционном взрыве! У автора нет ни капельки понимания того, какое бы это имело гигантское историческое значение, если бы народ в России хоть раз хорошенько проучил правительство. Вместо того, чтобы, указывая на «ужасные жертвы», принесенные и приносимые народом абсолютизму, будить ненависть и возмущение, разжигать готовность и страсть к борьбе, – вместо этого вы ссылаетесь на будущие жертвы, чтобы отпугнуть от борьбы. Эх, господа! Лучше уж вовсе не рассуждать о «революционном взрыве», чем портить это рассуждение подобным финалом. Делать «великие события» вы, очевидно, не хотите, а хотите только разговаривать о «тени великих событий», да и разговаривать-то с одними «лицами, имеющими доступ к престолу».







