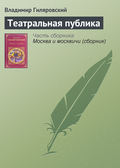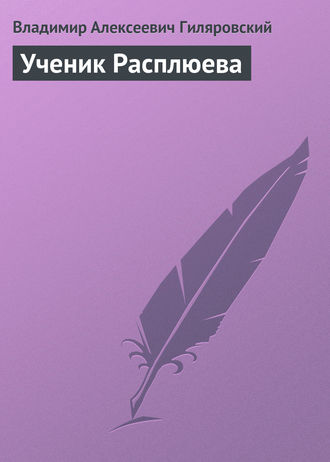
Владимир Гиляровский
Ученик Расплюева
И он, держа колоду в руках, показывал мне поразительные вещи, делая неуловимые вольты перед моими глазами и передергивая так, что невозможно было заметить. А тасовал он так, что карты насквозь проходили и ложились в том же порядке, как первоначально.
– Вот это – искусство!..
Я смотрел на чудеса его рук – и не мог понять, каким образом все это у него выходило.
– Ведь я, кроме карт, всю жизнь ничем не занимался… Если мне выпустить из рук карты на неделю, так шабаш… «Свадьбу Кречинского» помните? Уж на что был искусник Михаил Васильевич Кречинский, а занялся не своим делом, на фармазонство перешел, булавку сменил, как последний подкидчик, ну и пропал! За чужое дело не берись!
– Да ведь это на сцене, – возразил я.
– Нет, в жизни! Фамилия только другая, а он самый у нас в Ярославле жил. За графа Красинского считался, уважением пользовался, а потом оказалось, что это вовсе не граф, а просто варшавский аферист и шулер, шляхтич Крысинский. Одну буковку в паспорте переправил, оказалось…
– И вы знали его в Ярославле?
– Нет, я тогда еще мальчуганом был, а вот мой учитель по игре, Елисей Антонович, вместе с ним работал… С него-то Сухово-Кобылин Расплюева, как с живого, списал, да и Кречинского списал с графа, тоже с натуры. Он был выслан после истории с булавкой из Петербурга в Ярославль, здесь сошелся с Елисеем Антоновичем – фамилии его не помню, кажется, из духовного звания он был или из чиновников… Все это я узнал через много лет. Жили они в Ярославле, а на добычу вдвоем отправлялись – разъезжали по ярмаркам, по городам и усадьбам, помещиков обыгрывали. Потом уж разузнали, что граф был липовый и что в графы его, как в «Свадьбе Кречинского» говорится, «пиковый король жаловал».
Я по целым часам иногда слушал Попова, увлекшегося воспоминаниями, вынимал книжку, начинал записывать.
– Не надо, не пишите! – просил он. – Лучше сам я этим займусь. Зимой делать-то нечего, вот я и опишу всю свою жизнь с самого детства, все, что видел, всех, с кем дело имел. А потом вы выберете оттуда, что надо, – и печатайте. У меня родни никакой нет, некому будет обижаться на меня. Печатайте, как есть, с полной фамилией… Может, еще найдется и такой человек, который меня добрым словом вспомнит, – ведь всякое в жизни моей бывало.
А я все-таки записал и запомнил много из рассказов Николая Васильевича. Так продолжалось три лета.
Потом началась война, затем революция; старик все время жил в деревне и время от времени присылал мне пакеты с рукописями на листках клетчатых блокнотов, которые я оставил ему. Наконец в 1919 году сам привез мне последнюю рукопись под названием «Исповедь шулера», а через год умер от сыпняка. Начиналась рукопись так: «У каждого человека есть своя книга жизни. Есть такая и у меня своя книжонка, которая просится, как исповедь, на свободу. Есть в начале ее грязные пятна, которые я не в силах отчистить, – моя горделивость страдала – я долго ее не мог побороть, но я все-таки ее поборол»…
Из записок Попова и из его рассказов во время наших бесед на даче выяснилось, как он стал игроком. Отец Николая Васильевича, кожевник, умер, когда мальчику было лет десять. У них был где-то на окраине Ярославля небольшой домишко с садиком и огородом, с воротами, выходившими на немощеную улицу, а на воротах висела деревянная дощечка с нарисованным на ней ведром. У соседнего домика, такого же маленького, но с большим яблоневым и ягодным садом, на дощечке был изображен ухват; по другую сторону улицы на ломике столяра висела дощечка с изображением швабры.
Означало это, что на каждый пожар домовладельцы должны были являться с назначенными им вещами: мать Попова с ведром, столяр со шваброй.
«Мать моя была тогда еще совсем молодая и, рано овдовев, так ни за кого второй раз замуж и не вышла, до самой своей смерти не оставляла меня, и скончалась старушка в Москве, у меня на руках. Одиноко мы в Ярославле жили на крохи, оставленные отцом, да на доход с огорода. Знакомых мать не заводила, только соседи Кудимыч с женой, пожилые уже, но крепкие, здоровые старики, и бывали у нас. Детей они не имели, а квартировал у них некий Плакида, державший бильярдную в трактире «Русский пир», против Николо-Мокринских казарм. Об этом я узнал уже гораздо позднее, а в первые годы сиротства я не понимал, что такая и за штука – бильярд.
Фамилия Кудимыча была Анкудинов, как и стояло под изображением ухвата, – ну и звали его все Кудимычем. А то еще за глаза Коровой звали. Он ездил зимой по ярмаркам, а летом по Волге, чем-то торговал, как говорили, но в нашем городе он ничего не делал, сидел дома, лишь иногда в гости ходил. Дома всегда Кудимыч ходил в опорках и ситцевой рубахе, а отправляясь в гости, надевал бархатный жилет, долгополый мещанский сюртук и сапоги с голенищами гармоникой, причем так, бывало, начищал их ваксой, что они, как зеркало, блестели. Щеголь был, хоть и старик… Меня и он и жена его любили, давали гостинцы, ягоды из своего сада.