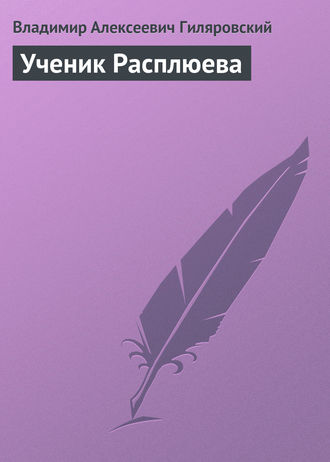
Владимир Гиляровский
Ученик Расплюева
– Разрешите только мне иногда подходить к вам – я знаю, когда можно…
В конце концов мы сыграли партию на бильярде, и я, хорошо игравший, остался на пятидесяти очках, когда он закончил партию дуплетом.
– Хорошо играете, – сказал он мне, и мы разошлись.
В течение следующих десяти лет мы встречались раза три. Однажды по моей усиленной просьбе он сказал мне пароль-пропуск на шикарную «мельницу» Цапли-Орловского, где я видел знаменитую метку Попова, конечно, и виду не подав, что мы знакомы, а потом лет десять не видал его и забыл даже о его существовании в суете своей работы и из-за частых отъездов из Москвы.
Как– то раз в апреле 1912 года я присел на скамейку Нарышкинского сквера и, просмотрев газету, собирался уже встать, когда рядам со мной опустился на скамейку высокий старик с густой седой бородой, в потрепанном пальто и в вылинявшей фетровой шляпе.
– Владимир Алексеевич, вот я сам теперь подошел к вам… Узнали? Попов. Позвольте с вами посидеть?
– Пожалуйста, рад вас видеть, Николай Васильевич.
– Вот теперь и я вижу по глазам вашим, что будто вы рады меня видеть… Жалеете, вижу, меня… Ну, каков я?…
– Постарели, Николай Васильевич.
– Да, теперь я опять Николай Васильевич Попов и похож больше уж не на Кречинского, а на Расплюева после трепки докучаевской.
– Ничего, это дело поправимое, – успокоил я его.
Вздохнул старик и указал своей все еще по-прежнему мягкой и белой рукой на противоположную сторону бульвара:
– Видите этот домик? Видите герб наверху?
– Вижу.
– Этот домик когда-то принадлежал тому, кто придумал фамилию Кречинский, Сухово-Кобылину. Это все старые игроки знают. Ведь у нас, игроков, самая любимая пьеса «Свадьба Кречинского» – ну и об авторе ее не раз мне приходилось слышать… и дом этот мне указывали. Много разговоров было. Старик Шелье лично знал Сухово-Кобылина, вместе с ним после убийства содержался под шарами в Тверской части. Шелье тоже хоть и шулер, а фамилии барской был, его тоже не в клоповник, а на гауптвахту посадили поэтому, в отдельную камеру.
День был теплый. Солнышко так и жарило.
– Хорошо на солнышке. Одна радость осталась – солнышко. Я каждый день хожу сюда кости погреть.
Разговорились дальше.
– Лет десять, как я бедствую… В комнатушке приютился…
Я насилу уговорил старика зайти ко мне пообедать. Чуть не силой привел… После обеда я упросил его, и упросил с большим трудом, взять денег на пальто и обувь и записал его адрес: угол Садовой и Каретного ряда…
Через два или три дня я зашел к нему. Он жил в сыром флигеле во дворе, комнатка была мрачная, облезлая. Сам Попов, чистенько одетый, подстриженный, в хорошем пальто, пил с калачом чай из кружки и жестяного чайника.
Я увел его к себе обедать. Моим домашним он понравился, я выдал его за моего старого друга юности.
Недели через две мы пригласили его провести у нас лето на даче. За лето старик поправился, порозовел и все радовался… Всему радовался, а больше всего солнышку. Все мои домашние его полюбили. Обедал он вместе с нами, а жил отдельно, в комнатке во флигельке.
– В первый раз в жизни счастливым стал, никто-то здесь меня не знает. А хорошо то, что хорошо забыто.
В Москву Попов не поехал, остался зимовать во флигельке, а потом среди зимы перебрался в соседнюю деревню в избу, да и застрял там. Летом он пользовался нашим столом, а зимой я посылал ему провиант из города.
Жили мы с ним по-хорошему. Дома при всех разговор у нас был один, а когда мы с ним вдвоем гуляли в лесу или я заходил в его комнатку – разговоры бывали другие: старину вспоминали…
– Лет десять я до этого рая здешнего бедствовал. Сперва умерла мать, до глубокой старости добрая была, а потом моя Эммочка, тридцать лет мы с ней невенчанные жили, у нее муж в Ревеле остался. А потом без них все опротивело, и жизнь – и даже что?! – игра опротивела, игра, которую я больше всего любил…
На столе у Николая Васильевича всегда лежали две-три колоды карт, и во время разговоров он не выпускал их из рук.
– Все опротивело… Игра опротивела… Опустился я…
У него была какая-то своя профессиональная шулерская гордость, и она выявлялась иногда во время разговоров. Он воодушевлялся, красивые черные глаза его начинали сверкать, а в руках карты и прыгали, и вертелись, и трещали, и, как ветер, шумели…
– Разве теперь игроки! Портяночники! Шантрапа!.. Прежде было искусство, а теперь? Ишь какое искусство – прометать готовую накладку!.. А подсунуть ее в десять колод железки всякий фармазонщик сумеет… Ни ума, ни искусства тут не нужно. Любой лапотник промечет. А прежде требовались и метка, и складка, и тасовка сквозная. – Он распустил карты веером, перетасовал их, и все карты оказались лежащими в прежнем, но обратном порядке. – А сколько разных авантажей – всех их знать надо было. А банки – «кругляк», «девяти-абцужник», последний – когда девять карт из тринадцати бьются, а «кругляк» – когда бьются все подряд.







