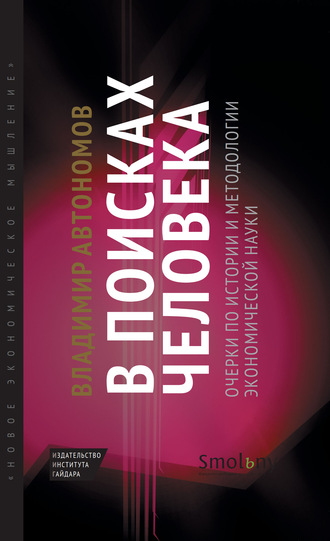
Владимир Автономов
В поисках человека. Очерки по истории и методологии экономической науки
2. Историческая эволюция модели экономического человека
Модель человека в экономической науке претерпевала значительные изменения вместе с развитием самой науки. Некоторые ее элементы подверглись уточнению, от других экономисты отказались, сочтя их излишними. Основным этапам и закономерностям этой эволюции посвящена данная глава.
Как уже подчеркивалось, модель человека является важнейшей составной частью методологии экономического исследования как дескриптивной, так и нормативной[116]. Однако взаимосвязь между развитием теории и методологии экономического анализа является достаточно сложной. Как правило, экономист-теоретик никогда специально не задается целью усовершенствовать общепринятую в своей науке модель человека. Окружающая его экономическая действительность ставит перед ним конкретные вопросы, и, отвечая на них, он осознанно или неосознанно, вольно или невольно опирается на то или иное представление о человеке. Часто бывает так, что теорию, исходящую из новой модели человека, изобретают одни, а саму эту модель в отчетливом виде формулируют другие теоретики.
Иногда экономисты (Дж. С. Милль, К. Менгер, М. Фридмен и др.) в специальных методологических трактатах или главах подытоживают определенный период развития экономической теории и формулируют некоторую нормативную методологию экономических исследований (включая модель экономического человека). Однако эти трактаты не во всем соответствуют теоретической деятельности даже их собственных авторов. Подобное расхождение заявленной (эксплицитной) методологии и фактической, но не высказанной (имплицитной) само по себе весьма интересно и во многом характеризует специфику экономической науки. Как правило, оно бывает вызвано несовпадением идеального образа экономической науки, либо выстроенного по стандартам естественных наук, либо нацеленного на учет всего многообразия факторов, влияющих на хозяйственное поведение человека, с особенностями реальной экономической теории, занимающей в известном смысле промежуточное место между естественными и социальными науками. Эволюция эксплицитной методологии экономической теории обладает относительной самостоятельностью от развития самой теории, в частности, на нее оказывает влияние преобладание той или иной модной школы в теории познания. Эволюция имплицитной методологии неотделима от эволюции экономической теории.
Как эксплицитная, так и имплицитная методология экономического анализа обычно становится объектом научной дискуссии только в те периоды, когда экономическая наука испытывает кризис, в ней происходит столкновение различных школ и направлений исследований. Поэтому история экономической методологии гораздо более дискретна, чем история экономической теории.
Как правило, исследователи, стремящиеся описать историю экономического человека, ограничиваются именно эксплицитной методологией – словесными высказываниями, непосредственно характеризующими модель человека в экономическом анализе, или уделяют ей преимущественное внимание, поскольку она гораздо более доступна[117].
Однако такой подход отрывает методологические вопросы от развития самой экономической науки, лишает нас возможности понять неизменно существующую связь между моделью человека и задачами, которые решает экономическая теория, в то время как сама проблема в значительной степени диктует методологический подход к ее решению.
В силу вышеизложенных соображений эволюция экономического человека будет в данной работе исследована в обоих аспектах: через историю как эксплицитной, так и, в первую очередь, имплицитной методологии экономической науки.
2.1. Английская классическая школа
2.1.1. Предыстория
Отправной точкой нашего анализа будут труды представителей английской классической школы и в первую очередь «Богатство народов» Адама Смита. Разумеется, всякий выбор момента, когда «началась» научная политическая экономия, условен. Элементы экономической теории и связанные с ними представления о хозяйственном поведении человека можно найти уже у Аристотеля и средневековых схоластов [Шумпетер, 2001; Whittaker, 1940]. Но в эпоху Античности и Средневековья экономика не была еще самостоятельной подсистемой общества, а являлась функцией его социальной организации [Polanyi, 1944, р. 49]. Соответственно сознание и поведение людей в области экономики подчинялось или, по крайней мере, обязано было подчиняться, с точки зрения трактовавших хозяйственные проблемы авторов, моральным и (особенно для Средневековья) религиозным нормам, существующим в обществе и подкрепленным властью и авторитетом государства. Как пишет А. В. Аникин, «основной вопрос состоял в том, что должно быть в экономической жизни в соответствии с буквой и духом Писания» [Аникин, 1985, с. 42]. Из этого, конечно, не следует, что реальная мотивация людей и ее отличия от нормативной мотивации, диктовавшейся религией и моралью, не проникали в труды мыслителей Античности и Средневековья. Наблюдения относительно того, что скупость людей не знает предела, они стремятся покупать дешево, а продавать дорого и т. д., как и примеры более благородных мотивов, можно встретить и у Аристотеля, и у Августина. Но наблюдения эти не выходят за рамки здравого смысла, на них не основаны никакие теоретические выводы, которые можно было бы отнести к экономической науке. Для создания систематической описательной, а не нормативной экономической теории в докапиталистическую эпоху еще не было предпосылок.
Лишь становление рыночного хозяйства – первой экономической системы, не опирающейся на непосредственное принуждение, – и связанное с этим обособление экономической подсистемы общества создали предпосылки для научного исследования и систематизированного описания хозяйственной деятельности людей. Выделение политической экономии из общей дисциплины, называемой моральной философией, произошло благодаря особой модели человека, которая легла в основу новой самостоятельной науки. Главным моментом этой модели была специфическая мотивация: собственный интерес или стремление к богатству как главный мотив поведения. Основополагающая роль в этом процессе принадлежит книге «Богатство народов» А. Смита. Но прежде чем перейти к непосредственному изложению модели Смита, целесообразно остановиться на его основных теоретических и методологических предшественниках.
«Богатство народов» Смита продолжало долгий спор о соотношении частных интересов и общего блага, участниками которого были английские экономисты и философы XVII–XVIII вв. Экономическая мысль предшествовавшей и современной Смиту эпохи была главным образом представлена трактатами меркантилистов. Эти произведения носили более нормативный, чем дескриптивный характер. В центре их внимания была фигура не рядового экономического субъекта, а законодателя, но и он понимался скорее как идеальный властитель, чем как политик, действующий в реальных условиях[118]. Собственный интерес его подданных признавался, но обсуждению подлежали лишь условия, на которых он может разрешить им действовать по собственному усмотрению, в соответствии с их природными эгоистическими наклонностями, которые законодатель должен подчинить интересам государства и держать в узде.
Виднейший представитель позднего меркантилизма Дж. Стюарт в книге «Исследование основ политической экономии» (1767) писал: «Принцип собственного интереса… будет ведущим принципом моего предмета… Это единственный мотив, которым государственный деятель должен пользоваться, чтобы привлечь свободных людей к планам, которые он разрабатывает для своего правительства». И далее: «Общественный интерес (public spirit) настолько же излишен для управляемых, насколько он обязан быть всесильным для управляющего» [цит. по: Mitchell, 1949, р. 21]. Таким образом, некоторые экономисты меркантилистского толка уже использовали модель человеческой мотивации, характерную для смитовского «Богатства народов», но делали на ее основе выводы, противоположные выводам Смита: человек несовершенен (эгоистичен), поэтому его надо направлять к общему благу.
Принцип собственного интереса можно найти и в трудах оппонентов меркантилизма – французских физиократов. Так, Кенэ пишет, что «совершенство хозяйственной деятельности состоит в том, чтобы при наибольшем сокращении расходов получить наибольшее приращение выгоды» [цит. по: Жид, Рист, 1995, с. 23]. При этом, согласно Кенэ, «сущность порядка такова, что частный интерес одного никогда не может быть отделен от общего интереса всех» – отсюда и знаменитый лозунг «laissez faire» [там же]. Однако естественный порядок, о котором идет речь, – это идеал, который должен быть открыт изобретательным умом и реализован просвещенным деспотизмом, тогда как в «Богатстве народов» те же выводы делаются относительно реально существующей экономики.
Но наиболее остро проблема частных интересов и общественного блага была поставлена все же не экономистами, а философами в контексте теорий общественного договора. Великий английский философ Т. Гоббс в своей книге «Левиафан» (1651) назвал собственный интерес людей самой могущественной и самой разрушительной человеческой страстью [Гоббс, 1991]. Вообще представление о том, что человек движим страстями и необузданными порывами присуще не только Гоббсу, но и Спинозе и другим философам той эпохи. Отсюда – «война всех против всех», единственный выход из которой может состоять в том, чтобы люди отдали часть своих прав авторитарному государству, защищающему их от самих себя.
С тех пор на протяжении столетия британские философы-моралисты – Р. Камберленд, А. Шефтсбери, Ф. Хатчесон и др. – пытались опровергнуть постулированный Гоббсом антагонизм интересов индивида и общества с помощью различных логических построений. Суть их аргументов можно сформулировать так: человек не настолько плох, чтобы нуждаться в неусыпном контроле со стороны государства. Эгоистические мотивы в его поведении уравновешены альтруизмом и дружескими чувствами. Среди этих философов мы встречаем Дж. Локка, учителя Смита Ф. Хатчесона и самого Смита – автора трактата «Теория нравственных чувств» (1759; см. ниже).
Но наиболее близким предшественником Смита в вопросе о соотношении частных и общественных интересов (хотя сам Смит никогда бы этого не признал) можно считать Бернара Мандевиля, автора знаменитого памфлета «Басня о пчелах» (1723), в котором весьма убедительно доказывается связь между частными пороками, создающими рынок сбыта для многих товаров и источник существования для их производителей, и общим благом. Мандевиль показал, что помимо государственного принуждения существует другой способ «приручить» разрушительные человеческие страсти, связанные с эгоистическими интересами, и поставить их на службу обществу. Этот способ заключается в экономической деятельности[119]. В результате определенные «страсти», ранее считавшиеся предосудительными: жадность, стяжательство, стремление к выгоде, – приобретают привилегированный статус под именем интересов [Hirschman, 1977].
Таким образом, Мандевиль в эпатирующей художественно-полемической форме формулирует тезис, положенный в основание «Богатства народов»: люди эгоистичны, но тем не менее государство не должно вмешиваться в их дела – достаточно обеспечить свободное функционирование экономики [Аникин, 1985, с. 117–121]. Хотя моральная позиция Мандевиля была для Смита неприемлемой, его идейное влияние на автора «Богатства народов» едва ли можно подвергнуть сомнению.
Из методологических влияний на автора «Богатства народов» прежде всего следует упомянуть методологию физического исследования И. Ньютона, согласно которой главная роль принадлежит дедукции из нескольких основных абстрактных положений, дополняемой конкретными особенностями по мере приближения к практике. Не случайно единственный труд Смита по вопросам методологии был посвящен именно истории метода в астрономии. Идея о том, что Ньютонова механика должна послужить образцом для методологии общественных наук, в XVIII в. получила широкое распространение. Так, Гельвеций в трактате «Об уме» (1758) сопоставлял роль, которую играет принцип собственного (эгоистического) интереса в жизни общества, с ролью закона всемирного тяготения в неживой природе[120].
2.1.2. Адам Смит
Таким образом, идея экономического человека как человека, руководимого собственным интересом, в конце XVIII в. просто носилась в европейском воздухе. Но нигде и ни у кого она не была сформулирована настолько отчетливо, как в «Богатстве народов». Вместе с тем Смит стал первым экономистом, положившим определенное представление о человеческой природе в основу целостной теоретической системы[121].
В самом начале «Богатства народов» он пишет о свойствах человека, налагающих отпечаток на все виды его хозяйственной деятельности [Смит, 1962, с. 27–29]. Во-первых, это «склонность к обмену одного предмета на другой» (подобная предпосылка позволяет Смиту объяснить обмен эквивалентов, а не предметов, имеющих разную ценность для продавца и покупателя, как у Госсена и австрийской школы); во-вторых, собственный интерес, эгоизм, «одинаковое у всех людей постоянное и неисчезающее стремление улучшить свое положение» [там же, с. 253]. Эти свойства взаимосвязаны: в условиях широкого развития обмена невозможно установить с каждым из партнеров личные отношения, основанные на взаимной симпатии. Вместе с тем обмен возникает именно потому, что даром получить нужные предметы у эгоистичного по природе соплеменника невозможно[122].
Отмеченные свойства человеческой природы имеют у Смита важные экономические последствия. Они лежат в основе системы разделения труда, где индивид выбирает такое занятие, при котором его продукт будет иметь большую ценность, чем в других отраслях. «Каждый отдельный человек постоянно старается найти наиболее выгодное приложение капитала, которым он может распоряжаться. Он имеет в виду собственную выгоду, а отнюдь не выгоды общества» [Смит, 1962, с. 331].
Однако Смит в отличие от Гоббса и меркантилистов не противопоставляет частный интерес общему благу («богатству народов»). Дело в том, что это богатство равно, по Смиту, сумме ценностей, созданных во всех отраслях хозяйства. Таким образом, выбирая отрасль, где его «продукт будет иметь большую стоимость, чем в других отраслях», человек, ведомый эгоистическим интересом, самым непосредственным образом увеличивает богатство общества [там же, с. 265–276]. Когда же приток капитала из других отраслей в более рентабельную достигнет такого уровня, что ценность товаров в последней начнет падать и ее сравнительная выгодность исчезнет, собственный интерес начинает направлять владельцев капитала в другие сферы его приложения, что опять-таки в интересах общества. Смит не доказывает строго тезис о совпадении общего интереса и интересов всех членов общества, ограничиваясь метафорой «невидимой руки». Однако очевидно, что автоматический, не требующий государственного вмешательства межотраслевой перелив капитала, движимый собственным интересом его владельцев, играет в схеме Смита исключительно важную роль. Именно здесь Смит непосредственно использует сформулированную им вначале предпосылку, касающуюся человеческой мотивации.
Рассматривая роль, которую играет мотив собственного интереса у Смита, мы не можем обойти проблему, с которой сталкиваются все исследователи его творчества. Дело в том, что основанная на собственном интересе модель человеческой мотивации в «Богатстве народов», казалось бы, не согласуется с ее трактовкой в первом большом произведении Смита – «Теории нравственных чувств» (1759)[123]. Здесь Смит подчеркивает, что поведение человека направляется «симпатией», то есть умением поставить себя на место другого (в современной психологии это качество называется эмпатией) и желанием заслужить одобрение «беспристрастного наблюдателя». Собственный интерес при этом не отрицается, но Смит подчеркивает его ограниченность: он оперирует только в рамках «справедливого». Однако противоречие между Смитом-моралистом и Смитом-экономистом во многом кажущееся[124]. С одной стороны, Смит утверждает, что «не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов» [Смит, 1962, с. 28] именно потому, что развитая система разделения труда ставит нас в отношения с людьми, к которым мы можем не испытывать симпатии. Таким образом, этика у Смита невозможна без учета собственного интереса, тогда как политическая экономия вполне может обойтись без учета чувства симпатии. С другой стороны, и в «Богатстве народов» Смит отнюдь не идеализирует эгоизм владельцев капитала: он хорошо понимает, что собственный интерес капиталистов может заключаться не только в производстве выгодных продуктов, но и в ограничении аналогичной деятельности конкурентов. Он даже отмечает, что норма прибыли, как правило, находится в обратной зависимости от общественного благосостояния и поэтому интересы купцов и промышленников в меньшей степени связаны с интересами общества, чем интересы рабочих и землевладельцев. Более того, этот класс «обычно заинтересован в том, чтобы вводить общество в заблуждение и даже угнетать его» [Смит, 1962, с. 195], пытаясь ограничить конкуренцию. Но если государство поддерживает свободу конкуренции, то собственный интерес может объединить разрозненно действующих эгоистов в упорядоченную систему, обеспечивающую общее благо. Таким образом, Смит демонстрирует, что даже при самых худших предположениях относительно человеческой природы рыночная экономика, основанная на свободной конкуренции, все равно дает лучший результат, чем принудительная регламентация экономической деятельности[125]. Так Смит развязывает узел, образованный переплетением личных и общественных интересов.
Изложенная нами схема того, как работает мотив личного интереса в теоретической системе Смита, не должна создавать впечатления, что мотивация экономического поведения понимается автором «Богатства народов» чисто абстрактно. Смит выводит своего движимого собственным интересом субъекта не из умозрительных соображений о природе человека, а из своих наблюдений за окружающим его реальным миром. В «Богатстве народов» еще нет резкого отделения теории от эмпирии. Так, Смит не сводит собственный интерес людей к получению денежных доходов наподобие максимизации прибыли: на выбор занятий помимо заработка влияют также приятность или неприятность занятия, легкость или трудность обучения, постоянство или непостоянство занятий, больший или меньший престиж в обществе и, наконец, большая или меньшая вероятность успеха. Скажем, люди, занимающиеся неприятным, презираемым обществом делом – мясники, палачи, кабатчики, – вправе претендовать на большую прибыль, и т. д. [Смит, 1962, с. 88–89]. О широкой трактовке Смитом мотива собственного интереса свидетельствует и пример, приводимый С. Холландером: Смит пишет, что, хотя рабство всегда менее эффективно, чем система наемного труда, в ряде случаев, там где разница в рентабельности не так велика, землевладельцы предпочитают использовать рабов, поскольку это удовлетворяет их «любовь к доминированию». Вместе с тем в американских колониях Англии труд рабов применяется именно там, где он экономически более выгоден (на плантациях табака и сахарного тростника), а там, где это не так (при выращивании зерновых), рабы отпускаются на свободу, так что в целом собственный материальный интерес все же пересиливает стремление к власти [Hollander, 1987, р. 315–316].
Перечисленные Смитом дополнительные факторы компенсируют неравенство доходов и тоже входят в целевую функцию экономического субъекта. Смит различает также интересы и цели представителей основных классов современного ему общества: собственников земли, наемных рабочих и капиталистов.
Столь же реалистичен подход Смита и к другим компонентам модели человека: его интеллектуальным способностям и информационным возможностям. Индивид, согласно Смиту, далеко не всегда может предвидеть последствия своих поступков. Более всего он компетентен в том, что затрагивает его личные интересы. Он лучше, чем кто-либо другой, в том числе и государственный чиновник, способен идентифицировать свой собственный интерес. Эта идея имела особое значение в полемике Смита с меркантилистами, и она составляет основной мотив «Богатства народов»: «Государственный деятель, который попытался бы давать частным лицам указания, как они должны употреблять свои капиталы, обременил бы себя совершенно излишней заботой» [Смит, 1962, с. 332–333].



