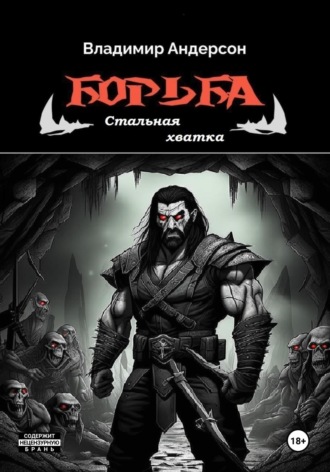
Владимир Андерсон
Борьба: Стальная хватка (книга пятая)
Префект
Сон длился долго. Собственно, это был даже не сон, а какой-то другой мир, где все вокруг существует не таким, каким обычно привык его видеть. Мир, в котором жив и Рафаил, и рядом с ним его жена, и их ребенок. Уже подросший и смотрящий такими живыми и полными чего-то нового глазами. Того нового, что может дать ему его дед. Дед, до сих пор являющийся префектом.
Столько раз эти мысли кружились по кругу, и остановились они только на слове «префект». Да. Это он. И никто другой им быть не может. Никто другой не способен даже думать о том, чтобы быть на этом месте. Оно создано им, для него, и ни для кого другого. Все остальные лишь составные части, шестеренки того механизма, в котором он есть мозг. Без мозга ни один организм жить не может, и делом всего организма является прежде всего сохранение мозга. Погибнет мозг – погибнет и весь организм.
Где-то снаружи Гора почувствовал свет. Немного другой, не тот, что был до этого раньше в течение этого долгого времени. Более простой свет, не способный открывать глаза, а только чтобы не мешать рассмотреть… Глаза его стали открываться. А вместе с глазами и сущность. Та сущность, что не позволяла ему проиграть.
Вокруг он сразу же узнал стены спальни одного из своих кабинетов. Эти стены нельзя было не узнать – сектор «Диза». Его колыбель. Там, где он восстал из пепла, чтобы дать людям свободу и безопасность. Да, именно об этом же он думал тогда, когда начинал все это. Никто не должен погибнуть случайно. Или от рук чумов. Никто.
Потом правила стал определять он. И никто не стал погибать вообще. Ни от чьих рук. Он помнил это очень хорошо… Та смертность, что была до этого перестала существовать как данность. Люди очень быстро стали другими, перестав видеть смерть.... Иногда они даже стали драться друг с другом. Те самые люди, которые еще вчера могли быть убиты ни за что, вдруг внезапно разучились ценить жизнь свою и окружающих. Просто потому что они перестал видеть смерть… Гора, установив эти новые правила, забыл о кое-чем очень важном. Том важном, что он понял, пока был в другом мире, воскрешая из мертвых.
Он повернул голову и увидел двоих человек из своей охраны. Один из них, увидев очнувшегося префекта, тут же выбежал из помещения, а потом медленно подошел к нему. Это был Коля Лесин, когда-то бывший в его же 381-й соме рабочих. Личную охрану Горы отбирали исключительно оттуда.
– Господин префект… – робко сказал он. По его глазам было видно, что он трепещет от одного взгляда живого руководителя целой группировки.
– Кому побежал докладывать твой напарник? – тут же спросил Гора.
– Доктору. – немного теряясь, ответил Коля. – Доктору Купавскому.
По крайней мере, пока все устроено как надо. Когда-то Гора распорядился их лучшего врача оставить в качестве практикующего для всего сектора, а не личного для себя. Квалификация его была слишком высока для того, чтобы он лечил одного только человека, а не несколько тысяч. Но времена очевидно менялись, и ему точно потребуется свой личный доктор. Которому, по понятным причинам, нельзя будет контактировать с другими пациентами.
– Дай мне свой пистолет.
Коля сначала оглянулся на него – крепко держащийся в кобуре ТТ-33 был дополнением к основному оружию охранных отрядов – АК-74СУ. Ещ когда подразделения формировали был выбор межу тем, что им выдавать, как дополнение. То есть то оружие, которое, по сути, они использовать не будут, а, скорее, для статуса. На выбор были пистолет Макарова (ПМ), Токарева (ТТ) или Стечкина (АПС). И, хоть по всем показателям АПС был несраненно лучше всех остальных, тогда лично Гора выбрал ТТ – этот пистолет был легендарным, времен Великой Войны, и той власти, которую он считал образцовой для себя. Особенно теперь. Когда пережил очередное покушение на себя.
Получив пистолет, Гора вытащил обойму, проверил патроны, затем вставил ее обратно, аккуратно передернул затвор и положил его под подушку. Настало время, когда надо особенно думать о том, что оружие для его положения далеко не бывает.
Затем он, вытащив ноги из-под одеяла, положил их на пол. Силы в них чувствовалось немного, но она была. А большего ему и не требовалось. Рядом стояла капельинца с воткнутой в него иглой, которую он аккуратно вытащил и воткнул в матрас. Поднявшись, Гора подошел к шкафу, в котором была его одежда, открыл его, выбрал свой китель почти без знаков отличия, разве что с шефроном Самоуправления, состоящего из здоровенного клыка посередине и перекрещенных рабочих кирк. К кителю такого же темно-коричневого цвета брюки и черные сапоги.
К тому моменту, как он успел надеть сапоги вернулся второй охранник и доктор Купавский. Оба смотрели ошарашенно, хотя доктор пытался этого не показывать:
– Господин префект, Вам нельзя сразу так много двигаться, мы делали несколько переливаний крови, давление после такого очень нестабильно.
– Благодарю, доктор. – префект пристоил себе на вторую ногу сапог и, поднывшись, накинул на себя китель. – Теперь Вам надо будет изучать и анализировать мое здоровье все то время, что Вы здесь находитесь. Не отвлекаясь на что-то и кого-то. Считайте это Вашими постоянными и единственными обязанностями с этой минуты.
Гора подошел к своей кровати, вытащил пистолет из-под подушки, и посмотрел на него – да, для начала надо бы взять кобуру, так с ним в руке не очень-то солидно везде ходить:
– Коля, дай мне пока свою кобуру. В течение дня получишь себе новую.
Префект вышел из спальни и оказался в своем рабочем кабинете: рабочие стол и стул, шкаф, напичканный оружием, тумбочка с документами и здоровенное полотно с иозбражением автономии. Это его. Принадлежит ему. И никто другой не будет в состоянии этим пользоваться.
– Сколько сейчас охраны присутствует за дверью? – спросил Гора у Лесина, который выходил последним из троицы, оставшейся в спальне.
– Вся ваша охранная рота. Сто двадцать человек.
– Отлично. Без моего ведома никого не впускать. И найдите мне Тихомирова…
***
Сидя за своим рабочим столом, Гора осознавал правильную для него на данный момент реальность. Та власть, что он получил не так давно, стала давить на него своей массой. Причем вовсе не снаружи, как он того ожидал – все эти неловкие потуги извне вроде попытки прорваться инквизиторам в сектор «Корса» с поверхности или обстрел ремонтной бригады возле сектора «Диза». Все это детские игры по сравнению с тем, что происходило в той реальности, которая обволакивала его.
Эта реальность управления своим окружением. Ближним и дальним. И сейчас, если ближнее окружение, было в относительно контроле путем давления его заслуженного авторитета, то дальнее, народ, было весьма распущено. Люди знали Гору, понимали его характер действий и жесткость в принятии решений и их исполнения. Но все преимущества на этом заканчивались. Ведь его не боялись, как когда-то боялись чумов.
Да, он был единоличным обладателем власти нескольких производственных объектов и даже определенной части поверхности над ними. Да, его приказ был непререкаем и единственно, чему подлежал, так это исполнению. Да, все были уверены в стратегичности его мышления и твердости воли. Да, все боялись перечить или даже делать вид, что им что-то не нравится… Но уже никто не боялся его. И потерять ведь из-за этого тоже не боялись.
Та безопасность, которую дал им префект, расценивалась уже как что-то само собой разумеющееся. Как данность, которая может быть и будет без него. И именно этот посыл стал порождать неверные мысли. Ошибочные мысли. Опасные мысли. Те, которые не должны были быть по определению, но которые образовались, потому что надо было чем-то заполнить ваккум страха. А раз нет другого страха, то этот вакуум заполнится легкомыслием.
Да, именно ведь и бывает. Когда люди чего-то боятся очень долго. Это что-то исчезает, перестает давлеть над ними, и они начинают считать, что они справились. Причем сами. А раз сами, так они будут способны справиться с этим еще раз, если оно возникнет. И они расслабляются. Это и есть то самое легкомыслие, которое возникает на месте вакуума, где раньше был страх.
Вот оно. Откуда взялось это и прошлое покушение. Никто из народа не боялся потерять вождя. Не боялся остаться один на один с тем, чему раньше противостоял вождь. Ведь они стали считать это за пустяк. Никчемный пустяк, с которым справляется никчемный вождь, которого никто не боится… Людям очень свойственно принимать доброту за слабость, и именно это отношение вызывает необходимость стать для них страшным безжалостным деспотом, который не ценит ни их жизнь, ни их отношение, ни их потребности. Потому что теперь их потребностями и их жизнью станет железная необходимость сохранить жизнь вождю. И их отношение станет настолько ничтожным по своей значимости, что о нем просто забудут…
Теперь просто нельзя быть добрым и заботлимым, оставаясь живым. Либо придется прожертвовать жизнью, либо этими качествами. И люди сами не понимают, как важно пожертвовать вторым, чтоб сохранить в том числе и их жизнь. Ничто так не требует безопасности, как необходимость сохранять прежде всего жизнь. И ничто так не требует страха, как сама безопасность, которую без страха просто не ценят. Не видят, что она есть. Не хотят понимать, что она и есть та жизнь, которая у них есть.
В дверь постучали. Сначала зашел Лесин с докладом о прибытии Тихомирова, и только потом зашел сам Тихомиров после одобрения его входа. В нем что-то явно изменилось, что-то очень глубоко внутри, но это изменение, скорей, удивляло, чем настораживало. В этом чем-то не было какой-то конкуренции для него – словно сменился внутренний стержень, что, вероятно, заставляло его самого действовать по-другому. Это отражалось и в глазах, и в манере двигаться и даже в манере дышать.
– У нас много новостей, господин префект, – сразу начал Тихомиров.
– Присаживайся и давай по порядку. Начни с того, кто это был? Кто пытался всадить мне нож в горло?
Тихомиров присел на стул напротив Горы. Было видно, что ни страха, ни сомнений в нем нет. Только заранее выверенные шаги. Коих уже в его голове помещалась не одна тысяча.
– У нас только версии, господин префект. В сознание он так и не пришел, а цеплять не за что…
– Не придется его цеплять. Это ни к чему. Организуй публичную казнь через повешение.
– Господин префект…
– Я знаю, что ты хочешь сказать. Но нет. Это тоже ни к чему. А вот казнь его очень даже кстати. Пусть все полюбуются.
– Как прикажете, господин префект.
Гору все впечатляли качества человека, которого он когда-то выглядел из толпы. Он явно прогрессировал, причем очень быстро. Пока непонятно было, почему это происходит, но его результативность обнадеживала.
– На вот лучше посмотри на новый свод законов, которые я рапространю на этой неделе. – Гора протянул ему лист бумаги, на котором были от руки написано по пунктам «Права и обязанности Самоуправляемой территории». – Изучи прямо сейчас.
Права и обязанности Самоуправляемой территории
Каждый ответственнен своей жизнью за жизнь своего начальника
Невыполнение приказа своего начальника считается актом саботажа и карается на усмотрение начальника вплоть до смертной казни, утвержаемой только префектом
Сотрудники организации СМЕРШ вправе досматривать, задерживать и применять любые меры физического воздействия, если того требует необходимость, в отношении любого гражданина Самоуправляемой территории
Префект имеет право награждать, миловать и казнить любого гражданина Самоуправляемой территории без объяснения причин
Все усилия и меры, принимаемые гражданами, должны быть направлены исключительно на выполнение воли префекта
Никто не вправе даже в мыслях ставить под сомнение правильность действий префекта.
Открытое непринятие воли префекта считается актом саботажа
Тихомиров продолжал держать в руках этот лист бумаги, читая его, и даже глазом не моргнул, когда закончил это делать:
– Большинство из этих мер фактически я уже утвердил, господин префект. Здесь нет лишних слов, кроме одного. В последнем пункте слово «открытое» все же лишнее. Если в предыдущем пункте мы считаем, что и в мыслях нельзя быть против, то и саботажем мы тоже должны считать преступление даже в мыслях. Знаем мы об этом или нет, а должны считать преступлением.
Гора посмотрел на бумагу, затем на Тихомирова, затем слегка утвердительно покачал головой:
– Да. Ты прав… Слово «открытое» здесь ни к чему.
Инквизитор
Эта камера была еще меньше, чем то, где он сидел несколько дней назад. Эта вмещала в себя вообще лишь койку и помойное ведро. Ему вообще казалось, что надзиратели имеют какое-то особое отношение к ведрам – их нельзя просто выносить, чем-то прикрывать или хотя бы изначально наливать туда воду. Они неприкосновенно кроме того момента, когда ты в них испражняешься. Видимо, как-то так это выглядело в их голове.
Это была камера ШИЗО – штрафного изолятора, куда отправляли заключенных, нарушивших что-то грубо, либо по несколько раз. Жрец нарушил несколько раз – был в форме одежды, которая не по уставу. У него была растегнута одна пуговица на воротнике и по одной на каждом рукаве, плюс ко всему рукава были закатаны. На первый раз его вынесли выговор, на второй – отправили в изолятор.
Конечно, он пытался убедить их, что в этом нет никакого злого умысла. Что пуговица на воротнике растегнута, потому что иначе воротник сдавливает ему горло, и тяжело дышать. А рукава и вовсе нормально не застегиваются. И что вообще вся тюремная форма ему мала. В ответ он услышал, что и застегнуть-то ему не проблема, что делает так иногда тот во время проверок, что и с рукавами тоже самое, что все это грубые нарушения дисциплины.
И снова он пытался говорить, что, действительно, технически застегнуть он может, но не более чем на пару минут, пока проходит проверка. Что и делает-то он это только для того, чтобы в его действиях не находили злого умысла, которого в нем нет.
На что ему в очередной раз сказали, что именно и есть злой умысел в том, чтобы после ухода проверки демонстративно возвращать все назад в неправильное положение, и что раз ему по-хорошему непонятно, так придется понять по-плохому и посидеть в изоляторе.
С помойным ведром, и двумя квадратными метрами свободного пространство. Вот, все, на что ты можешь рассчитывать, Ваше Преосвященство Самох…
Не прошло и нескольких часов, как в следом за ним, в камеру напротив подселили все того же душевнобольного, способного орать и днем и ночью без устали. И в очередной раз вдобавок к едкой вони от собственных же фекалий и мочи, добавился звуковой аккомпатимент из помещения напротив.
В первый такой день Самох не заснул, и весь будущий день провел в бесконечных стараниях не заснуть, то и дело клюя носом в каждую минуту. Периодически в камеру заглядывал надзиратель и стучал дубинкой по решетке с одной стороны намекая на то, что он все видит, и стоит только прикрыть глаза чуть дольше, чем на время моргания, так он тут же доложит о нарушении – заключенный в ШИЗО спит в неположенное для этого время. А с другой стороны подобное внимание вселяло некоторую уверенность в Самохе – он продолжал понимать, что вся эта чертова конструкция тюремной администрации заключения возможно создана вокруг него, чтобы добиться от него чего-то. Это понимание не позволяло в нем потухнуть чувству собственной важности перед окружающими – так необходимое в условиях, когда нет никаких прав ни на что.
В эту же он заснул. Сил не было ни на что, и даже крики из камеры напротив со временем слились в такой фон, что это перестало мешать. Снилась в этот раз его бура негласного ресурса и Рамбанхр, который стоит во главе ее. Для начала они избили до полусмерти Гузоха, затем вывели несколько чумов из СЧК и расстреляли их, затем приволокли саму Ананхр и стали глумиться над ней, обзывая выскочкой и шлюхой, работающей своим сладким местом. При этом во сне нельзя было нормально увидеть ее реакцию или хотя лицо. На этих криках сон закончился, Самох очнулся и услышал, что это вопли из камеры напротив. А было так легко ощущать возле себя присутствие боевого подразделения Церкви…
Через день штрафные дни в ШИЗО закончились, и Самоха снова отвели в его обычную камеру, где стоял сломанный унитаз все с лежащим в нем дерьмом и, разумеется, роем мух над ним. В этот день не предполагалось выходить из камеры, кроме как для вечернего построения и поверки, и если бы не постоянный спутник из камеры напротив, которого также освободили из изолятора и приволокли обратно. К нему было, по всей видимости, такое же отношение как и к священному ведру в ШИЗО – его нельзя было трогать, что-то менять, обращать внимание надзирателей и вообще единственное, что полгалось с ним делать, так это переводить с одного места на другое причем в строгом соответствии с местонахождением митрополита. И если ведро по понятным причинам было обычным, то это уникума без сомнения выкопали из какой-то другой тюрьмы и поместили в эту, чтоб одной известной персоне было не скучно.
На вечерней поверке, где Самох, полагая, что не следует возбуждать к нему очередную ненависть незастегнутыми пуговицами, решил немного потерпеть и привел все в видимый порядок еще до того, как стали открывать камеры. Выглядел он, конечно, как ряженный клоун в одежде на несколько размеров меньше его. И несмотря на то, что при проверке замечаний к нему не было, спустя минут пятнадцать после нее в камеру в срочном порядке вломились несколько сотрудников тюрьмы, которые зафиксировали очередное злостное систематическое нарушение в форме одежды, влекущее за собой, разумеется, новое переселение в ШИЗО. Второе по счету.
Там даже не успело ничего поменяться, включая, безусловно, и ведро с помоями, которое стояло в прежнем виде на прежнем месте. Про то, кого в считанные минуты должны будут привести в хоромы напротив, сомневаться не приходилось. И уже более того, если бы этого не произошло, то Самох посчитал бы, что готовится что-то еще более жуткое. Поэтому когда горлопан появился, это уже в некотором роде его успокоило.
В эту ночь практически даже не так плохо спалось, хоть и ничего не снилось. Сил, как и до этого не было совсем, поэтому сам процесс сна получился равным в мгновение – закрыл глаза и почти сразу их открыл. Открыл от того, что надзиратель постучал ключом по решетке – традиционный способ поднимать с утра для изолятора.
И несколько удивляло, что до сих пор Самоха не водили ни на какие допросы или иные следственные мероприятия. Что его содержали здесь просто для того, чтобы довести до определенной кондиции, и, полагая, что она еще не достигнута, дожидались своего часа.
Второе посещение ШИЗО было не столько продолжительным – всего один день. И митрополита повели обратно. Но на этот раз не в его камеру, а в двойку, где вначале никого не было. Помимо этого в камере на входе стояла не решетка, а тяжелая стальная дверь с отктывающимся для подачи еды окошком. Унитаз тоже работал, и показалось, что эти условия в разы лучше предыдущих. Самоху даже подумалось, что им просто надоело над ним издиваться, и наконец дать ему передышку, чтоб потом удвоить силы в новом этапе. Но он ошибся.
Через полчаса к нему подсадили заключенного, которые был не просто болен чем-то, а прямо-таки излучал бациллы и микробы. Он сразу лег на койку, еще даже при надзирателе, и тот не помешал ему в этом, при том, что в дневное время разрешалось только сидеть. В помещении два на три метра не заразиться от такого соседа было нереально, и уже к вечеру Самох почувствовал, как изнутри у него начинается жар, а в глаза появляется темнота, и все тускнеет.
Ближе к отбою больного из камеры забрали с громким уведомлением о том, что тому необходима госпитализация по причине болезни коронным вирусом – тем самым, которые периодически появлялся то в одном уголке Империи, то в другом. Вообще история с этой болезнью казалось была закончена, но периодически появлялись новые очаги, которые быстро локализовывалсь, предотвращая распространение. И не было сомнений, что этого больного эсчекисты притащили из свежего региона, где сформировался новый штамм вируса.
Самоха начало тошнить, а учитывая, что он практически ничего не ел, то наружу ничего не выходило. Еще до отбоя он свалился на койку и заснул полулежа. А с утра к нему ворвалась проверка после официального подъема. Они решили устроить его не в шесть тридцать утра, а на полтора часа раньше, и охранник ходил и стучал по дверям камер ключом, пробуждая заключенных. По всем дверям, кроме камеры Самоха, который и не проснулся. Проверка зафиксировала новое злостное демонстративное нарушение порядков СИЗО – надо же продолжать делать вид, что спишь после официального подъема, да когда надзиратель будил каждого лично, да когда это не имеет смысла, ведь все равно же не сразу, так через пять минут поднимут силой. Ничего другого, кроме как ШИЗО придумать было нельзя, и митрополит снова отправился туда. На этот раз уже больной.
Его самого ни в какой госпиталь, как того, кто его заразил, отправлять, разумеется, никто не собирался. Мол, там же ведь он только позаражеет выздаравливающих чумов. Что и так он только и делает, что нарушает вечно все их лояльные понятно написанные нормы, а тут еще и физический вред окружающим нанесет. Позже Самох узнает, что тот больной, что провел с ним в камере несколько часов, лежа на своей койке, был осужден за убийство своей сестры и ее подруги у них дома в процессе недельного запоя – прям вломился к сестре домой с требованием что-то объяснить, а потом воткнул нож ей в горло и после задушил ее подругу. Для него надзиратели посчитали, что более необходимо заботиться о его здоровье путем госпитализации.
Третье посещение ШИЗО отличалось от предыдущих двух разве что наличием жара в теле и постоянно мутным сознанием. Самох регулярно клевал носом, сидя на койке, и окружающие в виде орущего вечного спутника и время от времени стучащего ключом по решетке надзирателя за один только день слились у него в какое-то одно существо, которое целенаправленно пытается отторгнуть от него рассудок. В итоге где-то к вечеру по нему кто-то стукнул дубинкой – сначала по плечу, потом по ребрам. Потом по ребрам еще раз.
От этого еще сильнее затошнило, а в висках сквозной иглой заиграла боль, но все же он поднялся. Встал на ноги и тут же свалился. Стошнило какой-то жижей, видимо, желчным соком. После чего стало немного легче, хоть и ненадолго. Надзиратель все требовал встать, и непонятно для самого митрополита как, но ему это удалось. Крикнув что-то прямо в упор, эсчекист вышел и запер за собой решетку.
Самох снова свалился на койку и, даже не пытаясь устроиться как-то поудобнее, провалился в сон. Ему снился Неврох. Наконец, кто-то, кто давал ему верные советы, у кого он учился поражать своих врагов и взвешивать свои силы прежде чем действовать.
– Есть человек, который очень опасен для нас. – говорил ему патриарх. – Человек, а не чум. Который опасен для нас более, чем кто-либо другой. Не будь дураком, как другие, не думай, что люди слабее нас просто потому что мы их когда-то победили. Нельзя недооценивать своего врага – за это очень дорого приходится платить… Нельзя недооценивать своего врага. Нельзя недооценивать своего врага…
Последние лова кружились по карусели вокруг сознания Самоха. Среди ночи он проснулся, помня этот сон. И тут же вспомнил другой, где Базанхр с генеральскими погонами говорит ему про самоуверенность, тщеславие и бахвальство. Это ведь все идет из-за ошибочных представлений о своем противнике. Противнике, который теперь всеми силами стремится сломать его и заставить молить о снисхождении.
– Не будет снисхождения. – вслух прошептал митрополит. – Не будет ничего кроме одного. Костров святой Инквизиции, которая заставит трепетать всех только при одном своем упоминании.
Он почувствовал внутри себя жар еще больший, чем тот, что был в нем, когда он заразился этим вирусом. Жар, выжигающий всю болезнь, всю слабость, всю нерешительность. Глаза его словно начали оживать, и тут он стал начинать четко видеть все вокруг. Вместе с тем и слух стал возвращаться к нему. А затем и крики из камеры напротив.
Самох задвигался. Боль пронизила виски от одного к другому, немного затошнило и вроде бы стало сложнее дышать. В глазах моментально потемнело, но он все равно продолжил двигаться. И ощущения реальости закрепились сильнее, чем боль.
Было темно, так как ночью только одна лампочка в начале коридора освещала проход, но заключенного в камере напротив было хорошо видно.
Поднявшись митрополит подошел к дверной решетке, продолжая неотрывно смотреть на источающего крики сумасшедего. Подняв одну руку и направив ее ладонью на него, Самох сказал:
– Благословляю тебя на исцеление, сын мой… Только вера Жах вылечит тебя…



