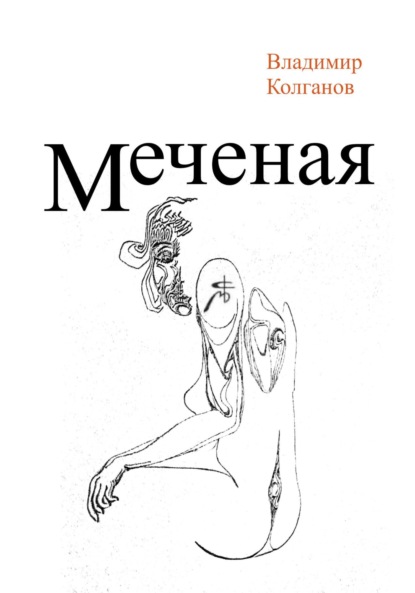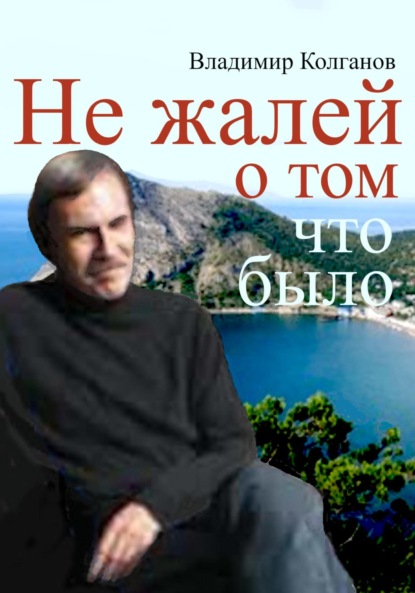Полная версия:
Владимир Алексеевич Колганов Феномен ДБ
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Владимир Колганов
Феномен ДБ
Предисловие
Эту книгу я написал в январе-феврале 2014 года. Предлагал её нескольким издательствам, но всюду получил отказ. Один издатель сослался на то, что Быков – его школьный приятель, другой вроде бы ходил вместе с Быковым «на Болотную и на Сахарова», третий не хотел рекламировать «чужого» автора, а четвёртый не считал возможным подвергать сомнению достоинства популярного писателя. Впрочем, директор одного издательства всё же решил напечатать эту книгу, однако вскоре был уволен – не исключено, что оказался слишком уж настойчив в своём намерении. Только Джэфф Безос не возражал против размещения книги на своём интернет-ресурсе amazon.com, однако недолго музыка играла – осенью 2018 года он начал вытеснять русскоязычных авторов с Амазона, а чуть позже, под надуманным предлогом, мне запретили публиковаться даже на английском языке.
Так стоило ли преставлять эту книгу на суть читателя? Конечно, рановато записывать героя этой книги в классики, не та это ещё величина, чтобы посвящать ей многостраничный труд. Однако Быков и в самом деле феномен, достойный прижизненного анализа его биографии, мировосприятия и психологии. Наверняка опыт его восхождения к вершинам популярности будет полезен для тех, кто решил пойти его путём.
Но вот незадача, в 2015 году расставшись с надеждой на публикацию этой книги, я несколько отрывков из неё вставил в исследование под названием «Писатели и стукачи». Поэтому заранее приношу извинения читателям за цитирование самого себя – так уж сложились обстоятельства.
Глава 1. Полным-полно Быковых
Предупреждая возможное недоумение читателей, сразу поясню: ДБ – это не что иное, как Дмитрий Быков, так он иногда подписывается [1]. Впрочем, есть и другое определение, которое мне больше по душе. ДБ – это «двойники Быкова», о них и пойдёт здесь речь. Но прежде, чем начать повествование, попробую объяснить, почему, работая над книгой, не обратился за помощью и советом к самому объекту моего исследования. А дело в том, что Дмитрий Львович когда-то так сказал, оправдывая своё увлечение Борисом Пастернаком и Булатом Окуджавой [2]:
«Я вообще против того, чтобы писать книги о людях, с которыми ты лично знаком».
Ну вот и я подумал, что личное знакомство может навредить при написании этой книги. Так что, если где-нибудь напутал, не согласовав какие-то детали с Быковым, не судите строго – тут превалировало желание следовать законам логики, избавившись от влияния незаурядной личности на собственные умозаключения.
Собственно говоря, желание написать книгу о Быкове появилось у меня после того, как прочитал его признание, содержащее намёк на некую тайну, что особенно привлекательно для дотошного биографа [3]:
«Про меня никто ничего не знает: я сделал всё возможное, чтобы загородиться текстами. Вот про них и говорят – а также про школу, телевидение, "Поэта и гражданина" и пр. Что там за ними – это уж моё дело, и осведомлены об этом десяток ближайших друзей, одна женщина и, как ни странно, пять-шесть любимых учеников».
В своё время огорчение Алексея Варламова по поводу того, что вряд ли удастся разгадать загадку К., побудило меня разобраться с этой тайной, в результате чего была написан «Дом Маргариты» и ещё несколько книг, которые я посвятил жизни и творчеству Булгакова. Так и теперь, загадочный, мало кому понятный Дмитрий Быков – это ли не источник вдохновения для психоаналитика?
Думаю, никто не станет отрицать, что Дмитрий Львович Быков – талантливый журналист. А кроме этого – профессор, школьный учитель, лектор по распространению культурных знаний, обладающий уникальным красноречием, чтец-декламатор, составитель биографий, поэт, автор сатирических стихов, а ещё прозаик-романист, политик, политолог, драматург, фельетонист, литературный критик, великолепный эрудит, и даже, как ни странно это прозвучит, Дмитрий Львович вполне успешно делает свой бизнес. К его услугам – газеты, издательства, журналы, дома культуры и концертные залы, радиоэфир и интернет, а до недавнего времени даже телевидение. Как же он тянет этот воз? Не много ли на одного? Тут явно что-то запредельное! Пожалуй, даже великий Леонардо не обладал столькими талантами. Даже быстроногий Фигаро не сумел бы обслужить такое количество господ, если этим словом обозначить всех работодателей.
Что ж, придётся в этом разбираться, однако проблема в том, что объять Быкова совершенно невозможно – напрасный труд! Не потому что он такой большой – тут можно было бы скооперироваться и обхватить его с кем-нибудь на пару, как двухсотлетний дуб в парке под моим окном. А вот рискнёт ли кто-то проанализировать всё творчество Дмитрия Львовича, что называется, от корки и до корки – это вряд ли. Тут требуется гигант мысли – лучше всего, если нобелевский лауреат, – да и тот когда-нибудь поймёт, что явно переоценил свои возможности. Уж лучше бы пожалел себя и нанял бригаду дипломированных критиков. Да без толку, ребята, даже не пытайтесь!
Единственное объяснение столь необычной плодовитости Быкова в том, что он на самом деле не один – их много, этих Быковых. Здесь тот самый случай, когда происходит раздвоение – личность делится, потом двойники-осколки делятся ещё. И вот каждый маленький осколочек большого Быкова вкалывает на выделенном ему участке поля, выращивает свой урожай, ну а затем всё складывается на одну телегу. И вот представьте своеобразную ярмарку чудес, где всё, от мешка картошки до буханки хлеба и кулёчка семечек имеет фирменную этикетку, штамп, гарантирующий качество – это всеми узнаваемая надпись: «Дмитрий Быков». А несколько оголодавшие от недостатка культурного продукта граждане поражаются объёмом содеянного Быковым, и я, как уже сказано, удивляюсь вместе с ними.
Сам Быков не решается признать реальность подобного деления, и на вопрос: «Един ли "образ автора", стоящий за тем, что вы делаете в поэзии, в прозе, в журналистике, – или всё же это разные образы автора?» отвечает уклончиво: «По-моему, един, но у этого автора бывают разные настроения» [4]. Конечно, разные настроения могут быть свойственны и одному единственному «образу», но вот когда их возникает множество, одними перепадами настроения ничего не объяснить.
Кстати, чуть не забыл вам рассказать, откуда взялось название этой главы – навеяно оно рассказом Эрскина Колдуэлла. Там речь идёт о шведах, засильем которых герой рассказа крайне недоволен. О Быковых ничего такого не могу сказать – я просто констатирую факт, приятен он кому-то или неприятен. Однако слышу пока ещё не заданный в реальности вопрос: «А кто ты такой, чтобы обо мне, то есть о нас, писать? Как посмел? Кто дал тебе право копаться в личной жизни и анализировать причины творческих успехов и редких неудач?» Да, господи ты боже мой, нет у меня желания копаться, тем более кого-то унизить или оболгать! И что плохого в том, что я хочу понять: кто вы такой, Дмитрий Львович Быков?
Только не подумайте, что я пытаюсь возражать – с Дмитрием Быковым совершенно бесполезно спорить. Понятно, что он любого переговорит, даже самого себя, если поставят перед ним подобную задачу. Именно поэтому из нескончаемой череды интервью Быкова и бесед с ним в радиоэфире можно много интересного узнать. Ну вот, скажем, утверждает он одно, ну а затем чуть ли не совсем противоположное. То ли спорит сам с собой, то ли не уверен в сказанном, то ли это наглядный пример очередного раздвоения его личности. Как я уже отметил, этим можно объяснить творческую плодовитость Быкова. Нет ничего странного, когда один работает за двоих, но вот когда сразу целая команда разнообразных «я» работает на одного – это и в самом деле потрясает! Быков-журналист, Быков-писатель, Быков-поэт… ну и так далее.
Быков-писатель свою плодовитость объяснял довольно просто [5]:
«Писание – просто моя форма думания. Бывает артикуляционное мышление, когда человек думает в процессе речи. Кто-то лучше соображает во время еды, кто-то – во время любви. Я думаю, когда пишу. Поэтому я стараюсь писать больше – в это время я думаю о вещах конкретных и важных».
Признаться, я тоже думаю, когда пишу, а то ведь с дуру такого наворотишь! Однако с трудом могу поверить, что найдётся такой уникальный человек, который размышляет, набивая свою утробу котлетами и макаронами. Любопытно было бы узнать – о чём при этом можно думать? Ну разве что о том, какое блюдо повариха любезно предложит на десерт. Столь же сомнительно, что некто способен решать систему уравнений в частных производных, одновременно лаская симпатичную девицу.
Кстати, наверняка найдётся злопыхатель, который, уцепившись за сказанные Быковым слова, станет утверждать, что Быков говорит не думая. Нет, я бы так не сказал, а если обратил внимание на подобную возможность, то лишь с одной единственной целью – дать понять, что есть некая нестыковка между говорящим Быковым и Быковым-писателем. Ну словно бы, занятые каждый своим делом, они не нашли времени найти консенсус по столь ничтожному вопросу: когда и кому из них полагается думать, а когда писать? Иной раз может оказаться, что в то время, когда один Быков пишет, другой обдумывает предстоящий разговор. Или же совсем наоборот. Согласен – это сложнейшая проблема из проблем! Сам иной раз пытался совместить эти два занятия, а в результате – испорченный лист бумаги и головная боль.
Но, слава богу, Быков не то что сам себя опровергает, описывая распорядок дня, однако снимает возникшие было подозрения [6]:
«Пишу я четыре часа в сутки. Больше никогда. А думаю часов восемь, наверное. Прибавим к этому всякую подёнщину, командировки какие-нибудь, какие-то работы на радио, газеты, журналы, прочее… Но больше четырёх часов писать невозможно физически. После уже становишься очень опустошенным».
Итак, Быков думает не только в то время, когда пишет. Есть ещё четыре часа, когда работает голова, а в остальное время как же? Неужели, действительно, газеты, радио и прочее – это всё подёнщина, халтура, когда можно обойтись накопленным ранее словесным багажом, не включая голову? Пытаюсь разобраться. Тут возникает некоторое сомнение, навеянное следующими строками из книги Быкова о Борисе Пастернаке:
«Подёнщина талантливых людей всегда как-то особенно беспомощна. Насколько они одарённее и значительнее прочих в серьёзной литературе – настолько же слабей и смешней своих современников в том, к чему у них не лежит душа».
Если то, что делает Быков на радио, в газетах и журналах, беспомощно, если это всего-навсего халтура, тогда всё понятно. Если же подёнщину Быкова воспринимать всерьёз, тогда выходит, что он вовсе не талантлив – так ли это? Однако подождём – возможно, Дмитрий Львович сам когда-нибудь нам пояснит, где правда, а где просто выдумка. Пока же вернёмся к обсуждению особенностей его мышления. Возможно, природа заложила могучий интеллект только в Быкова-прозаика, а прочим Быковым не досталось ничего. Теряюсь в предположениях, но не могу придумать другого объяснения.
В пользу изрядного словесного багажа, из которого двойники Быкова черпают вдохновение, говорит и следующее уточнение к распорядку дня [7]:
«Моя основная работа как раз и сводится к чтению и письму – без книг мне ничего не написать, тем более что значительная часть моих сочинений принадлежит к прозе исторической или литературоведческой. Большая часть моего свободного времени посвящена чтению – что ещё делать-то?»
Здесь трудно возразить, поскольку для Быкова-эрудита главное занятие – это пополнение собственного багажа, или базы данных, как принято обозначать хранилище различных сведений и фактов. Только бы эта база пригодилась когда-нибудь, а то ведь ляжет мёртвым, почти бессмысленным балластом, при этом создавая иллюзию интеллектуального могущества. Тут есть ещё одна опасность – обилие заимствуемой информации требует интенсивной работы мозга, чтобы все эти фактики и факты распихать по закоулкам своего ума. Всё это время мозг начисто лишён способности к ассоциативному мышлению, да и потом, вместо того, чтобы попробовать создать свою, оригинальную идею, он только услужливо выкладывает очередную порцию данных из хранилища. Мне приходилось встречать в жизни эрудитов, к творчеству совсем не приспособленных – все их достоинства заключены в способности к месту и не к месту привести цитату или пересказать услышанный когда-то анекдот.
Пожалуй, на этом предварительное обсуждение проблемы «много Быковых» можно завершить, но вот попалось на глаза ещё одно его признание [5]:
«Трудоголизм – это просто твёрдое и ясное сознание того, что если буду меньше работать, буду больше вредить окружающим».
Тут Быков верен себе и продолжает удивлять читателей нетривиальными суждениями – то ироническими, то парадоксальными. Однако, если попытаться принять его слова всерьёз, сразу возникает возражение: увлечённость трудом не всегда оказывается полезна для людей. Одно дело – выращивать цветы на приусадебном участке, и совсем другое, если некий землекоп перекопает ваш садовый участок вдоль и поперёк, просто потому что это занятие его очень увлекает. Уж лучше бы занялся коллекционированием бабочек или старинных крантиков от медных самоваров.
А вот ещё одно высказывание Быкова о себе, как о писателе [5]:
«Литератор вообще обладает набором качеств, с которыми хорошо сочинять, но трудно жить. Мнительность, памятливость, привычка замечать свои и чужие слабости, буйная фантазия, склонность к рефлексии».
Тут нечего добавить – можно только посочувствовать Быкову. Трудно жить не только признанному литератору, но и его осколкам-двойникам, продуктам многократного деления. От мнительности и склонности к рефлексии не далеко и до внутренних разборок, что интеллектуальным изыскам нисколько не способствует и только отвлекает от продуктивного процесса. Дмитрий Львович это признаёт [8]:
«Сейчас мы переживаем затянувшийся период перелома, раздвоения. <…> И по какому пути пойдёт развитие, сейчас сказать очень трудно. Поэтому большинство нормальных людей, во всяком случае, честных писателей, сейчас ничего не пишут. Они ждут, когда можно будет что-то написать…».
Глава 2. «Был я мальчик книжеый»
Начнём повествование с краткого рассказа нашего героя о себе [9]:
«Я родился в Москве 20 декабря 1967 года. Мать – учитель словесности. Окончил журфак МГУ, неохотно служил в армии, с 1985 года работаю в "Собеседнике". Сотрудничал или печатался почти во всех московских еженедельниках и нескольких ежедневных газетах, регулярно – в "Огоньке", "Вечернем клубе", "Столице" первого призыва, "Общей газете" и "Новой газете". Член Союза писателей с 1991 года. Веду авторскую программу на радио "Сити FM". Женат вторым браком. Двое детей, четыре книги стихов в Москве и Петербурге, рассказы и пьесы в разных журналах, собака, мышь, морская черепаха, два попугая».
Пожалуй, мы немного вырвались вперёд. Второй брак, черепаху и мышей я бы приберёг на тот случай, если так и не удастся докопаться до истоков творчества журналиста и писателя. Здесь же остановимся на самом ярком впечатлении детства, о котором Дмитрий Быков рассказывал не раз в своих воспоминаниях [10]:
«Я любил и люблю "Артек" больше всего на свете. Я лучше многих знаю, что это было, потому что застал "Артек" в самом начале девяностых, когда цела была его педагогическая школа, принципиально отличавшаяся от прочих. Сюда не проникло "коммунарство" – эффективная, но сектантская по сути методика. Здесь не было советского официоза, несмотря на репутацию коммунистической цитадели, которую этот самый официоз старательно делал "Артеку". Напротив, здесь был небывалый либерализм: ведь сюда приезжала детская элита, не дети начальничков, а те, кто лучше всех умел что-нибудь делать. Были смены юных математиков и астрономов, шахматистов и танцоров, журналистов и поэтов… Я был там счастлив. И все, кто туда приезжал хоть раз, не могли забыть "Артека"».
Вот тут позвольте усомниться. Нет, я готов поверить, что Дима был там счастлив, и счастливы были многие их тех, кому выпала удача побывать в «Артеке». Но вот «не дети начальничков» – это не укладывается в моё представление об этом славном месте. Дело в том, что в конце пятидесятых годов, когда я учился в 112-й московской средней школе, у нас в классе было двое ребят, которым случилось отдыхать в этой пионерской здравнице. Одна была дочерью заместителя министра, другой – сыном важного чиновника из Московского городского совета профсоюзов. Не думаю, что к началу восьмидесятых эта система привилегий для «номенклатурных детей» в корне изменилась. Ну разве что появились иные, более привлекательные места для отдыха, а мода на «Артек» как бы сама собой сошла на нет – такое в принципе возможно. С другой стороны, если бы принимали только деток по знакомству или согласно принадлежности их к высшей знати, стоило ли эту история так раздувать? Нет, без талантливых ребят там невозможно было обойтись. В итоге, я так и не пришёл к определённому выводу – то ли Дима тоже оказался «блатным», то ли был настолько даровитым, что потеснил кое-кого из «детей начальничков».
Учился Дима на одни пятёрки, школу закончил с золотой медалью, затем поступил на журфак в столичный МГУ. Усердие способного юноши было отмечено красным дипломом. Но прежде следует пояснить, как Дима оказался на журфаке [13]:
«Так получилось, что я поступил в школу юного журналиста при МГУ – просто потому, что это была такая литстудия, интересное место, для Москвы 1982 года знаковое. Потом как-то само пошло – нельзя же уйти с журфака, побывав там хоть раз. Притяжение очень сильное. Ещё мне нравилось ездить, смотреть новые места, самостоятельность всякая нравилась – я по командировкам летаю лет с шестнадцати».
Как получилось, это бы тоже хотелось разъяснить. Видимо, причина в том, что писать Дима начал, по собственному признанию, когда ему было всего на всего шесть лет, а печататься в газетах, когда стукнуло четырнадцать. Могу предположить, что Димины заметки публиковались в «Пионерской правде», потом он сотрудничал с «Московским комсомольцем», однако до настоящей журналистики было ещё далеко. И тем не менее, это было самое счастливое время для Димы Быкова, если верить его собственным словам [14]:
«1982-1984: дальше было не то чтобы хуже, но не так ярко. Потому что ещё и возраст такой – возраст наиболее радикальных и значительных открытий, умственных и физиологических. Одновременно я работал в «Московском комсомольце», готовил публикации для поступления на журфак. И это тоже было прекрасно. Я до сих пор не могу спокойно проезжать мимо белого здания газетного корпуса на улице 1905 года и уж тем более мимо бывшего ГДРЗ – Государственного дома радиовещания и звукозаписи – на бывший улице Качалова. Какое-то было ощущение чуда от каждого снегопада, от каждого весеннего похода по маршруту «Ровесников» – от ГДРЗ до проспекта Маркса (теперь это Моховая). От Баррикадной до Пушкинской».
А вот ещё одно приятное воспоминание о том времени, когда Дима работал внештатником в «Московском комсомольце» [15]:
«У меня к этому делу подход простой, меня так учил Андрей Васильев, впоследствии один из создателей «Коммерсанта» и «Гражданина поэта»: внештатник должен мухой лететь на любое задание и, кроме того, ходить за пивом. А наградой ему будет та среда, которая в «Собеседнике» есть: атмосфера довольно раздолбайского, но умного коллектива, какая, скажем, была у меня в 1983 году, когда я внештатничал в «Московском комсомольце». Так и передаётся жизненный опыт – в другие формы преемственности я не очень верю».
Ну, если невозможно обойтись без пива, готов смириться и с такой преемственностью. В молодости всякое бывало – надо бы только постараться сберечь всё то, что потом можно использовать с пользой не только для себя, но и для будущих читателей.
Вскоре после поступления в школу юного журналиста при журфаке произошло важное событие, в значительной степени повлиявшие на мировосприятие Дмитрия Львовича. Снова Дима оказался в детском лагере [16]:
«В 1983 году, после Саманты Смит, которую пригласил в Россию Андропов, был затеян международный детский лагерь мира в Швеции, в Гётеборге, в коммуне Марк. Мне было 15 лет, и я туда попал, отобранный в числе пяти московских школьников. Было упоительно. Там были американцы, шведы и русские. Дивное лето, купания в озере, первые влюбленности, спанье в палатке, выезды в парк аттракционов в Лисберге. До сих пор вспоминаю как большое счастье».
Позволю себе уточнить, что Лисеберг – это парк развлечений в Гётеборге, «Гора Лизы» в переводе с шведского. Название этой местности дал её владелец в честь своей любимой красавицы жены Елизаветы. Однако Лиза не имеет никакого отношения к нашему повествованию.
Существенно, что это было первое общение Димы Быкова с другим, запретным миром, и как мы убедились, это общение было весьма приятным и запомнилось надолго. Могу предположить, что юный Дима получил дополнительный стимул для того, чтобы сделать успешную карьеру в журналистике. Тогда могли бы появиться новые возможности для знакомства с этим миром.
Но путь в журналистику неожиданно прервался – после трёх лет учёбы на журфаке Дима оказался в армии. Об этом периоде своей жизни он рассказывает очень кратко [17]:
«В армию я попал и так. И там мне совершенно не помешало то, что я не умею подтягиваться, потому что я, в основном, круглое катал, а плоское таскал».
Судя по фотографиям тех лет, Дима служил на флоте. Честно признаюсь, ребус про круглое и плоское я не разгадал – сказалось отсутствие соответствующего опыта. Но вот поэт и критик, основатель литературного кабаре «Кардиограмма» Алексей Дидуров, когда-то близко знакомый с Быковым, задал новую загадку [18]:
«В казарме Диме посчастливилось от дедовщины спрятаться под крыло КПСС».
Что это было за «крыло»? Неужто Быков стал убеждённым коммунистом? Я бы предположил, что Дима нашёл пристанище то ли в парткоме, то ли в политотделе флота – тут дело не в названии. Вполне возможно, что сотрудничал в тамошней многотиражке, передовицы сочинял. Если так, то получил неоценимый опыт, который использовал уже гораздо позже, занимаясь публицистикой. Когда-то подобный путь прошли многие писатели, надевшие военную форму – и Константин Симонов, и Юрий Герман, и Валентин Катаев. Однако в 1987 году не было войны, да и Диме далеко ещё было до писателя, и всё же надо с чего-то начинать.
Но всё оказалось не так, и сам Дмитрий Быков это подтверждает [19]:
«В 1989 году, когда я был в армии, и когда все побежали оттуда, я в знак протеста вступил в КПСС. Правда, к сожалению, уже в 1990 году, когда на Москву пришел Полозков, я просто не пришёл получать партбилет и год проходил в кандидатах, потому что моя оппозиционность не заходила так далеко, чтобы быть под Полозковым, а потом и КПСС распалась».
Что же это получается? Служил Быков в армии с 1987 по 1989 год, а в партию вступил накануне демобилизации. Однако, странный поворот! Тем более, что эта дата не стыкуется с тем, что утверждал Дидуров, хорошо знакомый с Быковым? Так кто же ошибся или что-то перепутал?
История тем более загадочная, что в 1987 году, когда Быков, согласно логике спасения от дедовщины, мог вступить в КПСС, из партии ещё никто не «побежал», даже убеждённые сторонники демократических перемен вроде Юрия Николаевича Афанасьева. В любом случае вывод Дидурова о том, что Быков спрятался от дедовщины под крылом КПСС, вызывает у меня сомнение. Не потому, что нынешнего Быкова это унижает, вовсе нет. Но есть тут некая недосказанность, несоответствие – ведь ночевать-то Дмитрию пришлось в казарме. Я в армии не служил, но знаю, что ночная жизнь для солдата-первогодка в то время, когда офицеры крепко спят, бывает полна горечи и разочарований. Похоже, что и Дима этого не избежал. Ума не приложу – и как только книжный Дима мог там «спрятаться»? Ну разве что «деды» мутузить партийных не решались, что маловероятно.
Подтверждение трудностям Диминого бытия находим в его стихах, датированных вроде бы 1991 годом [20]:
Был я мальчик книжный, ростом небольшой,
С чрезвычайно нежной и мнительной душой,
Все страхи, все печали, бедность и порок
Сильно превышали мой болевой порог.
Меня и колошматили на совесть и на страх,
И жаловаться к матери я прибегал в слезах…
Дальше не стану продолжать, поскольку чтение стихов про издевательства над книжным мальчиком удовольствия мне ничуть не доставляет, тем более что описанные в стихах события относятся ко времени Диминой учёбы в школе.
Но вот Алексей Дидуров словно бы поправил самого себя, разъяснив, чем стала флотская служба для Димы Быкова:
«Насилие по отношению к тебе во всех его формах день и ночь на первом году службы, круглосуточное насилие над окружающими первогодками – на втором году и тяжкий идиотизм казарменного быта от призыва до дембеля».
Согласен, что всё это – и насилие, и идиотизм – могло самым пагубным образом повлиять на психику неприспособленного к таким нагрузкам юноши. Тем не менее, после отбытия воинской повинности Быков вернулся на журфак и параллельно с учёбой занялся реальной журналистикой – печатался в «Собеседнике», в журнале «Огонёк». Потом пригласили на журналистские телепосиделки в очень привлекательном в те времена «Пресс-клубе» Киры Прошутинской.