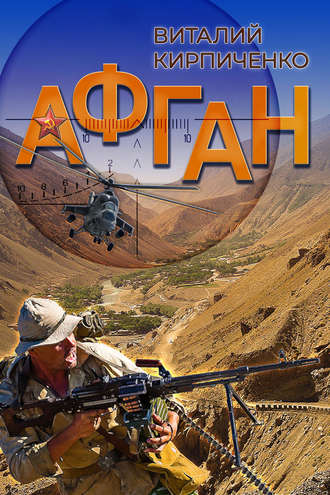
Виталий Кирпиченко
Афган
– Срочно на стол! – глухо прозвучал голос старого хирурга, его Александр распознал бы теперь среди тысячи других.
До полудня соседняя койка пустовала, а потом на нее положили водителя БМП, подорвавшегося на мине. Ему оторвало обе ноги до колена. Глядя на своего соседа, Гайдаенко не мог понять по его поведению, знает ли тот, что с ним сотворили, или ему все равно, есть ли у него ноги, нет ли их – такое спокойное, умиротворенное лицо было у этого паренька из Северного Казахстана.
В конце дня в палату вошёл хирург.
– Здравствуйте, орлы! – громко произнес он, застолбив громоздкое своё тело в центре теснившихся коек. – Как самочувствие? Что приуныли Аники-воины? Как рука, боец-огурец? – подошел он к солдату-узбеку. – Ничего – это когда нет ничего, а у тебя вон какое чего. Такой рукой хорошо деньги с прилавка в мешок смахивать, а ты – ничего!
– Ну, командир, что-нибудь беспокоит? – подошел он к Александру. – Ничего – это тоже хорошо! Газы отходят. Отлично! Дней через пяток рванем в глубинку. Куда бы хотелось? Ташкент? Алма-Ата? Фрунзе? Или в Европу махнем?
– Я как-то об этом не думал. Мне, собственно, всё равно, – ответил Александр, зная, что в Елово его не повезут.
– Тогда запишемся в город яблок, где они дороже, чем на крайнем Севере. Зато как они пахнут! Нет, это надо самому испытать! – нос хирурга сморщился, задвигался, выискивая среди волн госпитального запаха ароматные струи алма-атинского апорта. Он так старался, настраивая свое обоняние, что лицо его приобрело какое-то жалкое выражение обиженного судьбой нищего, которому, ко всем его несчастьям, ещё и не дали понюхать яблоко.
* * *
Алма-Ата встретила «афганцев» чистым утренним светом, широкими спокойными аллеями из золотисто-белых берёз и тополей. Вдали сверкали бело-голубые вершины Алатау.
– Красиво как! – вырвалось у больного с повязкой на глазу.
– Дай тебе второй глаз, – ты бы еще не то увидал, – пошутил солдат с гипсом на ноге.
– Дай тебе десять глаз, и ты не увидишь того, что я вижу одним, – парировал с повязкой на глазу. – Здесь важно, что встречает свет под черепком.
Гайдаенко поместили в офицерскую палату, убогую на вид, с облезлыми стенами, облупившейся на окнах краской, свисающей проводкой и одинокой тусклой лампочкой под высоким серым потолком. Его кровать стояла слева от двери. У окна в этом же ряду лежал диковатого вида отставник-подполковник, работник политотдела в прошлом. Он постоянно кутался в байковый халат, закрывал окна и двери, разглядывал и конопатил щелочки, из которых, якобы, сифонит, он жаловался врачам, сёстрам, санитаркам на сквозняки, плохое питание и «стул», на то, что ему не меняют каждый день белёе, а он ведь так слаб, он так потеет, а здесь так дует… Свое отношение к «политику», как сразу же окрестил этого беспокойного за свёе здоровье человека, Гайдаенко выразил короткой фразой: «Туда бы тебя хоть на недельку».
Справа у окна лежал после операции молодой красивый капитан. Тонкое интеллигентное лицо, приятного ровного загара кожа, волнистые густые волосы и резко очерченные красивой формы губы привлекли сразу же внимание Александра, видевшего последнее время только огрубевшие под солнцем и ветром лица солдат и офицеров. Капитан говорил мало, но охотно отвечал на все вопросы Гайдаенко, чаще же его взгляд блуждал по снежным вершинам гор, блеск которых не могли затмить даже мутные стекла окон.
При разговоре с Гайдаенко капитан интересовался делами в Афганистане, не прямо, а исподволь пытался выведать отношение Александра к этой войне, своего же мнения на этот счёт не высказывал.
Напротив койку занимал ветеран, видать, боевой офицер был в то, его, время, а сейчас он сидел, закутавшись в серый больничный халат, и трясся в диком ознобе. На лбу его и кончике носа выступили дрожащие капельки холодного пота. Правая щека ветерана иссечена навечно синими осколками пороха, она дёргается, кривит рот, левая бровь удивлённо приподнята, под ней по-соколиному неподвижен светло-голубой глаз. Глаз невидяще упирается в тебя, загоняет в тупик своей кажущейся проницательностью.
– Может, врача позвать? – тихо спросил Александр, видя мучения ветерана. Тот направил немигающий глаз, как ствол пистолета, в лоб Александра и продолжал молча отстукивать дробь ледяными зубами. Александр повторил предложение.
– Не надо, – ответил ветеран. – Камень идёт, и они едва ли чем помогут.
– Может, какое лекарство дадут?
– Какое тут лекарство. Видать, время пришло.
– Стоит ли так отчаиваться? Мало ли у кого этих камней выходит, – старался приободрить ветерана Александр. – Выйдут и ваши, и будете жить ещё сто лет!
– Нет. Моё поколение ускоренным маршем отходит к последней черте, и редеют на глазах наши цепи. – Дрожь слегка отпустила, и ветеран продолжал тихим голосом: – Да, я уже первый в очереди. Был двенадцатым. Одиннадцать отнесли, теперь мой черед.
– Как это? Почему ваш? – не понял Александр.
– Ерунда это, конечно, но так получилось, что я загадал, когда уходил из армии, что буду двенадцатым из всех, кто меня провожал… И вот месяца нет, как унесли одиннадцатого, Ивана Железнова.
– Но вы-то знаете, что это чушь? – вмешался с возмущением «политик». – Мракобесие какое-то! И это говорит офицер! Коммунист!
– Говорит человек, проживший большую и трудную жизнь и, следовательно, способный предугадать свою судьбу, – не повышая голоса и не обращаясь ни к кому, сказал ветеран и опять затрясся в ознобе.
Скучно было лежать сутками в постели, и рана давала о себе знать острой болью. Порой казалось, что внутри все разрывается, тогда приходила сестра и делала укол, боль отступала, но, тут же, донимали мысли. Чего только не приходило в голову! Иногда хотелось поделиться с кем-то своими думами, да всем было не до них: «политик» конопатил щелочки, подозрительно присматриваясь ко всем, кто просил приоткрыть форточку; ветеран корчился от боли, лязгая ледяными зубами; капитан то и дело уплывал куда-то далеко и высоко. Александру забавно было наблюдать за встречей капитана с его женой. Она приходила каждый день, была такая же красивая, только земная. Сразу же, с порога, едва кинув всем быстрое «здрасте», она устремлялась к своему любимому, быстро целовала и крепко, по-матерински, прижимала его голову к своей груди. Капитан стыдился такого обращения с ним на людях, умоляющим взглядом просил не делать этого, но жена продолжала нацеловывать его, не обращая никакого внимания на присутствующих.
– Ну, Лена! – просил тогда он, ощущая холодок глаз «политика». – Ну, погоди!
Александра смешили эти истории, он привык к ним, как и к обезболивающим уколам, и ждал, поглядывая на часы, быстрых каблучков, резкого стука в дверь, мимолетного «здрасте», и, что тут греха таить, хотелось, чтобы кто-то так же влетал к нему и гладил его, и целовал, не обращая внимания на «политика» в тёплом халате.
Анюта вспоминалась часто бессонными ночами, невыносимой становилась тогда душевная боль, которую не заглушить никакими лекарствами. Хотелось кричать, рвать опостылевшее саванное белье, бежать, бежать, куда глаза глядят… Брал тогда за грудки офицер свою душу и тряс, убеждая, что так должно быть, что так надо.
Отсюда он отправил Анюте два письма, написал, что находится в командировке и что скоро вернется в Афганистан. И поскольку он долго тут не собирается быть, то и писем ему писать сюда не надо, и адреса обратного он не сообщает.
Анюта получила первое письмо и успокоилась: слава Богу, ее Саша жив и здоров. Больше ей ничего не надо, только был бы жив. Но когда получила второе письмо, то забеспокоилась, почувствовав неладное.
– Бабулечка! – прибежала она к бабе Варе со слезами на глазах, – я знаю, с ним что-то случилось… Я поеду к нему. Я узнаю… Может, ему, чем помочь надо, а я тут сижу. Кровь, может, надо…
– Да успокойся ты, помощница, – баба Варя присела на сундук. – Ну, чо ты разревелась? Эвон слез-то сколь пустила, море! Расскажи толком, чо случилось?
– Да вот письмо…
– От командира, чо ли?
– Нет, сам он написал. Но чувствую, что совсем не так это, он что-то скрывает…
– Тю, дуреха! Переполошила всех! Коли сам написал, то и жив. Чо тебе еще надобно? Чо ревёшь-то?
– Адреса обратного не написал, – виновато протянула Анюта конверт бабе Варе, вытирая слезы и понемногу успокаиваясь.
– Да знаешь ли ты, как военные адреса-то меняют? Почитай, кажный месяц. И чо теперь ты всякий раз ревмя реветь будешь? Пусть их меняют, если им так хочется.
Анюте стало легче на душе от слов бабы Вари, от убеждённости её повеяло надеждой, улетучилась тревога. Заблестели её ясные глаза, прижалась она к тёплой старческой щеке и упорхнула, как и не бывало её тут.
Совсем неожиданно для Гайдаенко его навестила двоюродная сестра жены, Катя. Она вошла в сопровождении няни, когда Александр, убаюкиваемый тихим посапыванием спящих после обеда соседей, дремал, опустив на грудь зачитанный до дыр журнал. Катя появилась, как во сне. Александр так сразу и подумал, а раскрыв шире сонные глаза, понял, что это не сон, что перед ним живая красавица, его любимая родственница Катя.
– Катя? – привстал он. – Ты ли это? Или мне всё это снится? Какими судьбами? – посыпались на смущённую Катю вопросы.
– Да вот так, – пожала Катя плечами, – узнала, что ты здесь, и приехала.
– Откуда ж ты узнала? Я ведь никому не писал.
– Ты не писал – другие написали.
– Катя, милая, да садись же ты, что стоишь, как чужая, – спохватился Александр. – Возьми вон свободный стул.
Катя присела, повесив на спинку стула сетку, как догадался Александр, с передачей для него.
– Ну, рассказывай теперь, что у тебя хорошего, Катюша, – попросил он, удерживая её руку в своей.
– А что у меня может быть хорошего? Годы идут. Стареем, – не переставая улыбаться, ответила Катя.
– До старости тебе ещё далеко, – отверг Александр заявление Кати на этот счет. – И ты всё такая же красавица. И улыбка такая же, как десять лет назад.
Щеки Катерины заполыхали кумачом.
– Не красней, не красней, – Александр поднёс к губам крепкую в ссадинах руку Кати. – Красивей тебя я не встречал женщин, а улыбка… улыбка Моны Лизы.
– Ты неисправим, Саша, – взъерошила Катя волосы Гайдаенко. – Хоть и седина уже.
– Бобёр славен серебром, – хитро подморгнул Александр. – А как твой Фёдор?
– Фёдор верен себе: все так же попивает, если не сказать прямо – пьёт. Одна у меня отрада – дети.
– Старшей, если не ошибаюсь, около пятнадцати?
– Не около, а скоро шестнадцать. Скоро замуж запросится.
– И жених есть?
– Чего доброго, а этого хватает. Так и гляди…
– Тоже проблема, – улыбнулся Александр. – Но откуда ты всё же узнала, что я здесь? – его очень интересовал этот вопрос.
– Валентина написала, а ей из твоей части сообщили. Всё, как видишь, просто.
– Странно немного. Кто ей мог написать? Хатынцев, наверное, добрая душа.
– Хатынцев ли, Башкирцев какой – я не знаю, а вот жена твоя попросила разыскать тебя, – развела руками Катерина.
– И что же ей от меня надо? – потемнели и сузились глаза у Александра.
– Что жене от мужа надо? – улыбнулась какой-то неестественной улыбкой Катя. – Денег и любви.
– Деньги она получает по аттестату, и с любовью вопрос решен – любви не получилось.
– Наивный ты, Саша, как я погляжу. Ты же знаешь, что все сейчас, как с ума посходили, бредят чеками, японскими магнитофонами и дубленками… Твоя жена – не исключение.
Гадко стало на душе у Александра, это заметила Катя и попыталась хоть как-то его успокоить.
– Ну, что ты расстраиваешься так, чудак? – взяла она вспотевшую руку Александра. – Разве стоит из-за этого так переживать? Неужели ты не знал, что Валентина болеет этой заразной болезнью?
– Я не врач, Катя, угадывать чужие болезни не умею, и если хочешь, то передай ей, что чеков у меня нет, а какие были, я их роздал тем, кто носит мои горшки. И еще скажи: как только заживёт дырка в животе, поеду снова «зарабатывать» чеки, пусть уж подождет немного.
– Я понимаю тебя, Саша, ты на неё в обиде. Кстати, она тоже не хвалит тебя. Но это ваше дело, и вы сами разберётесь. – Катя всё ещё держала прохладную, нервно дрожащую руку Александра в своей и нежно поглаживала её.
– Расскажи лучше, что с тобой? Куда ранен? Как поправляешься? Может быть, тебе какое лекарство надо, постараюсь достать.
– Лекарств не надо, не беспокойся. Ранен я удачно, если считать вообще ранения удачей, и операцию сделали чисто. Вчера разрешили пройтись по палате, сегодня сделал вылазку в коридор. Ничего. Выкарабкаюсь. Помирать нам рановато.
– Тебе, наверное, после ранения отпуск полагается?
– Полагается. Поеду к отцу. Старик изнурился, ожидая меня, а жить ему осталось недолго. Поживем с ним спокойной жизнью отшельников в таёжной глуши, послушаем в последний раз вой метели…
Катерина, слушая, не слышала Александра. Она видела перед собой одинокого человека, и ей очень хотелось по-матерински прижать его голову к своей груди…
– А то заезжай к нам. Это совсем рядом, полтора часа самолётом. Рейсов много. Встретим на машине. – Сказала она, заранее зная, что её предложение не будет принято.
– Спасибо, Катюша, – поблагодарил Александр, – но я не смогу этого сделать. Времени мало, а дел много.
– Ну, какие дела могут быть у тебя сейчас? – повысила голос Катя. – Гуляй, отдыхай, развлекайся. Я бы только так и делала. Ведь неизвестно, как дальше дело обернётся. Хорошо, если без последствий. – Прикрыла глаза рукой: – Господи! Могли и убить. Ужас!
– А что тут ужасного, Катя? – не рисуясь, сказал Александр. – Каждый день кого-то мы не досчитываемся, а жизнь продолжается, и ты обрати внимание на лица людей. Ты не увидишь скорби по безвременно ушедшим. Скорбные лица ты увидишь на кладбищах, у могил сыновей, на стандартных памятниках кому выбиты стандартные слова.
– Скажи, Саша, ты должен знать, долго ли ещё это будет продолжаться? – спросила тихо Катя и оглянулась на жалобно всхлипывающего во сне «политика».
– Вряд ли кто знает это, – покачал головой Александр. – Если добиваться того, чего мы хотим, то это надолго. Если учитывать желания народа Афганистана, то смазывать пятки и чесать оттуда, чем раньше, тем лучше, потому как не туда мы влезли, не в свои дела влипли…
«Политик» недовольно стал покашливать. Александр, снизив голос до шёпота, постарался закончить речь на оптимистической волне.
– Твой Вовка, Катюша, туда уже не успеет, – заверил он.
– Ему уже двенадцать, – тоже перешла на шёпот Катя, – всё может быть, и я об этом уже задумываюсь, переживаю. Да и у нас в стране творится что-то непонятное… – Подняв полные любви и нежности глаза, Катя с улыбкой сказала: – Ты себя хоть береги, не лезь зря куда попало.
– Учту твои пожелания, – улыбнулся в ответ Александр. – Сберегу себя, для кого только – неизвестно.
– Для меня сбереги, – лукаво ответила Катя, а по глазам судить – вроде бы и серьезно.
Вскоре она засобиралась: ей надо улететь пораньше, засветло добраться домой. Выставила из сумки в пустую тумбочку кульки и банки, выпрямилась, и Александр отметил, что Катерина уже не та девочка, стройная и непоседливая, какой он её видел лет десять назад, а слегка пополневшая, но эффектная женщина. Приподнявшись на измятых подушках, Александр протянул руку Катерине, та же обняла его и крепко поцеловала в запекшиеся от постоянного жара губы. Поцелуй был долгим и крепким, так прощаются навсегда бесконечно близкие люди.
К отцу Александр приехал в конце ноября. В Сибири уже свирепствовала жестокая стужа, во всяком случае, Александру так показалось, а в Алма-Ате он только что оставил теплынь.
Самолёт прилетел в Иркутск ранним утром. Долго ждали, пока подадут трап. Гайдаенко безучастно смотрел в серый блистер, и всё вокруг было серым: серый снег, серые деревья, серые облака на сером небе. Воспоминания далекого прошлого выстраивались не сразу, может быть, виной тому бессонная ночь, усталость, боль. Что-либо светлое и радостное, что связано с его родиной, он никак не мог припомнить, лезла в голову какая-то невообразимая муть. Вспомнилось, как приезжал он поступать в железнодорожный техникум (на все готовое) и не набрал нужных баллов, как его потом приняли сразу в два техникума: финансово-экономический и физкультурный. История интересная, но долгая для рассказа. Самое интересное, что Александру расхотелось покидать родной дом, братишек и сестрёнок и ехать в пропахший антрацитом город и жить в неопрятном, обшарпанном общежитии. Отец таким решением сына был недоволен, он надеялся на скорую помощь старшего сына, а тут… Спасибо маме, она поняла и защитила.
Подъехал трап, и поплыли сонные, измятые лепёшки лиц вниз, на мёрзлую землю. Морозный воздух каменил лица. Смятой толпой побрели за провожатой к зданию аэропорта. Опять долгое ожидание своих вещей.
Наконец все процедуры окончены, и Александр очутился на улице с легким чемоданчиком в руках. Осталось решить, куда податься. Заскочить на минутку к тёте Даше, значит кровно обидеть её. Она любит долгих, неторопливых гостей, чтоб можно было, не спеша, угощать их самыми лучшими кушаньями, как, например, солёные грузди, огурцы, полненькие, без кожицы, помидоры, черемша, и тут же между стопками жаловаться на многочисленных своих племянников, которым отдала самые лучшие годы. Если б были свои дети… – Вытирала кончиками косынки она слёзы.
А может, наведаться к другу детства, к Митьке Прошкину? Тем более, что он тут же, в аэропорту, работает начальником каким-то, надо понимать, не маленьким, коль по телевизору позволили выступить, об этом писала как-то Александру сестра его, Людмила. Кто бы мог подумать, что из Митьки получится руководитель такого масштаба, ведь в школе он звезд не хватал, чего не скажешь о двойках. В шестом классе Митька остался на второй год, и пути их с этого времени стали расходиться…
– Скажите, где мне найти Прошкина? – спросил Гайдаенко человека в форменной одежде.
Человек смерил офицера с ног до головы.
– Какого Прошкина? Их тут два, а может, и больше.
– Митьку. Дмитрия Елизаровича.
– Тот сидит в управлении. Надо ехать автобусом.
– А кто второй Прошкин?
– Володька. Владимир Елизарович.
– Он же вот таким был, – удивился Гайдаенко.
– Наверное, и был когда-то таким, а теперь он инженер. Киевский институт закончил. Кстати, он сегодня в ночь заступает.
Нахлынувшие теплой волной воспоминания окончательно убедили Александра навестить друга детства.
Через полчаса он был уже в управлении.
В приёмной, рядом с секретаршей, сидела еще одна женщина, с соломенными волосами, они о чём-то толковали и не обратили внимания на Гайдаенко. Подумаешь, офицер, пусть даже и подполковник, разве мало их тут толкается по вокзалам и аэропортам с одной целью, с одним желанием, побыстрей уехать, поскорей приехать… И этот из таких.
– Я бы хотел встретиться с Прошкиным, Дмитрием Елизаровичем, – обратился Гайдаенко к той, что сидела за столом. Но ответила светловолосая.
– По какому вопросу? Если за билетом, то он этим не занимается.
– По личному делу.
– Он проводит совещание. Подождите немного, – предложила светловолосая, поправляя на плечах белый платок.
– А как долго он совещается?
Светловолосая пожала плечами.
Входили и выходили посетители, а Митькин светлый образ не появлялся и не высвечивался в проёме дверей. Гайдаенко хотелось прилечь, от усталости ныл позвоночник, усилилась боль внизу живота.
«Чёрт дёрнул приволочься сюда со своими телячьими эмоциями, – досадовал он. – Прилёг бы где-нибудь на кресле вокзала и отдохнул бы».
– Передайте, прошу вас, – приблизился он к секретарше, – что в приемной Гайдаенко. У меня нет времени.
– Не могу я этого сделать, – испуганно вытаращила глаза секретарша, а Александр подумал: «Если им так страшно на этой работе, то, какого чёрта они за неё держатся?»
И вдруг в глазах стало темнеть, внезапно затошнило. Опершись на стол, он стал медленно опускаться мимо стула. Белокурая, видя неладное, не растерялась и быстро подставила стул. Звякнуло стекло, Александру подали стакан с водой.
– Я пойду, скажу ему, – решилась секретарша, как только Гайдаенко пришёл в себя. – Повторите, пожалуйста, фамилию.
Тут же она вернулась, осторожно прикрыла дверь.
– Не может. Занят, – сказала она, и было видно по её лицу, что она смущена и готова извиниться за кого-то.
Александр повернулся и, молча, вышел. На улице его обожгло морозцем, вдохнув плотного свежего ветерка, он почувствовал облегчение. «Баба с возу – кобыле легче, – решил он. – И о чём бы мы с ним говорили? Он бы участливо корчил рожи и снисходительно, с высоты своего положения, судил бы мою офицерскую жизнь, в которой смыслит не более, чем свинья в апельсинах. Поведай ему о своем разладе в семье, и тут же услышишь что-то нелестное об офицерских жёнах вообще. А что он знает о них?»
– Карету мне! На недельку в Копылово! – произнес бодрым голосом, и прозвучало это громко, потому что шедший впереди старик остановился и впялил в Александра блеклые, с вывороченными красными веками, глаза.
Автобус въехал в село Копылово в густые сумерки и остановился у «Чайной», бывшей некогда церковью, потом клубом, потом рестораном, а потом уже затоптанной, заплёванной забегаловкой, именуемой громко «Чайная». Здесь шофёр должен был съесть свою котлету. Александр не стал ждать конца этой трапезы, тем более что шофёр не спешил, взял чемоданишко и пошёл пешком. Ему, в общем-то, было удобней доехать до отца, а не переться через всю деревню добрых полтора-два километра по такому морозищу.
К вечеру мороз крепчал. Щипало с непривычки нос, уши, щеки, и Александр заспешил по гладкому тракту вдоль улицы.
На пустынной, выстывшей улице – ни души. В избах закрыты ставни, кое-кто не успел этого сделать, но обязательно сделает перед тем, как спустить с цепи злого пса. Почуяв скрип снега из-под сапог чужака, хриплым басом залаяла собака Тюменцевых. «Интересно, жив ли сам Тюменцев? – подумалось тут же Александру. – У него же было ранение головы».
Занесенные снегом избушки выглядели сказочными. Казалось, что вот сейчас выйдет яркая луна и на одной из крыш «Серебряное Копытце» размечет сверкающие драгоценные камни. А вон из той трубы, швыряющей в небо искры, вот-вот вылетит ведьма на кудрявом пихтовом помеле… За деревней бесы перемели дорогу, и Нечистая в белом бродит средь покосившихся чёрных крестов. На кладбище одиноко светится костер, знать, кто-то не дотянул до талой земли…
Не успел Александр закрыть калитку, как под ноги ему белым облаком выкатился пес и залился звонким лаем. Сверкнул луч света из растворившихся дверей, заскрипели мерзлые половицы сеней, на крыльце появилась сутулая фигура отца. Всматриваясь в темноту, он закричал на неумолкающего пса, соскучившегося на безлюдьи по возможности облаять кого угодно, хоть отца родного. Такая его собачья доля – сначала облаять, а потом лизнуть.
– Ох, и волкодава ты завёл! – сказал сын, войдя в сени на свет.
– Шурка?! – признал сына отец, и пригнулся ещё ниже.
– Он самый, – остановился сын напротив отца. – Ну, здравствуй!
– Здравствуй, сынок! – всхлипнул старик и притёрся небритой щекой к холодной щеке сына. Смахнул, не таясь, слезу корявой, с толстыми обломанными ногтями, рукой. – Я уж думал, не дождусь.
«Сдал отец, постарел, – рассматривал Александр отца при свете тусклой лампочки в прихожей. Отец бестолково топтался между столом и печкой. – Плоховато живёт», – обвёл он взглядом каморку, в которой ему было всё знакомо до мелочей. Всё стоит на своих местах, но всё же, что-то не так, как было при матери.
– Где тут можно повесить шинель? – спросил он отца, принявшегося разжигать печку.
– Да сбрось куфайку, – кивнул отец на угол, где висела его одежда. Видя замешательство сына, сам подошёл и скинул на пол старую, лоснящуюся телогрейку. Заметив пристальный взгляд сына на этой одежонке, пояснил: – Её к поросятам одеваю.
– Купи новую, стоит она копейки. Зачем такую грязь на себе носить, – не удержался сын от замечания.
– Поросятам я в ней люб боле, – перевёл на шутку разговор отец и, кивнув на ноги Александра, сказал: – В такой обувке нонче можно ног лишиться. Мороз ночами жмёт до сорока, и ветер откуда-то взялся, раньше-то его здесь никогда не бывало. На Половинке, в Хоготе ветры были страшные, помню, как под груз ходили. А у нас всегда тихо было. Бывало, подъезжаешь к деревне, а она вся в столбах дыма, так свечой и стоит. – Отец наполнил гнутым черпаком чайник и поставил его на печку. – Я думаю, – продолжал он, подкладывая дрова на взявшийся огонек из лучин, – это все из-за того, что весь лес повырубали. Раньше он тут вот, сразу же за огородами был, медведи бродили, деда твоего Степана в ста саженях от усадьбы заломал, еле спасли. За тетеревами и рябчиками, как в курятник, ходили…
Александр сто раз уже слышал жалобы отца на бесхозяйственность, на близорукость руководства, не способного умно управлять государством, на людей, которые постепенно превращаются в рвачей и думают только о себе…
– Я видел на кладбище огонь, – перебил отца.
– Калошиха вчера померла, – помедлив, отец добавил: – От сердца… Недавно хоронили сына Митьки Кокорина, в Ав-авганистане тоже убили. То с востока везли, теперь с другой стороны везут. Неужель нельзя не воевать, не убивать, люди же ведь? – отец сосредоточенно скрёб ногтем клеёнку, потом мягко выругался, заметив, что старается напрасно: на клеенке чудом уцелел, не стерся с годами, лепесток рисунка. – Сам-то как теперь? Здоровый, али как? – не поворачиваясь к сыну, и втянув голову в плечи, как бы прислушиваясь к своему голосу, спросил отец.
– Здоровый, здоровый, пап! – хотел убедить отца Александр в несуществующем, но того трудно было провести.
– Худой ты, – только и сказал отец, и тяжело вздохнул.
– Это не страшно. Были бы кожа да кости…
– И то правда, только… – отец хотел сказать сыну, что изменился он, и седина пробилась, но не стал лишний раз напоминать ему об этом, и без того не блещет весельем от встречи, как бывало, его сын.
– Надолго сюда? – спросил он, бросая на сковороду кусочки мелко нарезанного сала.
– Дней двадцать поживу.
– А туда не поедешь?
– Нет, не поеду.
– А в этот, как его? В Авганистан свой?
– Туда поеду. Бросил там своих, и не знаю, что с ними…
– Без тебя там никак не обойдутся? Может, хватит с тебя?
– Теперь не страшно. Есть такая теория, по которой выходит, что второй раз уже не подстрелят, – высказался Александр, но, заметив, что не убедил отца классической теорией, пояснил проще: – Ты же сам рассказывал, что прятался во время бомбежки в свежих воронках, и два раза бомба в одно место не попадала.
– Говорил, – врастяжку произнес отец. – Только бомба – не пуля. Пуля – дура, ей, что в первый, что во второй, один чёрт.
– Вопрос решён, пап. У меня и предписание явиться в свою часть, – сказал, как отрезал, Александр. Отец хотел что-то сказать, но только потоптался на одном месте и зашаркал слабыми ногами на кухню.
– Тут целое происшествие недавно у нас было, – послышался его голос из-за перегородки. – Гришка сына своего на Пасху убил.
– Это сосед, что ли? Случайно?
– Какой там случайно. Убил как есть. Из ружья в грудь, и – наповал.
– И что же за причина? – спросил Александр, припоминая убитого. Он немного знал эту семью, они приехали после, и Александр видел Гришку во время своих отпусков.
– Убежали с другом из армии, неделю тут пили, потом их Гришка выпроводил в часть, а они вернулись, побродили по деревне, поддали еще, пришли к Гришке, разбили окно, хотели влезть, тут и шмякнул он картечью. Так под окном и свалился мешком. – По тону рассказа можно было судить, что отец оправдывает Гришку и не оправдывает его сына.
– Ну, и что ему?
– Ничего. – Старик выдержал паузу: – Не пойму, как можно стрелять в человека, да еще в сына.
Не мог Александр спокойно жить у отца, зная, что где-то тут, рядом живёт его милая Анюта. Как-то враз затосковал, помрачнел. Часто и подолгу лежал на кровати, уставившись в потолок, думая о чём-то своём. Отец, видя это, ничего не говорил, а только тяжко вздыхал да качал головой, бурча что-то себе под нос.
По вечерам, за ужином, отец ставил на стол бутылку водки, и Александр, раньше безразличный к «зелью», с видимой охотой брал стакан и залпом выпивал до дна. Веселее он не становился, ещё ниже склонялась его поседевшая голова, мутнел взгляд серых глаз. Отец не донимал его расспросами, и сын был благодарен ему за это. Когда в бутылке не оставалось ни капли, Александр тяжело поднимался с лавки и, пошатываясь, брёл за перегородку, там падал лицом вниз на кровать и так лежал, то ли думая о чём-то, то ли забывшись глубоким сном. Скрипнет раз-другой ржавая сетка койки, и снова могильная тишина на долгое время.
Однажды отец все же решился и после первого стакана, опорожненного сыном, сказал ему:
– Может, тебе съездить куда-нибудь? В Иркутск, хотя бы, к тетке Даше. Ждёт давно.
Сын не сразу ответил. Ему не просто было решить эту задачу со многими неизвестными. Нестерпимо влекло к Анюте и останавливало сомнение в необходимости встречи. Может, ей лучше будет без него, может быть, она давным-давно забыла, что есть он такой, а он, дурак, помнит и надеется… Тянуло к сыну, но там жена и тёща, встреча с ними не то, чтобы нежелательна, она просто невозможна. Ехать к друзьям тоже не хотелось. Получится как с Митькой. Да и о чём с ними говорить? Пятнадцать лет всё-таки. Военных среди друзей нет, кто-то служил срочную, но и он едва ли понял жизнь офицера так, как следует ее понимать. Так же и Александр, в свою очередь, не мог понять жизни «цивильных». Обывательщина, пьянство, довольствие малым в духовной жизни – были очевидны.
Отец, отложив вилку, терпеливо ждал, что же скажет сын. Александр приподнял отяжелевшую голову, внимательно и долго смотрел на отца и, как ни жаль ему было одинокого старика, решил сказать всю правду, мало надеясь, что его слова будут поняты правильно, ведь отец всё мерил своими мерками, и они весьма отличались от мерок его, Александра, хотя в основе их было одно и то же – честь и справедливость.
– Не сердись на меня, – положил руку на плечо отца Александр, – но мне действительно надо ехать. Меня ждёт девушка.
Отец аж поперхнулся.
– Какая еще девушка? – уставился он на сына, и возмущение выдавило краску на его скулах. – Об этом ли думать тебе сейчас?
– Иначе я не могу поступить, – тихо, но упрямо заявил сын.
Сгорбилась пуще прежнего спина отца, выпучила острые крылья лопаток.
– Как знаешь, ты теперь не маленький, – прохрипел он.
– Думаю, со временем и ты меня поймёшь. – Сын не убирал руку с плеча отца.
– Кто хоть она такая? Не из патлатых? – отец глядел с прищуром на вконец запутавшегося, как ему казалось, сына.
– Нет, она деревенская, – улыбнулся Александр. – Сирота, и детишек куча.






