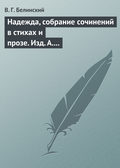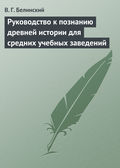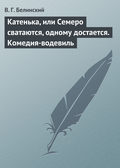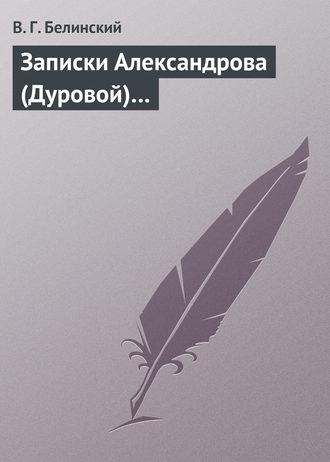
В. Г. Белинский
Записки Александрова (Дуровой)…
4. Нестор же Васильевич Кукольник пишет драматические фантазии потому, что ему бог дал прекрасное дарование писать поэтические фантазии.
5. Что же касается до того, что Девица-кавалерист, Рафаил Михайлович Зотов и кн. А. А. Шаховской рассказывают нам повести, – то заметим, что
a. Девицу-кавалериста отнюдь не должно смешивать с Р. М. Зотовым, даже и в шутку, а не только в правду.
b. Девица-кавалерист пишет повести потому же самому, почему писал и пишет их теперешний редактор «Сына отечества», с тою только разницею, что перевес права бесспорно на ее стороне, потому что на ее стороне перевес таланта…
В 3-й своей книжке «Сын отечества» вот как рассуждает о «Павильоне» г. Александрова:
Как хорош эпизод об Олиньке в нынешнем добавлении! Как тут все просто и естественно! Можно ли сравнить такой рассказ с кровавыми, неестественными подробностями «Павильона». Мы говорим: неестественными. Нам могут (и очень) возразить, что все так точно было в самом деле: ксендз воспитывал в павильоне девушку, граф похитил ее, а ксендз зарезал ее. Но все-то что такое? Неестественное, нравственное уродство, а уродство не принадлежность искусства изящного. Нас простит г-жа Дурова за наши замечания, потому что мы говорим наше мнение искренно (конечно) и не следуем обычаю других: хвалить наповал или бранить оптом писателя. (Верим…) Мы знаем и уверены, что дарования бывают различны (что правда – то правда), и что всего труднее, может быть, узнать настоящую дорогу своего дарования, так что самые генияльные люди в том ошибались[1]. Хотите ли примеров? Байрон и Державин были великие лирики (?!), В. Скотт великий романист, Шиллер великий драматик, Ирвинг-Вашингтон превосходный рассказчик новостей, но назло природе хотели быть – Державин и Байрон драматическими писателями, В. Скотт историком (о, история – камень преткновения!..), Шиллер историком и философом, а И. Вашингтон решительно отказался от повести и упорно пишет теперь истории, в которых каждая глава доказывает, что он историк плохой{12}.
Что сказать об этом? «Ксендз воспитывал в павильоне девушку, граф похитил ее, а ксендз зарезал ее»; можно ли так излагать содержание повести? Таким изложением можно опошлить любую драму Шекспира. «Мавр из ревности удушает невинную жену, а потом, узнавши о ее невинности, зарезывается: что это такое? – неестественное уродство, а уродство не есть принадлежность искусства изящного». Хороша критика на «Отелло» Шекспира? О, мы умеем критиковать! Лажечникову мы не позволим писать романов{13}, Девицу-кавалериста не оставим предостеречь писать повести – мы как раз предостережем их, уверив, что они идут по ложной дороге, что одно им спасение – перестать писать, предоставить эту заботу нам. Кстати: уведомляем, что мы пустились писать драмы (слово «мы» достаточно указывает на их высокое достоинство), а посему и объявляем, что все драматики – бывшие, сущие и будущие – от Шекспира до господина х включительно – шли, идут и будут идти ложною дорогою, вопреки природе и назло своему дарованию. Не мешайте нам – мы любим простор; а впрочем, мы критики честные и добросовестные, «мы говорим наше мнение, хотя и не грамматически, но искренно, и не следуем обычаю других: хвалить наповал или бранить оптом писателя»{14}. Что же касается до того, что Байрон (вкупе и влюбе с Державиным) был лирик, об этом нечего много и говорить. Но что касается до Вашингтона Ирвинга, то мы не согласны, будто он уж решительно плохой историк и что его «История Колумба» потому только никуда не годится, что г. Полевой сочинил отрывок из своей истории Колумба, которая, без сомнения, была бы лучше Вашингтоновой, если б была написана…{15} Равным образом, мы не согласны и с тем, будто Шиллер назло природе был историком и философом. Мы знаем из достоверных источников, что Гегель признавал в Шиллере философский элемент, едва ли не больший еще, чем поэтический, и признал Шиллера истинным основателем науки изящного (эстетики){16}. Но что нам до Гегеля – Гегель врет, Гегель – жалкое явление после Шеллинга, так же как Варнгаген – после Шлегеля; современная немецкая литература – вздор, пустоцвет. Да читали ли вы Гегеля? – Зачем читать – мы и так знаем. Изучали ли вы современную немецкую литературу? – Когда нам! мы пишем водевили…{17}