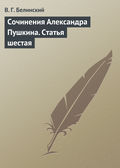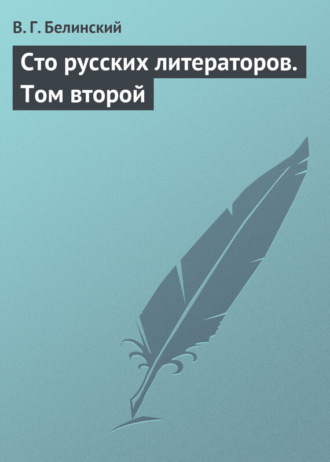
В. Г. Белинский
Сто русских литераторов. Том второй
Внесут и мертвого положат пред тобою:
Не извлеку меча, хотя иду на брань,
И разделю живот тебе (!) и долгу в дань{28}.
«Читая сии стихи (восклицает критик), сердце мое наполняется состраданием и жалостию к состоянию сего любовника. Я не научусь у него ни громкости слога, ни высокости мыслей, но научусь любить и чувствовать» (т. II, стр. 124–127).
Вот истинно тонкая критика!
Да, с таким взглядом на искусство и литературу трудно, или, лучше сказать, бесплодно было противоборствовать реформе Карамзина: бой был слишком неравный! Очень забавно видеть, как наш критик восхищается плоскими и грубыми эклогами и притчами Сумарокова; как он приводит, в образец красоты, вирши Симеона Полоцкого. Чтобы показать, какова, по мнению Шишкова, должна быть изящная проза, выпишем несколько строк из его перевода «Освобожденного Иерусалима» Тасса:
«Там в несметном числе представляются взорам смердящие гарпии, и центавры, и сфинксы, и бледные горгоны; там тьмами уст лают прожорливые скилы, и свистят гидры, и шипят пифоны; там химеры, черный пламень рыгающие, и Полифемы, и Герионы ужасные, и новые, нигде не виданные и не слыханные чудовища, из разных видов во един смешанные и слиянные».
И Шишков умер с мыслию, что славянский язык краше паче всех языков в мире; что иностранные слова сгубили красоту российского слога; что Сумароков был великий пиита и что он, Шишков, был хранителем и стражем российского языка и словесности, хотя тот и другая шли своим путем, мимо своего хранителя и стража, даже и не зная о его существовании… Приятно умереть в такой сладостной уверенности!..
И между тем из 17 огромных томов сочинений Шишкова можно извлечь больше 17 страниц дельных и полезных мыслей о словопроизводстве, корнесловии, силе и значении многих слов в русском языке{29}. Это был бы огромный, тяжелый, но не бесполезный труд…
За статьею покойного Шишкова следует басня Крылова «Кукушка и Петух». Говорить о заслугах и значении Крылова в русской поэзии и литературе почитаем излишним, тем более что читателям «Отечественных записок» известно наше мнение о великом русском баснописце{30}. Что до новой басни, – вот она – пусть судят о ней сами читатели:
«Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!»
– А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!
«Тебя, мой куманек, век слушать я готова».
– А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова…
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так – собою невелички,
А песни, что твой соловей!
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички,
На всех ссылаюсь в этом я».
Тут воробей, случась, промолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,
Все ваша музыка плоха!»
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.
К басне Крылова приложена хорошенькая картинка г. Дезарно: на ней изображены три человеческие фигуры в библиотеке, – одна с головою петуха, другая – кукушки, третья – воробья; две из них тоненькие и с очками на носу; а третья толстая в без очков, рот ее разинут по-петушьи, и, кажется, слышно, как дерет она свое петушье горло{31}.
За баснею Крылова следуют повести гг. Загоскина и Булгарина. Нам кажется, что не случай, а сама судьба поместила рядом повести этих знаменитых романистов, – и в этом распоряжении мы видим глубокое и таинственное значение. Постараемся раскрыть его.
Мы не без намерения распространились о литературном поприще покойного Шишкова: мы смотрим на книгу «Сто литераторов» как на вывеску русской литературы, заключающую в себе статьи и портреты только представителей русской литературы. Следовательно, цель и обязанность нашей статьи и есть – указать, почему г. Смирдин почитает того или другого писателя представителем русской литературы. Литературная сметливость и критический такт г. Смирдина так тонки и верны, что мы разбором их смело надеемся сделать нашу статью занимательною. Посему бросим взгляд на литературное поприще гг. Загоскина и Булгарина.
Мы не без основания сказали, что гг. Загоскин и Булгарин явились рядышком не по произволу г. Смирдина, но по многознаменательному преднамерению судьбы; г. Смирдин явился здесь, впрочем совершенно бессознательно, истолкователем таинственной и непреложной воли судьбы. Объяснимся.
В литературной судьбе гг. Загоскина и Булгарина очень много общего. Просим не забывать, что мы это сходство видим только в литературном поприще обоих этих писателей, а не в чем-нибудь другом, и под литературою разумеем только книгу, а не то, для чего и как сочинена или пущена она в свет. Во всем нелитературном мы не видим ни малейшего сходства между г. Загоскиным и г. Булгариным, как между белым и черным, майским днем и октябрьскою ночью{32}. Но зато в направлении и деятельности их талантов какое сходство! Во-первых, литературное направление г. Загоскина чисто моральное и нравственно-сатирическое; г. Загоскин никогда не забывал благородной обязанности писателя – забавлять поучая, поучать забавляя, наставлять осмеивая пороки и осмеивать пороки наставляя. Литературное поприще г. Булгарина тоже чисто исправительное, и эпитет «нравственно-сатирический»{33} столько же сросся с именем г. Булгарина, сколько «божественный» с именем Гомера, и титул «царя поэтов» с именем Шекспира. Правда, первые труды г. Загоскина были комедии, а не нравственно-сатирические статейки, как у г. Булгарина; но, во-первых, здесь разница только в форме, а не в деле, не в цели, не в таланте и не в достоинстве; а во-вторых, несколько нравоучительных статеек было напечатано и г. Загоскиным. Г-н Булгарин прославил Архипа Фадеевича и Выжигина; г. Загоскин прославил Богатонова и Доброго малого{34}. Не оставляя нравоописательных и нравственно-сатирических статеек, г. Булгарин принялся за роман и, после Нарежного, действительно первый написал русский, хотя по названию и по именам действующих лиц, роман. Не оставляя комедии, г. Загоскин написал первый русский исторический роман. «Иван Выжигин» и «Юрий Милославский» возбудили в публике, как говорится, фурор и подняли своих авторов на вершину известности, славы и даже доставили им большие вещественные выгоды. Обстоятельство очень сходное! Приятели г. Булгарина превознесли его роман до седьмого неба; неприятели ставили его ниже известного романа «Похождения Совестдрала Большого Носа»; приятели г. Загоскина объявили его роман гениальным созданием; зато г. Булгарин в «Северной пчеле» поставил его ниже даже своих собственных романов{35}. Опять сходство! Разница состояла только в том, что при равном художественном достоинстве роман г. Булгарина отличался отсутствием вероятности, естественности, теплоты, был холодно-исправителен, ледяно-беспощаден к своим героям, которые все окончили свои похождения – кто в собачьей конуре, кто на виселице, кто в ссылке; роман же г. Загоскина, при отсутствии идеи, при поверхностности взгляда на жизнь, отличался какою-то задушевною теплотою, каким-то добродушием, которые сначала приняты были публикою за силу, глубокость и обширность таланта. Разница, очевидно, происходившая не от литературных причин, почему мы и оставляем ее без объяснения. Впрочем, и в «Юрии Милославском», лучшем своем произведении, г. Загоскин остался верен своему моральному направлению, почему теперь его с большою пользою могут читать дети. Кстати, опять разница: «Юрий Милославский» пережил «Ивана Выжигина» – он до сих пор еще годится хоть для детей и простого народа, тогда как «Выжигин» уже ни для кого не годится и не читается даже простым народом, хотя и дешево продается на Апраксином дворе вместе с «Россиею»{36} того же автора. «Дмитрий Самозванец» г. Булгарина был неудачною попыткою выйти из нравственно-сатирической и нравоописательной сферы: сначала роман возбудил, своим заглавием, внимание публики, но по прочтении был тотчас же забыт ею. Родился он довольно шумливо, благодаря журнальным приятелям и неприятелям г. Булгарина, но скончался вмале, – и жития его было без малого год. В сочинениях г. Загоскина не находим параллели с «Дмитрием Самозванцем» г. Булгарина; но прерванное этим романом сходство тотчас же восстановляется «Рославлевым»{37}, который делает собою параллель «Петру Выжигину», ибо «Рославлев» точно так же относится к «Юрию Милославскому», как «Петр Выжигин» относится к «Ивану Выжигину»: «Петр Выжигин» есть повторение «Ивана Выжигина», «Рославлев» есть повторение «Юрия Милославского». О том и другом романе обоих романистов можно сказать: старые погудки на новый лад! Сходство между ними увеличивается и содержанием: великая война 12-го года с равным успехом представлена в карикатуре обоими сочинителями; в том и другом романе трудно решить, кто забавнее, смешнее и ничтожнее – герой или Наполеон. Но в судьбе романов есть разница: «Петр Выжигин» был уже третьим романом г. Булгарина, которого романическая слава была уже подорвана вторым его романом «Дмитрием Самозванцем», жестоко обманувшим блестящие надежды публики, а «Рославлев» был вторым романом, следовательно, «Дмитрием Самозванцем» г. Загоскина: подав великие надежды до своего появления, он уничтожил их своим появлением. Отсюда сходство литературной участи обоих романистов несколько нарушается: г. Булгарин написал четвертый роман, – «Мазепу», который был слабее и ничтожнее первых трех; но в это время г. Булгарина поддержала «Библиотека для чтения»{38}, в свою очередь, обязанная своим успехом красноречивым объявлениям г. Булгарина в «Северной пчеле». Статья «Библиотеки для чтения» была ловка: с ожесточением нападая на неистовство юной французской литературы, рецензент делает намеки, что и «Мазепа» г. Булгарина очень не чужд этого недостатка, для чего и выписывает из него описание пытки. Цель приятельской статейки была вполне достигнута: если роман никем не был похвален, зато многими был куплен, – а это главное. Г-н Загоскин издал третий свой роман «Аскольдову могилу», которого даже и приятели автора не хвалили, и враги не бранили, и публика не читала. В это время обоим романистам явился опасный соперник – г. Греч, которого «Черная женщина», благодаря еще более ловкой статье{39} «Библиотеки для чтения», пошла шибко, как выражаются наши книгопродавцы. Сверх того, романическая слава г. Булгарина еще прежде была сильно поколеблена более опасным, чем г. Греч, соперником: мы разумеем покойного А. А. Орлова, до бесконечности размножившего поколение Выжигиных{40}. Г-н Булгарин уже сознавал свое падение, – и «Записки Чухина»{41} были его последнею попыткою на роман; они тихо и незаметно прошли на Апраксин двор и в мешки букинистов – иначе ходебщиков или ворягов. Тогда г. Булгарин, подобно Вальтеру Скотту, принялся за историю. Всем известен блестящий успех его «России»; если же кто бы не знал о нем, тому советуем справиться на Щукином дворе. Но истинный гений всегда найдется; обманываясь большую половину жизни в своем призвании, он сознает его хоть в старости: г. Булгарин теперь понял, что наш век не поэтический и не романический, а гастрономический, и что он, г. Булгарин, не поэт, не романист и не историк даже, а эконом{42}, понял, и принялся за издание поваренного журнала, который «пошел шибко», по крайней мере шибче всех наших моральных журналов, начиная от того, который утверждает, что железные дороги ведут прямо в ад, до того, который провозгласил Пушкина и Лермонтова искусителями и врагами человеческого рода, а г. Навроцкого великим сочинителем{43}. Г-н Загоскин остался верен своему романическому призванию и только раз изменил ему, написав комедию «Недовольные»{44}, в которой с большим успехом изобразил нравы русского общества времен Богатоновых и Добрых малых и в которой очень зло осмеял глупое обыкновение пользоваться водами, заставив героиню комедии сказать о водопийцах: «Ну, батюшки, пошли на водопой!» Комедия имела блестящий успех, хотя дана всего два раза: сперва в бенефис артиста, а потом для повторения. Потом (или, может быть, немного и прежде) г. Загоскин переделал свой неудавшийся роман «Аскольдову могилу» в либретто, на которое г. Верстовский написал оперу, особенно любимую московским простонародьем. Затем последовали два романа, «Искуситель» и «Тоска по родине», из которых последний г. Загоскин опять переделал в либретто, на которое г. Верстовский написал оперу, не понравившуюся ни порядочному обществу в Москве, ни простонародью, хотя герой оперы ему и свой брат и откалывает такие штуки, что уморушка да и только. О самых романах мы не говорим: de mortuis aut bene aut nihil[3]. Что же касается до верности параллели, которую проводим мы между обоими романистами со стороны литературной участи, – она очевидна: «Искуситель» и «Тоска по родине» были для г. Загоскина «Записками Чухина», то есть девятым валом для его славы романиста. Но сходство и этим не оканчивается: г. Булгарин прежде сочинял свои романы все в четырех частях, а после «Петра Выжигина» стал сочинять уже только в двух частях, – и его двухчастные романы стали походить на повести, впрочем довольно плотно сбитые. Г-н Загоскин первый роман свой издал в трех частях, хотя и маленьких; второй составил в четырех побольше; третий – опять в трех, но уже больших частях, которые в чтении могут показаться за двенадцать; но после «Аскольдовой могилы» он стал сочинять романы уже только в двух частях, – и его двухчастные романы стали походить на повести, разгонисто, с большими пробелами напечатанные. И это было недаром: оба романиста, поддаваясь духу времени, очевидно начали сбиваться на повесть. И в самом деле, в журналах и альманахах начали появляться их повести, как-то: «Похождения квартального надзирателя», «Кузьма Рощин», «Три жениха» и пр. Наконец, оба они явились с повестями в толстом альманахе г. Смирдина, словно Ока и Кама, слившиеся в Волге. Но прежде, нежели будем говорить об этих двух повестях, мы должны докончить нашу параллель и вместе с тем, как требует добросовестность, показать и несходства, чтобы параллель не вышла натянутою. Говоря об «Иване Выжигине» и «Юрии Милославском», мы только слегка упомянули о похвалах и порицаниях, которыми был встречен тот и другой роман, а это неинтересная история, особенно в отношении к «Ивану Выжигину». Что касается до «Юрия Милославского», он был принят с общими и безусловными похвалами, которые были преувеличенны, но которых частию роман был и достоин, ибо в нем есть и оригинальность, и свежесть, и теплота, и даже некоторая степень таланта{45}. Брань встретил «Юрий Милославский» только в «Северной пчеле»; но это потому, что в «Северной пчеле» постоянно преследовались все романы, не г. Булгариным и г. Гречем сочиненные{46}, исключение оставалось только за плохонькими «И неопасными для романической монополии и еще за «Фантастическими путешествиями» Барона Брамбеуса, который сам был акционером в монополии. Что же касается до «Выжигина», то едва ли какая книга удостоивалась таких похвал от «Северной пчелы» и таких нападок со стороны всех других изданий. Особенно примечательно то, что «Выжигина» с ожесточением преследовали и те издания и люди, которые потом с восторгом превозносили его, как-то: «Московский телеграф», по заключении мира с «Пчелою», перед выходом первого тома доселе еще неоконченной «Истории русского народа»{47}; г. Сомов, имевший странное обыкновение передаваться от одной партии к другой, и, наконец, в наши дни, один фельетонист, некто г. Л. Л., писавший против г. Булгарина в четырех изданиях – в «Телескопе», «Молве», «Галатее» и, еще недавно, в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду»«, а теперь прославляющий г. Булгарина, вделавшись фельетонистом «Пчелы»{48}. Но г. Булгарин, как истинный талант, имел и имеет таких врагов, которые неизменны от колыбели до гроба в своей к нему зависти. Вот как один из них характеризовал некогда его «Ивана Выжигина»: