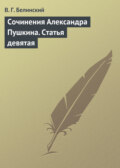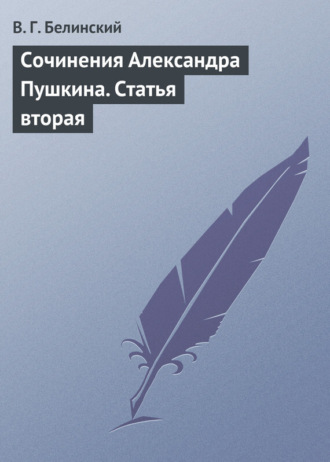
В. Г. Белинский
Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая
Действительно, у романтической поэзии необходимо должна быть своя форма, непохожая на форму классической, но это потому, что всякая оригинальная идея имеет свою, ей присущую, оригинальную форму, всякий самобытный дух является в свойственной ему самобытной личности. Однакож, как форма есть творение явившегося в ней духа, то, отправляясь от формы, никогда нельзя постичь заключенного в ней духа; наоборот, только отправляясь от духа, можно постичь и самый дух и выразившую его форму. Поэтому сущность романтизма заключается в его идее, а не в произвольных случайностях внешней формы.
Романтизм – принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзии: его источник в том, в чем источник и искусства, и поэзии, – в жизни. Жизнь там, где человек, а где человек, там и романтизм.{8} В теснейшем и существеннейшем своем значении романтизм есть не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца. В груди и сердце человека заключается таинственный источник романтизма; чувство, любовь есть проявление или действие романтизма, и потому почти всякий человек – романтик. Исключение остается только или за эгоистами, которые, кроме себя, никого любить не могут, или за людьми, в которых священное зерно симпатии и антипатии задавлено и заглушено или нравственною неразвитостью, или материальными нуждами бедной и грубой жизни. Вот самое первое, естественное понятие о романтизме.
Законы сердца, как и законы разума, всегда одни и те же, и потому человек по натуре своей всегда был, есть и будет один и тот же. Но как разум, так и сердце живут, а жить – значит развиваться, двигаться вперед: поэтому человек не может одинаково чувствовать и мыслить всю жизнь свою; но его образ чувствования и мышления изменяется сообразно возрастам его жизни: юноша иначе понимает предметы и иначе чувствует, нежели отрок; возмужалый человек много разнится в этом отношении от юноши, старец – от мужа, хотя все они чувствуют одним и тем же сердцем, мыслят одним и тем же разумом. Это различие в характере чувства и мысли вытекает из природы человека и существует для каждого: оно связано с его неизбежным свойством расти, мужать и стареться физически. Но человек имеет не одно только значение существа индивидуального и личного. Кроме того, он еще член общества, гражданин своей земли, принадлежит к великому семейству человеческого рода. Поэтому он – сын времени и воспитанник истории: его образ чувствования и мышления видоизменяется сообразно с общественностью и национальностью, к которым он принадлежит, с историческим состоянием его отечества и всего человеческого рода. Итак, чтоб вернее определить значение романтизма, мы должны указать на его историческое развитие. Романтизм не принадлежит исключительно одной только сфере любви: любовь есть только одно из существенных проявлений романтизма. Сфера его, как мы сказали, – вся внутренняя, задушевная жизнь человека, та таинственная почва души и сердца, откуда подымаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному, стараясь находить себе удовлетворение в идеалах, творимых фантазиею. Здесь для примера укажем только на то, как проявлялась любовь – по преимуществу романтическое чувство, – в историческом движении человечества.
Восток – колыбель человечества и царство природы. Человек на востоке – сын природы: младенцем лежит он на груди ее и старцем умирает на ее же груди. Восток и теперь остался верен основному закону своей жизни – естественности, близкой к животности. Любовь на востоке навсегда осталась в первом моменте своего проявления: там она всегда выражала и теперь выражает не более, как чувственное, на природе основанное, стремление одного пола к другому. Само собою разумеется, что первый и основной смысл любви заключается в заботливости природы о поддержании и размножении рода человеческого. Но если б в любви людей все ограничивалось только этим расчетом природы, люди не были бы выше животных. Следственно, это чувственное стремление в любви человека одного пола к человеку другого пола есть только один из элементов чувства любви, его первый момент, за которым в развитии следуют высшие, более духовные и нравственные моменты. Востоку суждено было остановиться на первом моменте любви и в нем найти полное осуществление этого чувства. Отсюда вытекает семейственность, как главный и основной элемент жизни восточных народов. Иметь потомство – первая забота и высочайшее блаженство восточного жителя; не иметь детей – это для него знамение небесного проклятия, нравственного отвержения. По закону иудейскому, бесплодные женщины были побиваемы каменьями, как преступницы. Отцы там женили сыновей своих еще отроками; брат должен был жениться на вдове своего брата, чтобы восстановить семя своему брату. Отсюда же выходит и восточная полигамия (многоженство). Гаремы существовали на востоке всегда, и их нельзя считать исключительно принадлежащими исламизму. Обитатель востока смотрит на женщину, как на жену или как на рабыню, но не как на женщину: потому что от женщины мужчина всегда добивается взаимности, как необходимого условия счастливой любви, – от жены или рабы он требует только покорности. Для него – это вещь, очень искусно приноровленная самою природою для его наслаждения, кто же станет церемониться с вещию? Мифы – самое верное свидетельство романтической жизни народов. В мифах востока мы не находим еще ни идеала красоты, ни идеала женщины. Все мифы его по преимуществу выражают одно неутолимое вожделение, – одно чувство: сладострастие, одну идею: вечную производительность природы.
Гораздо выше романтизм греческий. В Греции любовь является уже в высшем моменте своего развития: там она – чувственное стремление, просветленное и одухотворенное идеею красоты. Там уже в самом начале мифического сознания, за явлением Эроса (любви, как общей сущности мировой жизни), тотчас следует рождение Афродиты – красоты женской. Афродита собственно была не богинею любви, но богинею красоты. Когда родилась она из волн морских и вышла на берег, к ней сейчас присоединились любовь и желание. Этот грациозный миф достаточно объясняет собою сущность и характер эллинского понятия об отношениях обоих полов. Грек обожал в женщине красоту, а красота уже порождала любовь и желание; следовательно, любовь и желание были уже результатом красоты. Отсюда понятно, как у такого нравственно-эстетического народа, как греки, могла существовать любовь между мужчинами, освященная мифом Ганимеда, – могла существовать не как крайний разврат чувственности (единственное условие, под которым она могла бы являться в наше время), а как выражение жизни сердца. Примеры такой любви были очень нередки у греков. Вот один из самых поразительных: Павзаний говорит, что он нашел в одном месте статую юноши, названную антэрос (взаимная любовь), и рассказывает услышанную им от жителей того места легенду о происхождении этой статуи. Один юноша, тронутый необыкновенною красотою другого, почувствовал к нему непреодолимо страстное стремление. Встретив в ответ на свое чувство совершенную холодность и напрасно истощив мольбы и стоны к ее побеждению, он бросился в море и погиб в нем. Тогда прекрасный юноша, вдруг проникнутый и пораженный силою возбужденной им страсти, почувствовал к погибшему такое сожаление и такую любовь, что и сам добровольно погиб в волнах того же моря. В честь обоих погибших и была воздвигнута статуя – антэрос.
У греков была не одна Венера, но три: Урания (небесная), Пандемос (обыкновенная) и Апострофия (предохраняющая или отвращающая). Значение первой и второй понятно без объяснений; значение третьей было – предохранять и отвращать людей от гибельных злоупотреблений чувственности. Из этого видно, что нравственное чувство всегда лежало в самой основе национального эллинского духа. Однакож это нисколько не противоречит тому, что преобладающий элемент их любви было неукротимое, страстное стремление, требовавшее или удовлетворения, или гибели. Поэтому они смотрели на Эрота, как на бога страшного и жестокого, для которого было как бы забавою губить людей. Множество трагических легенд любви у греков вполне оправдывает такой взгляд на Эрота – это маленькое крылатое божество с коварною улыбкою на младенческом лице, с гибельным луком в руке и страшным колчаном за плечами. Кому не известно предание о несчастной любви Сафо к Фаону и о скале Левкадской?{9} А сколько легенд о страстной любви между братьями и сестрами, любви, которая оканчивалась или смертью без удовлетворения, или казнью раздраженных богов в случае преступного удовлетворения! Овидий передал потомству ужасную легенду о такой любви дочери к отцу. Старая няня несчастной ввела ее в темноте на ложе отца, упоенного вином и не подозревавшего истины, – и сперва эвмениды, а потом превращение было наказанием богов, постигшим несчастную. Но сколько грации и гуманности в греческой любви, когда она увенчивалась законною взаимностию! Недаром в прелестном мифе Эрота и Психеи греки выразили поэтическую мысль брачного сочетания любви с душою! Павзаний рассказывает о статуе стыдливости трогательную, исполненную души и грации романтическую легенду. Статуя эта изображала девушку, которой преклоненная голова была накрыта покрывалом. Вот смысл этой статуи: когда Одиссей, женившись на Пенелопе, решился возвратиться из Лакедемона в Итаку, Икар, престарелый царь, тесть его, не вынося мысли о разлуке с дочерью, со слезами умолял его остаться. Улисс уже готов был взойти на корабль, – старец пал к его ногам. Тогда Улисс сказал ему, чтобы он спросил свою дочь, кого она выберет между ними – отца или мужа: Пенелопа, не говоря ни слова, накрылась покрывалом, – и старец из этого безмолвного и грациозно женственного ответа понял, что муж для нее дороже отца, хотя страх и нежелание оскорбить чувство родительской любви и сковали уста ее… Это романтизм! В учении вдохновенного философа, божественного Платона, греческое созерцание любви возвышается до небесного просветления, так что ничего не оставляет, в победу над собою, средним векам, этой ультраромантической эпохе…
«Наслаждение красотою (говорит этот величайший романтик не только древней Греции, но и всего мира) в этом мире возможно в человеке только по воспоминанию той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминает себе в первоначальной ее родине. Вот почему зрелище прекрасного на земле, как воспоминание о красоте горней, способствует тому, чтоб окрылять душу к небесному и возвращать ее к божественному источнику всякой красоты… Красота была светлого вида в то время, когда мы, счастливым хором, следовали за Днем, в блаженном видении и созерцании; другие же за другими богами; мы зрели и совершали блаженнейшее из всех таинств; приобщались ему всецелые, непричастные бедствиям, которые в позднее время нас посетили; погружались в видения совершенные, простые, не страшные, но радостные, и созерцали их в свете чистом, сами будучи чисты и незапятнаны тем, что мы, ныне влача с собою, называем телом, мы, заключенные в него, как в раковину… Красота одна получила здесь этот жребий: быть пресветлою и достойною любви. Не вполне посвященный, развратный стремится к самой красоте, невзирая на то, что носит ее имя; он не благоговеет перед нею, а, подобно четвероногому, ищет одного чувственного наслаждения, хочет слить прекрасное с своим телом… Напротив того, вновь посвященный, увидев богам подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещет; его объемлет страх; потом, созерцая прекрасное, как бога, он обожает, и если бы не боялся, что назовут его безумным, он принес бы жертву предмету любимому…»{10}
Нельзя не согласиться, что никогда романтизм не являлся в таком лучезарном и чистом свете своей духовной сущности, как в этих словах величайшего из мудрецов классической древности…
Но все это показывает только глубокость эллинского духа, часто в созерцаниях своих опережавшего самого себя, и не только не противоречит, но еще подтверждает истину, что пафос к красоте составлял высшую сторону жизни греков. А богиня красоты, – как мы уже заметили выше, – сопровождалась у них любовью и желанием… Чувство красоты, как только красоты, а не красоты и души вместе, не есть еще, высшее проявление романтизма. Женщина существовала для грека в той только мере, в какой была она прекрасна, и ее назначение было – удовлетворять чувству изящного сладострастия. Самая стыдливость ее служила к усилению страстного упоения мужчины. Елена «Илиады» – представительница греческой женщины: и боги, и смертные иногда называют ее бесстыдною и презренною, но ей покровительствует сама Киприда и собственною рукою возводит ее на ложе Александра-боговидного, позорно бежавшего с поля битвы; за нее сражаются цари и народы, гибнет Троя и пылает Илион – священная обитель царственного старца Приама… В пьесах, так превосходно переведенных Батюшковым из греческой антологии, можно видеть характер отношений любящихся, как, например, в этой эпиграмме:
Свершилось: Никагор и пламенный Эрот
За чашей вакховой Аглаю победили.
О радость! здесь они сей пояс разрешили,
Стыдливости девической оплот.
Вы видите: кругом рассеяны небрежно
Одежды пышные надменной красоты,
Покровы легкие из дымки белоснежной,
И обувь стройная, и свежие цветы:
Здесь все развалины роскошного убора,
Свидетели любви и счастья Никагора!
В этой пьеске схвачена вся сущность романтизма по греческому воззрению: это – изящное, проникнутое грациею наслаждение. Здесь женщина – только красота, и больше ничего; здесь любовь – минута поэтического, страстного упоения, и больше ничего. Страсть насытилась – и сердце летит к новым предметам красоты. Грек обожал красоту, – и всякая прекрасная женщина имела право на его обожание. Грек был верен красоте и женщине, но не этой красоте или этой женщине. Когда женщина лишалась блеска своей красоты, она теряла вместе с ним и сердце любившего ее. И если грек ценил ее и в осень дней ее, то все же оставаясь верным своему воззрению на любовь, как на изящное наслаждение:
Тебе ль оплакивать утрату юных дней?
Ты в красоте не изменилась,
И для любви моей
От времени еще прелестнее явилась.
Твой друг не дорожит неопытной красой,
Незрелой в таинствах любовного искусства.
Без жизни взор ее стыдливый и немой,
И робкий поцелуй без чувства.
Но ты, владычица любви, —
Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень;
И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнию в крови…
Сколько страсти и задушевной грации в этой эпиграмме:
В Лаисе нравится улыбка на устах,
Ее пленительны для сердца разговоры;
Но мне милей ее потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очах.
Я в сумерки, вчера, одушевленный страстью,
У ног ее любви все клятвы повторял,
И с поцелуем, к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал…
Я таял, и Лаиса млела.
Но вдруг уныла, побледнела,
И слезы градом из очей!
Смущенный, я прижал ее к груди моей;
«Что сделалось, скажи, что сделалось с тобою?» —
Спокойся, ничего, бессмертными клянусь!{11}
Я мыслию была встревожена одною: