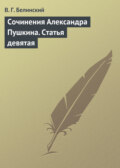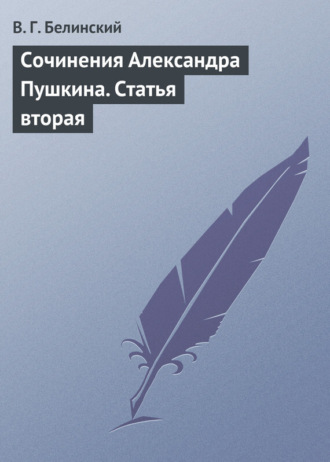
В. Г. Белинский
Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая
Пусть веселый взор счастливых
(Оилеев сын сказал)
Зрит в богах богов правдивых;
Суд их часто слеп бывал:
Скольких добрых жизнь поблёкла!{39}
Скольких низких рок щадит!..
Нет великого Патрокла;
Жив презрительный Терсит.
Но эта горестная и мрачная мысль сейчас же, по свойству всеобъемлющего и многостороннего духа греческого, разрешается в веселое и светлое созерцание:
Смертный, вечный Дий Фортуне
Своенравной предал нас,
Уловляй же быстрый час,
Не тревожа сердца втуне.
Вообще эти четверостишия, следующие за каждым куплетом, напоминают собою хор из греческой трагедии. Оилид продолжает:
Лучших бой похитил ярый!
Вечно памятен нам будь,
Ты, мой брат, ты, под удары
Подставлявший твердо грудь,
Ты, который нас пожаром
Осажденных защитил…
Но коварнейшему даром
Щит и меч Ахиллов был.
Мир тебе во мгле Эрева!..
Жизнь твою не враг пожал:
Ты своею силой пал,
Жертва гибельного гнева.
Воспоминание об Ахилле дышит всею полнотой греческого созерцания героизма:
О Ахилл! о мой родитель!
(Возгласил Неоптолем)
Быстрый мира посетитель,
Жребий лучший взял ты в нем.
Жить в любви племен делами —
Благо первое земли:
Будем славны именами{40}
И сокрытые в пыли.
Слава дней твоих нетленна;
В песнях будет цвесть она:
Жизнь живущих неверна,
Жизнь отживших неизменна!
Великодушная похвала Гектору, вложенная Шиллером в уста Диомеда, есть истинный образец высокого (du sublime) в чувствовании и выражении:
Смерть велит умолкнуть злобе
(Диомед провозгласил):
Слава Гектору во гробе!
Он краса Пергама был;
Он за край, где жили деды,
Веледушно пролил кровь,
Победившим – честь победы!
Охранявшему – любовь!
Кто на суд явясь кровавый,
Славно пал за отчий дом, —
Тот, почтенный и врагом,
Будет жить в преданьях славы.
Но что может сравниться с этой трогательною, этой умиляющею душу картиною убеленного жизнию Нестора, с словами кроткого утешения подающего кубок страждущей Гекубе! Здесь в резкой характеристической черте схвачена вся гуманность греческого народа:
Нестор, жизнью убеленный.
Нацедил вина фиал
И Гекубе сокрушенной
Дружелюбно выпить дал, —
Пей страданий утоленье.
Добрый Вакхов дар вино:
И веселость и забвенье
Проливает в нас оно.
Пей, страдалица! печали
Утоляются вином:
Боги жалостные в нем
Подкрепленье сердцу дали.
Вспомни матерь Ниобею:
Что изведала она!
Сколь ужасная над нею
Казнь была совершена! —
Но и с нею, безотрадной,
Добрый Вакх недаром был:
Он струею виноградной
Вмиг тоску в ней усыпил.
Если грудь вином согрета
И в устах вино кипит —
Скорби наши быстро мчит
Их смывающая Лета.
Эта высокая оратория заключается мрачным финалом: пророчество Кассандры намекает на переменчивость участи всего подлунного и на горе, ожидающее самих победителей Трои:
И вперила взор Кассандра.
Вняв шепнувшим ей богам,
На пустынный брег Скамандрг,
На дымящийся Пергам.
Все великое земное
Разлетается как дым:
Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим.
Но с греческим миросозерцанием несообразно оканчивать высокую песнь раздирающим душу диссонансом: богатая и полная жизнь сынов Эллады в самой себе, даже в собственных диссонансах, находила выход в гармонию и примирение с жизнию, – и потому пьеса Шиллера достойно заключается утешительным обращением от смерти к жизни, словно музыкальным аккордом:
Смертный, силе, нас гнетущей,
Покоряйся и терпи!
Спящий в гробе, мирно спи!
Жизнью пользуйся, живущий!
Таков был греческий романтизм: на гробах и могилах загоралась для него вечная заря жизни; несчастия и гибель индивидуального не скрывали от его глубокого и широкого взгляда торжественного хода и блаженствующей полноты общего; на веселых пиршествах ставил он урны с пеплом почивших, статуи смерти, и, глядя на них, восклицал:
Спящий в гробе, мирно спи!
Жизнью пользуйся, живущий!
Смерть для грека являлась не мрачным, отвратительным остовом, но прекрасным, тихим, успокоительным гением сна, кротко и любовно смежавшим навеки утомленные страданием и блаженством жизни очи…
Перевод Жуковского «Торжества победителей» есть образец превосходных переводов, – так что если, при тщательном сравнении, иные места окажутся не вполне верно или не вполне сильно переданными, – зато еще более найдется мест, которые в переводе сильнее и лучше выражены. Так, например, у Шиллера сказано просто: «И в дикое празднество радующихся примешивали они (пленные жены и девы троянские) плачевное пение, оплакивая собственные страдания и падение царства». У Жуковского это выражено так:
И с победной песнью дикой
Их сливался тихий стон
По тебе, святой, великой,
Невозвратный Илион.
«Жалоба Цереры» – тоже одно из величайших созданий Шиллера – передана по-русски Жуковским с таким же изумительным совершенством, как и «Торжество победителей». В этой пьесе Шиллер воспроизвел романтический образ элевзинской Цереры – нежной и скорбящей матери, оплакивающей утрату дочери своей, Прозерпины, похищенной мрачным владыкою подземного царства, суровым Аидом.
Сколь завидна мне, печальной,
Участь смертных матерей!
Легкий пламень погребальной
Возвращает им детей;
А для нас, богов нетленных,
Что усладою утрат?
Нас, безрадостно-блаженных,
Парки строгие щадят…
Парки, парки, поспешите
С неба в ад меня послать;
Прав богини не щадите:
Вы обрадуете мать.
В поэтическом образе брошенного в землю зерна, которого корень ищет ночной тьмы и питается стиксовой струей, а лист выходит в область неба и живет лучами Аполлона, – в этом дивно поэтическом образе Шиллер выразил глубокую идею связи романтического мира сердца и чувства с миром сознания и разума и сделал самый поэтический намек на скорбь и утешение божественной матери: этот корень, ищущий ночной тьмы и питающийся стиксовою водою, и этот лист, радостно рвущийся на свет и подымающийся к небу —
Ими таинственно слита
Область тьмы с страною дня,
И приходят от Коцита
Милой вестью для меня;
И ко мне в живом дыханье
Молодых цветов весны
Подымается признанье,
Глас родной из глубины;
Он разлуку услаждает,
Он душе моей твердит,
Что любовь не умирает
И в отшедших за Коцит.
Сколько скорбной и умилительной любви в этом обращении романтической богини к любимым чадам ее материнского сердца – к цветам:
О, приветствую вас, чада
Расцветающих полей!
Вы тоски моей услада,
Образ дочери моей!
Вас налью благоуханьем,
Напою живой росой,
И с аврориным сияньем
Поравняю красотой;
Пусть весной природы младость,
Пусть осенний мрак полей
И мою вещают радость
И печаль души моей!
В «Элевзинском празднике» Шиллера есть опять поэтическая апофеоза Цереры; но здесь эта богиня представлена уже с другой ее стороны. В «Жалобе Цереры» эта богиня является представительницею греческого романтизма: в «Элевзинском празднике» она является божеством благотворно деятельным – очеловечивает и одухотворяет подобных троглодитам людей, научая их земледелию, соединяет их в общества, дает им богов и храмы, низводит к ним ремесла и искусства и посевает между ними семена гражданственности. Эта превосходная поэма Шиллера превосходно переведена Жуковским.
Вероятно, увлеченный шиллеровским созерцанием великого мира греческой жизни, Жуковский и сам написал пьесу в этом же роде – «Ахилл». В ней есть прекрасные места; но вообще в греческое созерцание Жуковский внес слишком много своего, – и тон ее выражения сделался оттого гораздо более унылым и расплывающимся, нежели сколько следовало бы для пьесы, которой содержание взято из греческой жизни и которая написана в греческом духе. Равным образом, к недостаткам этой пьесы принадлежит еще и то, что она больше растянута, чем сжата, а потому утомляет в чтении. Но, несмотря на то, в ней есть красоты, иногда напоминающие пьесы Шиллера в этом роде, и вообще «Ахилл» Жуковского – одно из замечательных его произведений.
Как романтик по натуре, Шиллер созерцал греческую жизнь с ее романтической стороны, – и вот причина, почему многие недальновидные критики не хотели в его произведениях греческого содержания видеть верное воспроизведение духа Эллады; но это уже была вина их, недальновидных критиков, а не вина Шиллера. Вольно же было им и не подозревать, что в Греции был свой романтизм! Жуковский – тоже, как романтик по натуре, был в состоянии превосходно передать пьесы Шиллера греко-романтического содержания. По этой же самой причине его переводы таких пьес Гёте более неудачны, чем удачны: ссылаемся на «Мою богиню» (т. VI. стр. 65). Это понятно: Гёте смотрел на Грецию совсем с другой стороны, нежели Шиллер: последний более видел ее внутреннюю, романтическую сторону; Гёте – видел больше ее определенную, светлую олимпийскую сторону. Оба великие поэта верно смотрели на Грецию, каждый видя разные, но ее же собственные Стороны. Когда же Гёте сходился с Шиллером в созерцании греческой жизни (как, например, в «Прометее» и «Коринфской невесте»), – он отыскивал в нем и выражал более философскую его сторону. И в этом отношении Гёте был верен своему духу. Романтическое направление Жуковского совершенно вне сферы Гётева созерцания, и потому Жуковский мало переводил из Гёте, и все переведенное или заимствованное из него переменял по-своему, за исключением только чисто романтических в духе средних веков пьес Гёте, каковы, например, баллады: «Лесной царь» и «Рыбак».{41} И если талант Жуковского, как переводчика, совершенно вне сферы поэзии Гёте, – отсюда нисколько еще не следует, чтоб причиною этого была высота гения Гёте. Жуковский переводил же превосходно Шиллера, – а гений Шиллера ничем не ниже гения Гёте. Вообще мысль – считать Шиллера ниже Гёте – и нелепа, и устарела. Жуковский – необыкновенный переводчик и потому именно способен верно и глубоко воспроизводить только таких поэтов и такие произведения, с которыми натура его связана родственною симпатиею.
«Идеалы» Шиллера переведены не совсем удачно. Перевод этот относится к первой поре поэтической деятельности Жуковского. Уж одно то, что, переводя эту пьесу, он переменил название ее «Идеалы» на «Мечты», – одно уж это показывает, как не глубоко вник он в мысль ее. Многие стихи в этой пьесе просто нехороши; многие выражения лишены точности и определенности. Вот для доказательства целый куплет:
И неестественным стремленьем
Весь мир в мою теснился грудь;
Картиной, звуком, выраженьем,
Во все я жизнь хотел вдохнуть,
И в нежном семени сокрытой.
Сколь пышным мне казался свет…
Но ах, сколь мало в нем развито!
И малое – сколь бедный цвет!
Как-то чувствуется само собою, что вместо выраженьем, надо было поставить словом; последние четыре стиха так неловки, что едва-едва можно догадываться о мысли Шиллера.
Другим образом, но так же неудачно переведена пьеса Байрона, начинающаяся в переводе стихом: «Отымает наши радости».{42} Жуковский дал ей совсем другой смысл и другой колорит, так что байроновского в ней ничего не осталось, а замененного переводчиком, после даже прозаического, но верного перевода, нельзя читать с удовольствием. Вот самый близкий прозаический перевод пьесы Байрона:
«Нет радостей, какие может дать нам мир, в замену тех, которые он отнимает у нас в то время, когда уж жар первых мыслей остывает в печальном увядании чувств. Не одна только свежесть ланит вянет скоро, – нет, свежий румянец сердца исчезает прежде самой юности.
–
И эти немногие души, которым удастся уцелеть после их разрушенного счастия, наплывают на мели преступлений или уносятся в океан буйных страстей. Их путеводный компас изломан, или стрелка его напрасно указывает на берег, к которому их разбитая ладья никогда не причалит.
–
Тогда-то сходит на душу тот мертвенный холод, подобный самой смерти; сердце не может сочувствовать страданиям других, не смеет думать о своих собственных страданиях; ручей слез покрывается тяжелою ледяною корою; а если и блестят еще очи, – то это блеск льда.
–
Хотя остроумие порою ярко сверкает еще в устах, и смех развлекает сердце в часы полуночи, которые не дают уже прежней надежды на успокоение; но все это, как листы плюща, обвивающиеся вокруг развалившейся башни: зеленые и дико свежие сверху – серые и землистые снизу.
–
О, если б мог я чувствовать, как чувствовал прежде, быть тем, чем был… или плакать об исчезнувшем, как бывало плакал… Как бы ни был мутен и нечист ручей, найденный нечаянно в пустыне, он кажется сладостным и отрадным: так отрадны были бы мне мои слезы среди опустошенной степи моей жизни».
Сличите хоть второй куплет нашего буквального прозаического перевода с стихотворным переводом Жуковского:
Наше счастие разбитое
Видим мы игрушкой волн;
И в далекий мрак сердитое
Море мчит наш бедный челн.
Стрелки нет путеводительной,
Иль вотще ее магнит
В бурю к пристани спасительной
Челн беспарусный манит?..
То ли это?.. В последних двух куплетах еще более искажена мысль Байрона.
Но – странное дело! – наш русский певец тихой скорби и унылого страдания обрел в душе своей крепкое и могучее слово для выражения страшных подземных мук отчаяния, начертанных молниеносною кистию титанического поэта Англии. «Шильйонский узник» Байрона передан Жуковским на русский язык стихами, отзывающимися в сердце, как удар топора, отделяющий от туловища невинноосужденную голову… Здесь в первый раз крепость и мощь русского языка явилась в колоссальном виде и до Лермонтова более не являлась. Каждый стих в переводе «Шильйонского узника» дышит страшной энергиею, и надо совершенно потеряться, чтоб выписать лучшее из этого перевода, где каждая страница есть равно лучшая.{43} Но мы напомним здесь нашим читателям только эту ужасную картину душевного ада, в сравнении с которым ад самого Данте кажется каким-то раем:
Но что потом сбылось со мной,
Не помню… свет казался тьмой,
Тьма светом; воздух исчезал;
В оцепенении стоял,
Без памяти, без бытия,
Меж камней хладным камнем я;
И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне;
Все в смутную слилося тень;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкий свет тюрьмы моей,
Столь ненавистный для очей;
То было тьма без темноты;
То было бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир какой-то был
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед,
Ни жизнь, ни смерть – как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и немой.
Много было расточено похвал переводу отрывка из поэмы Томаса Мура «Див и Пери»; но перевод этот далеко ниже похвал: он тяжел и прозаичен, и только местами проблескивает в нем поэзия. Впрочем, может быть, причиною этого и сам оригинал, как не совсем естественная подделка под восточный романтизм. Несравненно выше, по достоинству перевода, почти никем не замеченная поэма «Суд в подземельи».{44} Мрачное содержание этой поэмы взято из мрачной жизни невежественных и дико фанатических средних веков. Молодую монахиню, увлеченную страстию сердца, осуждают быть заживо схороненною в подземном склепе…
Три совершителя суда
Сидели рядом за столом;
Пред ними разложен на нем
Устав Бенедиктинцев был;
И, чуть во мгле сияя, лил
Мерцанье бледное ночник
На их со мглой слиянный лик.
Товарищ двум другим судьям,
Игуменья из Витби там
Являлась, и была сперва
Ее открыта голова;
Но скоро скорбь втеснилась ей
Во грудь, и слезы из очей
Невольно жалость извлекла,
И покрывалом облекла,
Тогда лицо свое она.