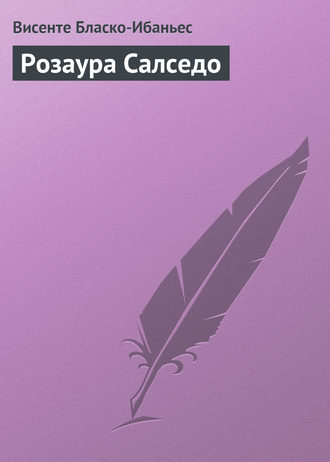
Висенте Бласко-Ибаньес
Розаура Салседо
XIII. Буря
Снова автомобиль затрясся по дороге среди солончаков, сильно подпрыгивая на дамбах. Они проехали через Беникарло, следуя по большой проезжей дороге, ведущей в Кастеллон и Валенсию. Было пять часов после полудня, а казалось, будто уже близко к ночи.
Борха сомневался, следует ли им продолжать свое путешествие, но его спутница была более решительная. Гораздо раньше, чем спустится ночь, они доедут до Кастеллон. И они поехали дальше.
Четверть часа спустя их остановило незначительное обстоятельство. Одно из колес было пробито гвоздем, валявшимся в пыли дороги.
Пока работал шоффер, они обменивались мыслями о неудобствах самого современного из передвижений на суше. Железная дорога, казалось, навсегда избавила путешественников от дорожных приключений. Но когда был изобретен автомобиль, он снова поставил их в соприкосновение с бродягами и возчиками, с плохими гостиницами и еще худшей едой, воскрешая шероховатости и неудобства прежних веков. Самый дорогой и роскошный автомобиль, продвигаясь вперед и бросая при этом вызов времени и пространству, с плачевной легкостью теряет свою силу мифологического железного зверя. Достаточно ржавого гвоздя, выпавшего из подковы осла, чтобы он застрял среди дороги в изнеможении раненого зверя. При большой быстроте езды из-за таких же ничтожных гвоздей происходила катастрофа со смертельными исходами.
Стали падать капли дождя, проводя глубокие кружки в пыли дороги. Оба путешественника уселись снова в экипаж, пока шоффер кончал свою починку.
Автомобиль двинулся дальше, но дождь лил уже, как из ведра. Он затянул горизонт, и видно было всего на несколько десятков метров. Красивый экипаж в одно мгновение потерял свой роскошный блеск. Стекла потускнели от испарения. Пыль дороги превратилась в беловатую грязь, которая забрызгивала автомобиль белыми, как гипс, пятнами. Это налетел быстрый и жестокий шторм побережья Средиземного моря.
Небо, чрезмерно темное, и дождь напомнили Розауре дожди Буэнос-Айреса, продолжавшиеся часы и часы, при таком черном небе, что жителям приходилось зажигать свет днем.
И тут, в этой стране солнца, дождь падал потоками, точно небо было бескрайное озеро, тьма, как при солнечном затмении, покрывала трауром поля.
Шоффер, не знавший дороги и ослепленный дождем, двигал свой огромный экипаж несколько медленно. Розаура стала раскаиваться в своем решении.
– Признаю, что мы поступили глупо, не оставшись в ближайшем городке около Пеньискола.
Борха ответил утвердительным жестом, но дама с внезапным оптимизмом стала осмеивать свое беспокойство. Путешествуя по Европе, она попадала в положения похуже этого. Вперед! Дождь, быть может, скоро пройдет. В странах с теплым климатом эти штормы, шумные и быстрые, похожи на вспышки запоздалого гнева добродушных людей.
По пути они никого не встретили. Поля и дома, ближайшие к проезжей дороге, казалось, никогда не были населены.
Розаура прильнула лицом к стеклу, чтобы убедиться, идет ли дорога в уровень с полями, или над ними. Пока дело обстояло так, она не беспокоилась. Страшно было бы, если б дорога начала спускаться. Так и случилось полчаса спустя.
Они увидели перед собой нечто вроде реки с красной водой; длиннейшая лощина, с маленькими островками грязи. Это и была дорога. Надо было ехать по ней, доверившись судьбе, не зная, на что могут наткнуться колеса в глубине, под мутной поверхностью.
Продвижение могучего экипажа по этой водяной дороге вышло смешным и печальным. Экипаж наклонялся, точно собирался перевернуться. Одни колеса поднимались над скрытыми препятствиями, в то время, как противоположные опускались. В другой раз он оставался неподвижным, как прикованный к незримой грязи, и необходимо было довести работу до наибольшего напряжения, чтобы он двинулся вперед, издав рев утомления.
– Что за дорога! – воскликнула она. – И это будет бесконечно… Не видать конца.
По обеим сторонам тинистого потока апельсинные сады поднимали свои зеленые и громадные шары, испещренные померанцевыми цветами, Высоко над душистой листвой виднелась вдали колокольня с зелено-голубой крышей.
Дождь хлестал с возрастающей силой по крыше автомобиля. Пейзаж исчезал, точно его окутывала новая завеса легкого тумана. В некоторых невидимых рытвинах автомобиль, так проваливался, что вода стала просачиваться под него.
– Этого быть не может! – продолжала протестовать Розаура. – Ах, если бы мы добрались до маленького городка с красивой колокольней!..
Автомобиль испытал очень резкий толчок. Путешественники не услыхали в сущности ничего необычайного; удары дождя в крышу вызывали звон в их ушах; но оба почувствовали, будто что-то железное сломалось с треском. Нечто, действительно, было неладно в работе автомобиля. Он шел вперед, но движением, похожим на ход корабля без руля. Шоффер продолжал конвульсивно сжимать колесо направления, пожимая плечами, подчеркивая свое бессилие. Путешественники угадывали, что все старания его тщетны; автомобиль не слушался его и шел наугад.
Так бы он и продолжал идти и попал бы в ручей, если бы руководитель его не сделал последнего усилия. Автомобиль стукнулся в один из откосов и переднею частью врылся в красную грязь.
Оба путешественника почти ударились головами в стекла, и, придя в себя от толчка, посмотрели друг на друга нерешительно: что делать теперь? Они чувствовали себя слабыми и безоружными перед штормом, на незнакомой дороге, между двумя откосами и колючими изгородями, окаймлявшими поля апельсинных деревьев. В них ничего не оставалось от тех путешественников, которые часом раньше были уверены, что победят расстояние и укоротят время.
Борха выскочил из автомобиля в воду.
Шоффер угадал причину случившегося и объяснил ее с некоторым смущением, точно это было его виной. Сломалась одна из передних рессор, невозможно ехать дальше. Если бы попытаться двинуться вперед, экипаж, которым нельзя управлять, снова стукнулся бы об откос или о дерево с еще худшими последствиями. Точно так же невозможно починить его под дождем в этом затопленном месте. Сеньор Борха и сеньора должны искать себе убежище, не заботясь о нем. Его обязанность оставаться при автомобиле.
Клаудио, прыгая по ручьям воды и по островкам грязи, заметил поперечную дорогу, поднимавшуюся до уровня полей. Он прошел немного по ней, согнувшись под дождем, и увидел на коротком расстоянии, между апельсинными деревьями, маленький домик, который, должно быть, в ясные дни был белым, а теперь казался серым. Одно из его окон было приоткрыто, и из него высовывались любопытные лица трех ребятишек.
Они исчезли, словно их испугало присутствие иностранца, и вместо них у окна появилась женщина в темном платке, повязанном на голове, с круглым лицом, белой кожей, несмотря на действие солнца, с монашеской серьезностью в нежных глазах, и с губами, крепко сжатыми.
– Bôna dóna!.. Bôna dóna![2] – воскликнул Борха на валенсийском диалекте; словно просил помощи у доброй женщины.
Она сделала утвердительный знак, угадывая его просьбу, и отошла от окна, чтобы тотчас открыть дверь дома, затем остановилась под навесом, прикрыв руками глаза.
Клаудио вернулся бегом к автомобилю за Розаурой.
– Мы спасены! Вам будет ужасно трудно дойти до этого дома, но другого выхода нет.
Он помог ей выйти из автомобиля и руководил добраться до дороги в апельсинный сад. Тщетно предлагал отнести ее на руках.
– Вы не будете в состоянии это сделать, Борха. Я тяжелее, чем вы думаете.
Молодой человек убедился в том, взглянув на нее. Человеческое ничтожество! В несколько минут величественная Венера превратилась в бедную женщину, равную женщинам доисторических племен, жертвам всех обид природы. Дождь окутал ее со всех сторон без всякого уважения, и достаточно было нескольких секунд, чтобы с ее прически полились капли дождя вниз из-под ее дорожной шляпы, в то время как другие струйки текли у нее с носа. Она чувствовала, как ее обливало холодными струйками с головы до ног. А ноги погружались в грязь, и ей пришлось делать большие усилия, чтобы не потерять своих башмаков.
Посредине красной дороги, которая вела в домик, Розаура почувствовала, что один башмак свалился с ее ноги. Борха хотел встать на колени, чтобы надеть ей башмак, но он был у нее уже в руке, и она продолжала подвигаться вперед в одном шелковом чулке, забрызганном грязью выше колен.
– Что за ужас! Какая грусть! – шептала она, подвигаясь вперед, жалея себя самое за свой все более и более плачевный вид.
Добрая женщина поспешно пригласила их войти в дом. Кухня служила общей комнатой и занимала большую часть постройки; другая комната была супружеской спальней, а третья, судя по постелям, – занята тремя детьми. Все в доме указывало на чистоплотную бедность.
– Войдите, – сказала женщина по-валенсийски. – Войдите вы и ваша сеньора. Я сейчас растоплю печь.
Немного погодя в камине горел огонь, импровизированный и скудный, как почти всегда бывает в странах солнца, где холод является событием страшным и скоропреходящим. Дрова были из апельсинных деревьев и не сухие. Стволы их трещали и шипели.
Темно-красное пламя давало больше дыма, чем света.
Вымокшие и продрогшие путешественники подошли к огню с животным наслаждением, подставляя свои руки и ноги совсем близко к пламени.
Женщина давала объяснения, но все по-валенсийски, глядя на Розауру, словно та могла понять ее. Дети ее видели, как автомобиль ехал по низкой грунтовой дороге. В дни штормов ребятишкам нравилось смотреть на мокрые и вспыхивавшие молниями поля. Она живет одна, то-есть со своими тремя детьми и их дедом, почти слепым и иногда полубезумным.
Муж умер, еще не прошло года. Вдова продолжала обрабатывать маленький клочок земли, стараясь делать все так же тщательно, как ее покойный муж, но не знала, согласится ли собственник земли продолжить ей аренду.
– Ах, сеньора! Счастливы те, у кого жив муж, который мог бы заниматься управлением дома.
И она взглянула на Розауру, начинавшую смутно догадываться о том, что она говорит на своем непонятном для нее языке.
– Она принимает нас за мужа и жену, – сказала она Борха, когда вдова вышла не надолго из комнаты. Она смеялась над этим предположением, считая его смешным и нелепым.
– Оставьте ее, – ответил Клаудио, тоже улыбаясь. – Эта бедняга не может себе представить мужчину и женщину, путешествующих вместе иначе, как женатыми. Пусть остается в своем заблуждении. Кто знает, не лишимся ли мы ее уважения, если она узнает, что мы не женаты, и, пожалуй, еще выставит нас за дверь. Взгляните на все то, что нас окружает.
Вдова поставила на стол бронзовую лампу с четырьмя фитилями и зажгла все четыре, – роскошь, которую никогда не видели ее дети, все теснившиеся кругом стола и робко смотревшие на иностранцев, которых привела к ним буря.
Борха показал Розауре две картины, украшавшие кухню, – старые хромолитографии. Более рельефной нарисована была вторая картина, на которой изображался человек, бородатый и смуглый, в красной шапке, с орденом Золотого Руна на груди голубого сюртука; обе его руки опирались на кавалерийскую саблю. Это был – стремившийся сделаться самодержавным королем – претендент дон Карлос, за которого полвека тому назад сражалась большая часть жителей данной местности.
Вскоре затем вернулась бодрая старуха и, сняв с головы мешок из дерюги, в котором носила удобрение для своих апельсинных деревьев, надела его в виде капюшона.
Женщина только-что говорила с шоффером на нижней дороге. Тщетно просила она его бросить автомобиль. Он может спать в сарайчике для соломы: никто не украдет его экипаж; народ кругом честный. Но шоффер отказался с возмущением. Он обязан оставаться там и только просил у сеньоры позволения спать ночью внутри автомобиля.
Сообщив эти сведения, которые только Борха один мог понять, она принялась за приготовление ужина для путешественников. Затем предложила Розауре белье, хранившееся в шкафу в ее спальне. Белье было грубое, но очень чистое и пахло розмарином. «Быть может, оно не понравится сеньоре, наверное, привыкшей к более тонкому белью, но она предлагает его от чистого сердца».
Ласкаемая огнем, который ее согревал, Розаура отказалась от этого предложения, переведенного для нее с валенсийского Клаудио. Завтра утром одежда ее будет сухая, и она хочет лечь как можно скорее, если хозяйка уступит ей постель.
Им пришлось подчиниться древнему обычаю гостеприимства, по которому, прежде всего, надлежит позаботиться о желудке гостей. Напрасно они ссылались на свой сытный завтрак в полдень. Вдова настаивала:
– Всегда хорошо кушать, в особенности после того, как промокнешь.
Два старшие ее сына, тоже с мешками из дерюги на головах, вышли из дому, довольные тем, что могут пройтись под дождем. Они отправились в другой дом, поблизости, где, по сведениям матери, имелась ветчина, соленая и мягкая.
Новое лицо появилось в кухне: отец покойного, которого все звали «дедом».
Лета и привычка работать, согнувшись над землей, годы и годы обрабатывая ее, сгорбили его тело. Лицо у него было худое, с густыми морщинками вокруг глаз и рта. Зрачки, желтоватые и слезливые, хранили неподвижность слепоты. Он приветствовал иностранцев по-кастильски, медленно выговаривая слова с несколько смешным акцентом. И довольный, что дал им это доказательство своей учености, он направился к двери и приотворил ее.
– Идет дождь, – сказал он тоном оракула, – идет дождь, и скоро начнется гроза.
Борха удивился тому, как угадывал этот человек, лишенный зрения. Второй шторм приближался. От серого и туманного горизонта мчались тучи густо черные.
Вернулись дети с завернутой в намоченную бумагу ветчиной, и мать, нарезав ее кусками, бросала их в кастрюлю, висевшую над огнем.
– Вы и ваша сеньора должны что-нибудь съесть, чтобы согреться, – говорила настойчиво женщина. – У меня есть также вино моего бедного мужа.
Уже совсем стемнело. Одно из окон, не закрытое ставнем, было озарено ярким блеском, затем прокатился гром. Вдова поспешила закрыть ставни окна, отставив кастрюлю.
– Какая ночь ждет нас! – сказала она. – В это время года бури самые ужасные.
Двум гостям пришлось волей-неволей сесть за стол, накрытый грубой скатертью. Рядом с блюдом из местного фаянса стоял графин с мадерой и тарелка с хлебом домашнего изготовления, с черной коркой и желтоватым мякишем. Мягкая ветчина сделалась жесткой от того, что ее жарили в масле; но она оказалась до того соленой, что оба путешественника должны были пить вино покойного, чтобы освежить себе рот. Это грубое и терпкое вино, изобиловавшее алкоголем, оживило их кратковременной теплотой.
Розаура представила себе, что она вошла в «ранчо» своей родины, спасаясь от дурной погоды. Необходимость заставила ее покориться и дышать воздухом, все гуще и гуще пропитанным дымом от сырого дерева, и запахом жареного растительного масла. Казалось, все предметы затягивались каким-то туманом. Она усиливалась удерживать кашель и много раз платком вытирала себе глаза. Такими же, должно быть, были жилища в Пампасах в колониальные времена.
С удовольствием вышла бы она из дому, но дождь и гром все более и более усиливались.
Дед медленно подошел к столу, с кротостью собаки, которая пробирается к остаткам обеда, и его дрожащие руки искали куски жареного мяса. Он овладел также и вином, которое его сноха ставила на стол только в выдающиеся дни.
Вечером он съел, как всегда, свой очень умеренный ужин, но уже не помнил о нем, прельщенный запахом этого другого ужина, которым богатые гости, казалось, пренебрегали. Вдова забыла на минуту свой страх перед бурей, чтобы внушить уважение старику, с которым она обращалась, как с ребенком.
– Дед, не надоедайте этим сеньорам, – сказала она жестким голосом.
Слепой возмутился предположением, что он может «надоесть сеньорам». Им очень нравилось его слушать. Он рассказывал им о том, чего они не могли видеть, так как они молоды.
Он говорил и говорил, точно продолжал рассказ, начатый много дней тому назад, не смущаясь тем, что теперь слушатели его уже другие. Невестка слышала бесконечное число раз ту же историю. Ее трое сыновей смотрели на иностранцев сонными глазами. Самый маленький прижимался к матери каждый раз, как домик сотрясался под грохотом шторма. Даже и он не обращал ни малейшего внимания на рассказ деда.
Наконец, невестка резко прервала старика:
– Замолчи, дед. Замолчи же!..
Старик замолчал, словно на него произвело наркотическое действие восхваляемое им вино. Оба иностранца тоже сидели безмолвно. После того, как прошло первое возбуждение от приключения, усталость делала свое дело.
Прерывая свою речь при каждом ударе грома, вдова стала объяснять, как они все могут провести ночь. Дом был маленький и нужно мириться с его небольшим объемом. После смерти мужа она была одна в супружеской спальне, дети спали в другой комнате; дед устраивал себе постель на овечьих мехах на лавке в кухне.
Но этой ночью вдове придется перейти в комнату детей, уступив сеньорам свою спальню. И встав, она открыла дверь комнаты. Видны были белые оштукатуренные стены и кровать – лучшая мебель во всем доме. На ней лежало множество подушек, и все же постель явно была жесткая. Пока хозяйка ушла в спальню, чтобы убедиться, все ли там в порядке, Розаура, очнувшись от своей прострации, взглянула с беспокойством на своего спутника, говоря ему вполголоса:
– Что за безумие! Нельзя же так! Вы должны сказать правду!
Но он сопротивлялся. Теперь уже слишком поздно. Он не знает, как объяснить. К тому же, он боится, чтобы это не поставило их в затруднение. Бедной женщине невозможно поместить их порознь. Она и три ее сына будут вынуждены спать на стульях.
К тому же разве они не могут и в той комнате, как теперь в кухне, сидя и дремля, провести время до зари? И плохая ночь кончается, хотя и кажется очень длинной. Тут же рядом будет спать вся семья. «На войне, как на войне». Никто не узнает об этом заблуждении бедной вдовы, которое могло бы дать повод к злым толкам. Даже и собственный ее шоффер не будет ничего знать.
Она ответила почти незаметными отрицательными знаками, глядя на него пристально. Клаудио не внушал ей страха. Она ведь не девушка, чтобы ее могла испугать отвага мужчины. Она умеет защищаться. Но, несмотря на это, Розаура настаивала на своем протесте. Дело в том, что этой ночью она сомневалась в себе самой, из-за своей усталости и изнеможения. Ей внушала недоверие ее заснувшая чувственность. Она думала о последних неделях целомудренной и спокойной жизни. Кто может угадать ужасные сюрпризы, которые таятся в нас самих, жестокие шутки, которые позволяет себе природа, обращаясь с нами, как с игрушкой?
– Я даю вам слово, – настаивал он вполголоса, – я клянусь вам… Спите в постели, как если бы вы были одни. Я просижу на стуле, лягу на пол, где бы то ни было. Не забывайте, что я кабальеро.
И у него дрожал голос, когда он давал эти обещания.
Розаура хотела поскорее уйти из кухни. Глаза ее слезились от дыма. Кашель все усиливался. Наверное, Борха находит ее очень некрасивой. Все это побудило ее повернуть голову к спальне со взором, который был понят хозяйкой дома.
Розаура встала, чтобы следовать за ней, но прежде чем уйти, сделала последнюю попытку.
– Оставайтесь здесь! Придумайте какой-нибудь предлог. Не идите за мной!
Борха пробыл минут пять один в столовой. Дед собрал свои меха и накидки и разложил их на скамейке в кухне. Он лег спать, сняв с себя только башмаки и издавал вздохи, казавшиеся вздохами сладострастия.
– Лучше, чем капитан-генерал, – прошептал он сквозь беззубые десна.
Вдова ходила из одного конца комнаты в другой, точно удивляясь, почему молодой человек все еще оставался здесь.
– Сеньор, войдите, когда пожелаете, в ту комнату, – сказала она. – Ваша сеньора уже легла в постель, хотя одетая. Она говорит, что ей страшно ложиться спать, как в другие ночи. Меня это не удивляет; то же самое делаю и я сама.
Борха робко направился к двери. Затем он решительно открыл ее и запер за собой. Хозяйка дома слушала в течение нескольких минут восклицания сеньоры и слова ее мужа, который, казалось, мямлил извинения.
Спохватившись, что такое освещение расточительно, вдова поспешила потушить все четыре фитиля лампы. Без сомнения, эти, с виду богатые сеньоры, дадут ей хорошее вознаграждение завтра утром, но из-за этого ей все же не следует забывать об обычной экономии. В комнате было темно, кроме света от печки, все более слабого. Поленья начинали обращаться в уголья; рассыпались, вспыхивая последний раз. Гром продолжал грохотать, сотрясая стены дома, стекла окон дребезжали.
Вдове показалось, что раздавались гневные выкрики в ее спальне. Быть может, ее звали, и она стояла в нерешительности в кухне. Ей казалось, что она слышит шум передвигаемой мебели, затем другой, более глухой шум: несомненно, стук в стену.
Ей вспомнилось ее прошлое. Все ссоры с покойным мужем, из-за ревности или из-за простой нервности, происходили ночью, после того, как дети были уложены.
Вдова медленно направилась к двери, придвинула лицо к замочной скважине и тихо спросила:
– Желаете вы что-нибудь?
Шепот – затем полнейшее молчание. Снова села она у огня в буковое кресло с сиденьем из плетеного камыша – самая роскошная мебель в кухне. Это облегчило приход к ней сна, который давно уже кружился вокруг нее.
После каждого удара грома она продолжала что-то бормотать, и, наконец, уснула, слыша все в большем отдалении гул и треск и не обращая внимания на другие, более близкие шумы, которые, казалось, шли из ее старой супружеской спальни.
Полное молчание внезапно разбудило ее. Кухня была погружена в темноту. В очаге оставались лишь маленькие световые кружки. С удивлением осмотрелась она кругом: не слышно ничего другого, кроме дыхания деда, слабого, как дыхание ребенка.
Встав с кресла, вдова на цыпочках подошла к двери своей бывшей комнаты. Супруги как-будто спали. Но она тотчас же убедилась, что они не спят. До слуха ее долетел легкий шепот. Быть может, они говорили друг другу на ухо нежности, как и она своему покойному мужу, когда ссора заканчивалась перемирием. Это воспоминание, теперь такое грустное, погасило ее любопытство и заставило ее удалиться.
В темноте добралась она на цыпочках до одного из окон и открыла его настежь. Молочный свет залил ей лицо и бюст, делая ее похожей на мраморное изваяние.
Шторм удалился. Круглая и ясная луна, окруженная звездами, бежала, казалось, по небу среди темных, как чернила, с проблесками серебра, облаков, В действительности же облака скользили группами, то под луной, то на мгновение закрывая ее, после чего она, казалось, выходила еще более яркой.
На нижней грунтовой дороге виднелось словно сияние зари. Шоффер, заметив, что вода спадает, зажег свои фонари и стал поправлять повреждения. Металлический стук его железных орудий был единственным шумом ночи.
Вслед затем женщина стала рассматривать свой фруктовый сад. Апельсины блестели лунной глазурью. Воздух был насыщен благоуханием разграбленного сада. Почва была покрыта цветами, которые казались растоптанными отрядом ночных всадников. Шторм сорвал лепестки с померанцевых цветов, и земля начинала благоухать, как увядаемый букет новобрачных. В спокойных зеркалах луж отражались трепетные капли звезд.
Вскоре шквал, последний обрывок далекой мантии бури, заставил дрожать верхушки этого нереального сада.
Апельсины из своей листвы, пронизанной светом, роняли дождь драгоценных камней. Потом замирали неподвижно, а луна снова облекала их в серебро. С каждого листика висело по бриллианту.







