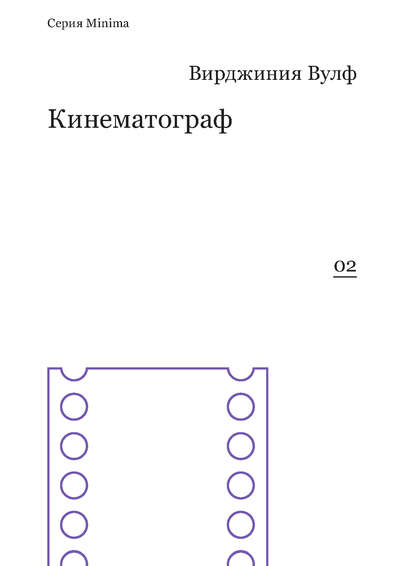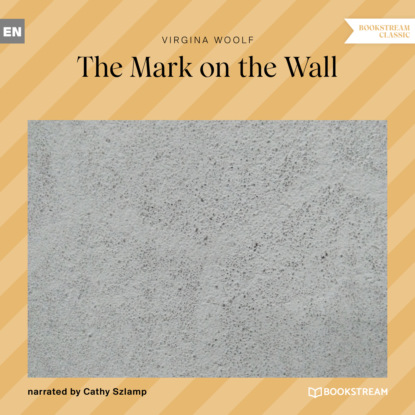Полная версия:
Вирджиния Вулф Миссис Дэллоуэй. На маяк
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Мисс Килман вечно твердит о своих страданиях, что делает ее просто невыносимой. Разве она права? Если отец, пропадая во всяких комитетах целыми днями (она редко видела его, когда они жили в Лондоне), приносит пользу бедным, видит Бог… Не этого ли мисс Килман ждет от истинного христианина? Сказать наверняка сложно. Вот бы проехать еще немного! Пенни до Стрэнда? Возьмите пенни. Она поедет в Стрэнд.
Элизабет нравились люди, которые болеют. Как сказала мисс Килман, женщинам твоего поколения открыта любая профессия. Можно стать доктором или фермером. Животные болеют часто. Обзавестись тысячей акров, нанять работников, наведываться к ним домой. Вот и Соммерсет-Хаус. Из нее получится отличный фермер – как ни странно, идея пришла ей в голову не столько из-за мисс Килман (хотя и ее заслуга в том есть), сколько благодаря Соммерсет-Хаусу. Огромное серое здание, такое роскошное и солидное! Приятно думать, что там работают люди. Элизабет нравились здешние церкви, похожие на фигурки из серой бумаги, плывущие в потоке Стрэнда. Тут совсем иначе, чем в Вестминстере, подумала девушка, сходя на Чансери-лейн. Гораздо солиднее и оживленнее. В общем, ей захотелось получить профессию. Она станет доктором, фермером, пройдет в парламент, если сочтет нужным, и все благодаря Стрэнду!
Ноги прохожих несут их по делам, руки кладут камень на камень, головы заняты не пустой болтовней (сравнивать женщин с тополями, конечно, увлекательно, но очень глупо), а мыслями о кораблях, сделках, законах; и вместе с тем здесь все такое внушительное (рядом Темпл), веселое (и река есть), благочестивое (и церковь), что Элизабет преисполнилась решимости (неважно, что скажет мама) стать либо фермером, либо доктором. Впрочем, она та еще лентяйка.
Лучше никому не рассказывать. Кажется, идея дурацкая. Так бывает, когда остаешься один, – здания без табличек с именами архитекторов и толпы людей из Сити будоражат сильнее разговоров со священником в Кенсингтоне, сильнее любых книг мисс Килман, и поднимают с песчаного дна души что-то вялое, нескладное, застенчивое; оно вырывается на поверхность, словно внезапно проснувшийся ребенок; пожалуй, так и есть – вздох, потягивание, порыв, прозрение, которое остается с тобой навсегда и снова опускается на песчаное дно. Пора домой. Нужно переодеться к обеду. Сколько времени – где же часы?
Элизабет оглядела Флит-стрит. Немного прошла к собору Святого Павла, робко, словно незваный гость со свечой крадется на цыпочках по чужому дому, опасаясь, что хозяин внезапно распахнет дверь спальни и спросит, зачем ты явился; не решаясь свернуть в подозрительные переулки, не соблазняясь боковыми улочками, как не стала бы открывать двери, за которыми могла обнаружиться спальня, гостиная или кладовая. Никто из Дэллоуэев не разгуливает по Стрэнду просто так, она – отважный первопроходец, странник, бредущий наудачу.
Во многих отношениях, по мнению матери, она крайне незрелая, совсем ребенок – любит своих кукол, старые тапочки, – и это очаровательно. С другой стороны, Дэллоуэи издавна служат на благо общества, и женщины рода, хотя особыми талантами и не блистали, всегда шли на высокие должности – возглавляли монастыри, всякие учебные заведения – сановные посты в мире женщин. Элизабет проникла еще немного в глубь чуждой территории, ближе к собору. Ей нравилась радушная атмосфера сестринства, материнства, братства, царившая в этой сутолоке. Шум стоял оглушительный – внезапно прорезались трубы (безработные бастуют), зазвучала военная музыка, похожая на марш, и если сейчас кто-то умирает – какая-нибудь женщина испустила последний вдох, и находящийся с ней рядом человек в этот чрезвычайно важный момент открыл окно, посмотрел вниз на Флит-стрит, то до него с ликованием долетела военная музыка, утешительная и равнодушная.
Музыка, не признающая ни счастья, ни горя. Благодаря ей утешение обретают даже те, кто наблюдает за последними проблесками сознания на лицах умирающих. Людская забывчивость подчас ранит, неблагодарность – коробит, но этот голос, льющийся вечно, из года в год забирает с собой все: и клятву, и жизнь, и процессию, обвивает и уносит прочь, как стремительный ледниковый поток подхватывает и волочет за собой осколок кости, синий лепесток, могучие дубы.
Как выяснилось, времени уже много. Маме не понравится, что она бродит по улицам одна. Элизабет повернула обратно.
Порыв ветра (несмотря на жару, было довольно ветрено) набросил черную вуаль на солнце и на Стрэнд. Лица поблекли, омнибусы лишились блеска. Пышные кучевые облака выглядели плотными, хоть топором руби, казались обиталищем богов – широкие золотистые склоны, лужайки небесных садов – и находились в постоянном движении. Фигуры менялись местами, словно следуя намеченному плану: то вершина резко опадет, то огромный пирамидальный блок, сохраняя неизменность формы, выдвинется на передний план или торжественно поведет за собой процессию, направляясь к новому причалу. При всей неподвижности и идеально согласованной статичности их белоснежную или опаленную золотом поверхность отличала невероятная живость, свобода; пышная композиция изъявляла готовность меняться, двигаться, разбиваться на части в любой момент; и, несмотря на степенное постоянство, накопленную прочность и плотность, они поражали землю то светом, то тьмой.
Невозмутимо, со знанием дела Элизабет Дэллоуэй села в омнибус до Вестминстера.
Свет и тень появляются и исчезают, манят и подают сигналы, делая стену серой, бананы на тарелке ярко-желтыми; Стрэнд становится серым, а теперь омнибусы вновь ярко-желтые, думал Септимус Уоррен Смит, лежа в гостиной и глядя, как на розах обоев вспыхивает и гаснет бледное золото, обладающее поразительной отзывчивостью живого существа. Снаружи деревья водили кронами по воздуху, словно сетями, комнату наполнял шум волн и пение птиц. Все стихии изливали ему на голову свои сокровища, рука Септимуса покоилась на спинке дивана, а сам он покачивался на волнах и слышал на далеком берегу лай собак. Не страшись, твердит сердце, не страшись.
Он и не страшился. В каждый миг Природа выдавала какой-нибудь веселый намек вроде золотого пятна, движущегося по стене (вот, вот, вот!), и обещала, что раскроет ему – качнет плюмажем, встряхнет локонами, поведет мантией, великолепная, как всегда, поднесет ладони ко рту и выдохнет строчки Шекспира – раскроет свой замысел.
Реция наблюдала за ним, сидя за столом и вертя в руках шляпу. Улыбается, значит, счастлив. Видеть, как он улыбается, было невыносимо. Что за брак, что за муж, который ведет себя странно, то вскакивает, то смеется, часами сидит молча, потом вдруг велит писать под диктовку! Ящик стола полон бумажек: про войну, про Шекспира, про великие открытия, про то, что смерти нет. В последнее время Септимус заводится без причины (оба доктора, Холмс и Брэдшоу, считают, что внезапное возбуждение особенно опасно) – машет руками, кричит, что познал истину! Он знает все! Якобы приходил тот парень, погибший Эванс, пел за ширмой. Реция тут же записала его слова. Иногда получается очень красиво, иногда – полная чушь. И всегда-то он останавливается на середине фразы: то передумает, то захочет что-нибудь добавить, то услышит новое, поднимет руку и слушает.
Но Реции не слышно ничего.
Однажды они застали служанку, которая убирается в комнате, хохочущей за чтением такой записки. Получилось ужасно досадно! Септимус заголосил, кляня человеческую жестокость – люди рвут друг друга на куски! Павших, пояснил он, люди рвут павших. «Доктор Холмс за нами охотится», говорил он и придумывал истории про Холмса – как Холмс ест кашу, как Холмс читает Шекспира, – ревя от смеха или от ярости, потому что для него доктор Холмс олицетворял нечто жуткое. Он называл его «человеческая природа». Еще у Септимуса случались видения. Якобы он утонул и лежит на скале, а над ним кричат чайки. Он свешивался с дивана и смотрел в море. Или слышал музыку. На самом деле всего лишь звуки шарманки или голоса с улицы. Он кричал: «Прелестно!», по щекам струились слезы, и это угнетало Рецию больше всего – видеть отважного мужчину вроде Септимуса, побывавшего на войне, плачущим. Он лежал, вслушиваясь, потом внезапно вопил, что падает вниз, вниз – прямо в пламя! И она вскакивала посмотреть на пламя, настолько ярко он переживал. Но ничего не горело. Они были в комнате одни. Всего лишь дурной сон, успокаивала она мужа, хотя иногда ей тоже становилось страшно. За шитьем Реция вздыхала.
Вздохи были нежные и чарующие, как ветерок на краю вечернего леса. Вот она откладывает ножницы, вот поворачивается и берет что-нибудь со стола. Легкий шорох, шуршание, постукиванье во что-то превращаются. Сквозь опущенные ресницы Септимус видел лишь размытый силуэт, хрупкую черную фигурку, лицо и руки; видел, как она двигается, протягивает руку за мерной лентой или ищет (она постоянно что-нибудь теряла) шелковые нитки. Реция делала шляпку для замужней дочери миссис Филмер, которую звали… Имя он позабыл.
– Как зовут дочь миссис Филмер?
– Миссис Питерс, – ответила Реция, держа шляпку перед собой. Она боялась, что та слишком маленькая. Миссис Питерс была женщиной крупной и ей не нравилась. Это только ради миссис Филмер, которая к ним так добра. – Сегодня угостила меня виноградом, – сказала Реция, вот ей и захотелось как-нибудь ее отблагодарить. Позавчера она вошла в комнату и обнаружила миссис Питерс! Та решила, что их нет дома, и слушала граммофон.
– Правда? – удивился он. Слушала граммофон? Да, Реция уже говорила, что застала миссис Питерс в комнате.
Септимус начал медленно открывать глаза, чтобы увидеть, на месте ли граммофон. Реальные предметы… реальные предметы слишком будоражат. Нужно быть осторожным. Он не сойдет с ума. Сначала посмотрим на модные журналы на нижней полке, потом медленно переведем взгляд на граммофон с зеленой трубой. Все вполне настоящее. Собравшись с духом, он посмотрел на буфет: тарелка с бананами, гравюра королевы Виктории с принцем-супругом, затем на каминную полку и вазу с цветами. Ничего не двигалось. Все на месте, все настоящее.
– У этой женщины злобный язык, – заметила Реция.
– Чем занимается мистер Питерс? – спросил Септимус.
– Ах… – Реция попыталась вспомнить. Вроде бы миссис Филмер говорила, что он ездит по командировкам. – Прямо сейчас он в Халле.
«Прямо сейчас!» – произнесла она с итальянским акцентом. Септимус заслонил глаза, чтобы видеть лишь часть ее лица – подбородок, нос, лоб – на случай, если оно окажется деформированным или с какой-нибудь ужасной отметиной. Но нет, она выглядела вполне естественно, шила, поджав губы с напряженным, постным видом, как делают все женщины за шитьем. В этом нет ничего ужасного, уверял он себя, снова и снова глядя на лицо жены, на руки. Что ужасного в том, как она сидит среди бела дня и шьет? У миссис Питерс злобный язык. Мистер Питерс сейчас в Халле. Тогда зачем пылать гневом и пророчествовать? Зачем бичевать пороки и чувствовать себя чужим среди своих? Зачем дрожать и плакать навзрыд, глядя на облака? Зачем постигать истины и передавать послания, если Реция втыкает булавки в подол, а мистер Питерс уехал в Халл? Чудеса, откровения, терзания, одиночество, падение сквозь море вниз, вниз в пламя… все сгорело, и, пока он наблюдал, как Реция украшает соломенную шляпку, ему казалось, что он лежит под цветочным покровом.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
У. Шекспир. «Цимбелин». Акт IV, сцена 2.
2
У. Шекспир. «Отелло». Акт II, сцена 1.
3
Паровичный – употребляемый для сжигания в паровозных топках.