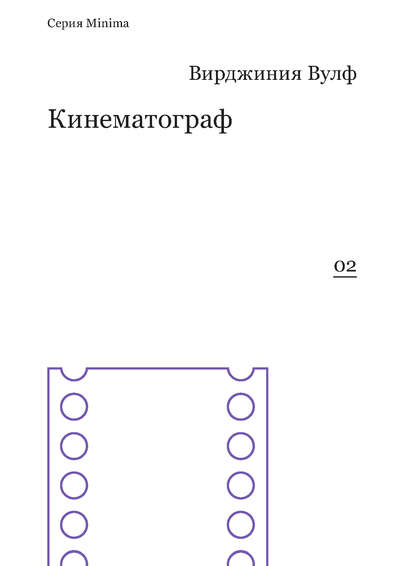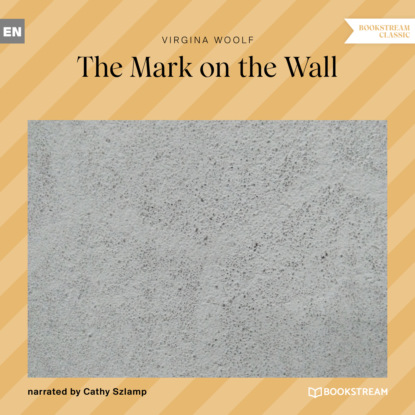Полная версия:
Вирджиния Вулф Дневники: 1936–1941
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Вирджиния Вулф
Дневники: 1936–1941
Предисловие переводчика
Вирджинии Вулф исполнилось пятьдесят четыре года 25 января 1936 года, примерно через три недели после начала этого заключительного тома дневников, а его последняя страница написана всего за четыре дня до того, как Вирджиния утопилась 28 марта 1941 года. Перед нами, безусловно, летопись о потере надежды и уверенности как в общественной, так и в личной жизни. Это были зловещие годы, предшествовавшие Второй мировой войне при жизни Вирджинии, с их поначалу вялым, а затем пугающе стремительным развитием событий. В личной жизни Вирджинии пришлось пережить очень многое: свою собственную, а затем неожиданную и потому более волнительную болезнь мужа; внезапные или долгие и мучительные смерти друзей: насильственную и обескураживающую – племянника; запоздалую – свекрови; осязаемые опасности и разрушения, вызванные войной; неосязаемые, но не менее выбивающие из колеи последствия нестабильности собственной психики. Но, несмотря на ужасы и горести этих лет, перед нами отнюдь не безрадостная, унылая хроника. Потребность Вирджинии писать – фиксировать события и реальность – достаточно часто спасала писательницу от отчаяния; ее природное любопытство и способность наслаждаться жизнью, а также удовольствие, которое она получала, излагая свои наблюдения особенным языком, делают эти страницы живыми, наполненными энергией и яркими описаниями.
1936-й был годом затянувшейся борьбы Вирджинии Вулф с переписыванием и изменением формы романа «Годы» – книги, задуманной с радостью и вдохновением в 1931 году, но ставшей бременем, вновь приведшим ее на край пропасти. Дневник Вирджинии за 1936 год чуть ли не самый скудный из всей серии; она едва могла писать. Возвращаясь к дневнику после четырехмесячного перерыва, Вирджиния отказывается оглядываться назад и анализировать свою прострацию, а, утверждая, что«полезнее для ее здоровья будет писать сцены», погружается в длинный и живой рассказ о Сивилле Коулфакс, прячущейся в Аргайл-хаусе – месте ее великих светских приемов, – который вот-вот будет пущен с молотка. Вероятно, именно этот постоянный интерес к всецело внешним и не представляющим угрозы событиям: к смерти одного короля, к отречению другого, к встречам с выдающимися людьми или посещению достопримечательностей, к сплетням и вечеринкам, служащим ей своего рода физическими упражнениями, – все это делает дневники Вирджинии Вулф такими понятными для читателей, которые, возможно, не столько интересуются творческим процессом великой писательницы, сколько с удовольствием используют их в качестве окна в ее жизнь и эпоху.
Долгая и мучительная борьба Вирджинии с романом «Годы» была вознаграждена неожиданным успехом, однако публикация романа сопровождалась предчувствием тревоги и последующим беспокойством. Вирджинию порой неоправданно легко повергала в уныние критика, даже если она исходила от тех, кого писательница не уважала. Вирджиния решила, что достигла пределов своего успеха и отныне должна изо всех сил стараться быть той, кого она называла«аутсайдерами» – понятие, которое писательница развивает в «Трех гинеях» и которое имело для нее множество значений, но, безусловно, подразумевало ощущение того, что она устаревает, выходит из моды, игнорируется подрастающим поколением, хотя оно также означало свободу писать что и как хочется. «Три гинеи» действительно стали для Вирджинии спасательным кругом, приковывая и поддерживая ее интерес в период после написания романа «Годы» и в особенно тяжелое время после гибели (в испанской гражданской войне) ее племянника Джулиана Белла, с которым Вирджиния гуляла по холмам и спорила о войне, о мужской агрессии, о подчинении женщин и их притязаниях на равенство, справедливость и свободу. В «Трех гинеях» она сказала именно то, что хотела, и, как ни странно, ни разу не задумывалась о том, что думают и говорят на данную тему другие.
Вирджиния поддалась уговорам написать биографию Роджера Фрая; это было смелое начинание – вызов в совершенно новой для нее области, в которой факты должны определять повествование, и именно факты в виде огромного количества документов навалились на нее. Уже осенью 1935 года Вирджиния начала изучать их и делать пометки, и, хотя к написанию она приступила лишь в марте 1938 года, трансформация идеи этой биографии занимала часть ее мыслей на протяжении пяти лет. Увлеченная проблемами написания и устающая от них, Вирджиния попеременно благословляла и проклинала биографию, и, вдохновившись идеей нового произведения, она упорно работала, чтобы закончить обе книги. Новая книга называлась «Пойнц-холл» (впоследствии «Между актов») –«радость от художественной прозы», как писала она, «четыре дня отдыха от “Роджера”, чтобы писать “Пойнц-холл”»; «один день счастья с “Пойнц-холлом”»; «пару дней занималась “Пойнц-холлом”, чтобы отдохнуть от “Роджера”», – так качался маятник с весны 1938 по июль 1940 года, когда Вирджиния наконец освободилась от «Роджера Фрая» и почувствовала, что теперь может писать в свое удовольствие. Она закончила «Пойнц-холл» в ноябре 1940 года; начала переписывать и снова закончила 26 февраля 1941 года, когда показала книгу Леонарду, а три недели спустя Джону Леманну, теперь уже партнеру издательства «Hogarth Press». Несмотря на энтузиазм обоих, Вирджиния убедила себя, что роман не годится для публикации, и через несколько дней покончила с собой.
В самых разных испытаниях и переменах, выпавших на ее жизнь, Вирджиния Вулф проявляла удивительную стойкость, о чем свидетельствуют страницы дневников. Перспектива катастрофы вызывала у нее ужас, но, когда случалась беда, Вирджиния мужественно (если такое наречие уместно) брала себя в руки, чтобы справиться с ситуацией, проявляя смелость, возвращая равновесие, умело и с юмором преодолевая трудности. Когда Леонард заболел, когда ее сестра понесла тяжелую утрату, Вирджиния служила им опорой. Когда лондонский дом Вулфов был разрушен, когда вражеские самолеты низко летали над их загородным домом, Вирджиния проявляла удивительную стойкость. Когда у нее самой болела голова или мутился рассудок, она обычно понимала, что нужно делать для восстановления душевного равновесия. Роман «Между актов» был написан в условиях необычайного стресса, вызванного приближением войны и, начиная с лета 1940 года, реальной угрозой смерти. В случае вторжения нацистов в Англию Монкс-хаус в Сассексе оказался бы практически на передовой – смерть буквально нависла бы над ними, – и Вулфы раздобыли средства, чтобы в случае чего покончить с собой.
Леонард Вулф писал [см. ЛВ-V]:«Думаю, смерть всегда была на поверхности сознания Вирджинии, в ее мыслях». В каком-то смысле этот последний том дневников можно считать самой длинной предсмертной запиской из всех существующих. Однако свидетельства очевидцев, письма и дневники Вирджинии не позволяют утверждать, что она всерьез задумывалась о самоубийстве до тех пор, пока не закончила книгу, не впала в депрессию, которая всегда следует за прекращением продолжительных творческих усилий, и не начала понимать, что снова теряет контроль над своим разумом. Вероятно, «эта ужасная болезнь»1, преследовавшая Вирджинию всю ее жизнь, была обусловлена наследственностью и связана с изменениями в мозге, которые теперь поддаются медикаментозному лечению. Но в то время… подобные состояния лечили хорошим питанием, изоляцией от большинства внешних раздражителей и сном. Даже в самом конце Вирджиния писала: «О боже – да, я смогу перебороть это состояние». Но когда она больше не смогла найти в себе силы или желание сражаться… Не было ли это своего рода мужеством – выбрать смерть, чтобы Леонард, «незыблемая основа» ее существования, мог жить дальше?
После смерти Вирджинии Вулф интерес к ее жизни и творчеству неизмеримо возрос; ее книги переведены почти на все языки мира, их изучают в школах и университетах; ее личность изображают в книгах, фильмах и пьесах; ее воспринимают как высокомерного сноба или как сумасшедшую. И хотя почти все признают талант Вирджинии, мнения о том, в чем именно он проявился, расходятся. В романах? В критике? Или, быть может, в дневниках? Вирджинию Вулф считают литературной, политической, феминистской революционеркой, а ее произведения анализируют с точки зрения христианского, кельтского, фрейдистского или марксистского символизма и содержания. Большинство исследований представляют собой серьезные подходы к пониманию и интерпретации ее многогранного таланта. Несомненно, ее тексты будут изучаться и дальше. Но читателю этих дневников, будь то специалист или обыватель, предлагается, по меткому выражению одного из критиков, богатое и неисчерпаемое общение с писательницей выдающихся талантов, честности и гениальности.
Аббревиатуры и сокращения
N&A – Nation & Athenaeum
NSN – New Statesman and Nation
В. или ВВ – Вирджиния Вулф:
ВВ-Д-I – «Дневники: 1915–1919»
ВВ-Д-II – «Дневники: 1920–1924»
ВВ-Д-III – «Дневники: 1925–1930»
ВВ-Д-IV – «Дневники: 1931–1935»
ВВ-П-I – «Письма: 1888–1912»
ВВ-П-II – «Письма: 1912–1922»
ВВ-П-V – «Письма: 1932–1935»
ВВ-П-VI – «Письма: 1936–1941»
КБ-I – Квентин Белл «Биография Вирджинии Вулф. Том I:
Вирджиния Стивен, 1882–1912»
КБ-II – Квентин Белл «Биография Вирджинии Вулф. Том II:
Миссис Вулф, 1912–1941»
Л. или ЛВ – Леонард Вулф:
ЛВ-I – «Посев. Автобиография: 1880–1904»
ЛВ-III – «Новое начало. Автобиография: 1911–1918»
ЛВ-IV – «Вниз по склону. Автобиография: 1919–1939»
ЛВ-V – «Путь важнее цели. Автобиография: 1939–1969»
ЛПТ – Литературное приложение к «Times»
ОАТ – Образовательные ассоциации трудящихся
РФ-П-II – Роджер Фрай «Письма: 1913–1934»
ЧП – Член парламента
1936
Вулфы жили в Монкс-хаусе с 20 декабря 1935 года; на улице было холодно и сыро. 29 декабря Вирджиния закончила первую редакцию романа “Годы”, который обещала сдать в типографию к середине февраля, но под конец года слегла с головной болью. Ее дневник за 1936 год продолжается в тетради, которую она начала 28 декабря (ДневникXXV).
3 января, пятница.
Первые три дня нового года я была как будто в тумане, да еще с головной болью, с раскалывающейся и тяжелой от количества идей головой; лил дождь; река вышла из берегов; когда мы вчера вышли на улицу, на мои высокие резиновые сапоги налипла грязь, а под ногами хлюпала вода, так что нынешнее Рождество, по крайней мере за городом, можно назвать неудачным, и, несмотря на то что Лондон умеет раздражать и выводить из себя, я рада предстоящему возвращению и даже с некоторым чувством вины умоляла не задерживаться здесь еще на неделю. Сегодня желто-серый туманный день, поэтому я вижу лишь очертания холмов и влажный блеск, но не Каберн2. Однако я довольна, потому что более или менее восстановила равновесие и, думаю, смогу в понедельник взяться за «Годы», то есть приступить к написанию окончательной версии. Внезапно это приобрело некоторую срочность, потому что впервые за несколько лет, по словам Л., я не заработала достаточно, чтобы оплатить свою долю расходов на дом, и мне придется взять £70 из своих сбережений3. У меня осталось всего £700, и мой счет нужно пополнить. Забавно, по-моему, снова думать об экономии. Но еще хуже – переживать всерьез или постоянно прерываться, если бы мне приходилось зарабатывать деньги журналистикой. Следующую книгу я думаю назвать «Ответы корреспондентам» [«Три гинеи»]. Нет, нельзя делать перерыв и браться за нее. Нет. Я должна набраться терпения и найти хороший способ приглушить это желание, пока не закончу «Годы» – к февралю? Какое облегчение – словно из моего мозга вырезали огромный – как бы сказать – костный нарост или пучок мышц. И все же лучше писать об этом, нежели о чем-то другом. Странный взгляд на мою психологию. Я больше не могу писать статьи. Надо писать свою книгу. Я хочу сказать, что мой слог меняется и адаптируется, когда я занимаюсь статьями для газет.
4 января, суббота.
Погода улучшилась, и мы решили остаться до среды. Теперь, конечно, пойдет дождь. Но я приняла несколько хороших решений: читать как можно меньше еженедельных газет, способных заставить меня думать о себе, пока не закончу «Годы»; занять свой мозг книгами на отстраненные темы и привычными занятиями; не думать об «Ответах корреспондентам»; и в целом быть как можно более глубокой, а не поверхностной, как можно более спокойной, а не тревожной. Сейчас займусь «Роджером»4, а потом расслаблюсь. Если честно, нервы еще на взводе, и одно неверное действие может привести к отчаянию, экзальтации и всем прочим страданиям в этом знакомом букете несчастий. Поэтому я заказала говяжью вырезку, и мы прокатимся на машине. Л.5 стал счастливее; он собирается заняться деревьями.
5 января, воскресенье.
Еще одно гиблое утро. Полагаю, я сказала все, что хотела, и дальнейшая правка окончательно все испортит. Теперь работа должна свестись к тому, чтобы причесать текст и сгладить неровности. Это возможно, поэтому я спокойна. Хочу заняться чем-то другим. Хорошо это или плохо, я не знаю. Голова сегодня не болит, а все из-за «Старшего трубача полка»6 вчера вечером и поездки к разлившейся реке. Облака были необыкновенного цвета, будто крылья тропических птиц, грязно-фиолетового, и отражались в озере; стаи черно-белых ржанок чистой и утонченной окраски летали ровным строем. Сколько же я спала! Сегодня опять пасмурно, и я не пойду на чай с Клайвом7 и Рэймондом8. Никаких новостей о Моргане9. Я с трудом слушала новости, опасаясь услышать: «С сожалением сообщаем…»
7 января, вторник.
Я снова переписала последние страницы и, как мне кажется, лучше использовала пространство. Многие детали и основы остались нетронутыми. Сцена со снегом, например, и еще множество второстепенных отрывков. Но меня не покидает ощущение, что все уже сказано и требуется лишь немного мастерства, а не воображения. Проливной дождь, такой сильный, что Л. пришлось идти ко мне в макинтоше, и, чтобы лишний раз не беспокоить его, я пила кофе в столовой при свечах. Никаких новостей о Моргане – почему? Джо10 молчит. На каждой веточке висят прозрачные капли. В этом, кстати, талант Харди11 – замечать уникальные мелкие детали. Я не знаю, но очень бы хотела понять, как вообще он добился своей репутации, учитывая плоскость, нудность и бесталанность «Старшего трубача полка». Думаю, он был гениален, но не талантлив. Англичане любят гениев. А я ведь тоже англичанка, которая чувствует свое прошлое и, словно крестьянка, может пожинать его плоды. Американец Том12 не может и, полагаю, не чувствует ничего подобного. Я подумываю брать идеи великих писателей и развивать их. При этом я всегда ищу способы избавиться от своих притязаний на роль критика, идеи которого уже не вписываются в жесткие рамки передовицы [Литературного приложения к] «Times». Так или иначе, этот дождь растворяет мое чувство вины за желание вернуться в город. Хотя я провела здесь один или два восхитительных спокойных вечера – вечера свободы в высшем ее проявлении.
Вулфы вернулись на Тависток-сквер, 52, на машине в среду 8 января, после обеда; всю дорогу лил дождь.
10 января, пятница.
Лондон.
Вернулись. Вчера весь день стояла ненастная погода; все окутали сумерки, и лил дождь, так что комфорт, на который я так надеялась, утрачен. Ориго13 приходила к чаю и хочет поужинать на следующей неделе. Тем не менее я намерена не выпускать поводья из рук, ибо следующие шесть недель чреваты для меня сильнейшим риском. Как закончить, напечатать и вычитать книгу к концу февраля? Состояние такое, что сегодня утром я, например, приняла на циферблате цифру 11 за 12, отложила книгу и с облегчением выдохнула, но, поняв, что ошиблась, не смогла заставить себя поработать еще час и вместо этого занялась «Роджером». И как же тогда мне закончить книгу? Голова совершенно пустая, безжизненная. Я планирую сделать последний рывок и подготовить текст к набору, скажем, к понедельнику или вторнику, отправить его Мэйбл [машинистке], а потом начать c той главы, на которой остановилась, и пройтись еще раз, и продолжать вычитывать, пока все не перепечатаю. Но успею ли я это сделать? Я намерена тщательно распланировать свое время, отдыхать после обеда и читать по чуть-чуть. Да, это извечная проблема – ее суть (ну и словечко). Дэди14 вот приглашает нас в Кембридж; старушка Этель15 тоже ждет своей очереди; обычные письма. Литературное общество Кембриджа, по словам Дэди, приглашает меня прочесть лекцию. Пусть. Текст для моего письма [«Ответ корреспондентам»]. Ориго вся в напряжении; говорит, что Италия полна ослепленных яростью патриотов, бросающих в котлы свои обручальные кольца16. Предвидит затяжную войну, а затем мир, которого можно было добиться еще месяц назад. Они настроены решительней, чем во время Великой войны. Два постных дня в неделю.
11 января, суббота.
Мой дневник все короче и короче: я берусь за него и откладываю, берусь и откладываю. Подумываю даже писать после чая. Это лучше, чем работать без остановки. Очередная пауза. Полдень; очень хороший день. Меня попросили прочитать лекцию в кембриджском клубе. Стоит ли говорить, что я думаю об этих приглашениях? Полагаю, что нет – пока нет. После обеда неожиданно заглянула Энн17 – голые ноги, носки, взлохмаченные волосы, – чтобы одолжить второй том «Войны и мира» [Толстого] для Джудит18, которой удалили гланды. В полосатой синей майке, очень высокая и энергичная, она чем-то напоминает регбиста. Говорит, что у нее в колледже много друзей – молодых людей, – но нам о них не расскажет. Потом я читала книгу Борроу19 «Дикий Уэльс», в которую погрузилась с головой; затем Л. отправился навестить Моргана, застал его в обществе знакомых педерастов; я пила чай с Нессой20; пришел Дункан21, и мы обсудили это самое общество, которое ему не нравится своей показушностью, как у Рэймонда, а мне всегда напоминает мужской туалет. Потом пришел Л. – видите, я принижаю качество разговора, который был приятным. Мы обсудили журналистику, журнал «New Statesman»22 и его жесткие яркие актуальные рецензии; Д. ужинал с Коулфакс23 ради встречи с Максом24. Д. становится общительным – это так естественно, даже несмотря на то, что он по ошибке пришел не в тот день, а Сивиллу представлял себе пьющей чай с хлебом и маслом в одиночестве. Вернулась домой, поужинала в одиночестве и заснула над мемуарами мистера Кларксона25. Он имел странные сексуальные предпочтения и страсть к рыбе; был на побегушках у Сары Бернар26 и, хотя точных данных нет, сделал, полагаю, за свою жизнь около сорока тысяч париков.
13 января, понедельник.
Драгоценные дни уходят. Осталось около тридцати, а сколько еще предстоит сделать! Но я считаю, что мой новый метод работает: каждый час расписан по минутам, и пока я четко придерживаюсь плана. Энн и К. Стрэйчи27 ужинали у нас вчера вечером. Кристофер – очаровательный болтливый добрый юноша, в котором много от Оливера28, в основном в речи, и немного грубости Костелло в чертах лица, но гораздо больше энергии живости, нежели у чистокровных Стрэйчи. Смех. Разговоры, разумеется, о Гамбо29 и Рэй30; Рэй и Гамбо купаются голышом. И все же, хотя мысль о наготе Р. заставляет меня кривиться, она вырастила сына гуманистом. На ужин в воскресенье он съедает 4 яйца – наравне с матерью, по его словам. Еще его беспокоит, что в новом доме Гамбо, выбранном ею по каталогу, только одна маленькая каморка для прислуги. Как она не похожа на Литтона31! Но он говорит, что Оливер тоже гуманен. Энн в красном; нескладная девушка, молчаливая, задумчивая, со своими взглядами, в основном медицинскими и политическими. Она продает «Daily Worker»32 (три экземпляра), затем врывается к Кристоферу, который играет Баха33 на пианино, и требует яиц и печенья на обед в 15:30. Пришли Несса, Клайв, Дункан, и мы вовлекли молодежь в разговор о Беренсонах34.
Я прогулялась по воскресным улицам, а Л. поехал к миссис В.35, где встретил Бэбс36 и остальных с немецкой овчаркой, которую пришлось вернуть. Она только что купила пса на Паг-роу – так, кажется, называется улица в [районе] Уайтчепел, где продают собак37. Туман – сегодня утром он рассеивается.
16 января, четверг.
Редко когда я чувствовала себя такой несчастной, как вчера вечером, около 18:30, перечитывая последнюю часть романа «Годы». Сущий вздор – сумбурные сплетни – так мне показалось; демонстрация собственной немощности, да еще настолько длинная. Я швырнула рукопись на стол и с горящими щеками помчалась наверх к Л. Он сказал:«Так всегда бывает». Но я чувствовала, что нет – так плохо еще не было никогда. Пишу это на тот случай, если после следующей книги окажусь в подобном состоянии. А сегодня утром, когда я погрузилась в чтение, книга, наоборот, показалась мне полноценной и живой. Я заглянула в начало. Думаю, в этом что-то есть. Но теперь я должна заставить себя регулярно отсылать Мэйбл части романа. Клянусь отправить сегодня вечером 100 страниц.
На ужин [15 января, среда] пришла только Айрис Ориго. Поначалу я думала, что это будет полный провал. Однако, в основном благодаря обаянию Л. и моему легкому опьянению, мы разговорились, причем были откровеннее, чем если бы компанию нам составили Джон38, Уильям39 или Гарольд40, и нам обоим Ориго понравилась. И она придет еще. Истинная женщина, по-моему, честная, умная и, к моему удовольствию, хорошо одетая; я, конечно, сноб, но мне нравится беззаботный полет этой райской птицы по жизни. Длинное зеленое перо в ее шляпе навеяло этот образ.
19 января, воскресенье.
Осознавая, чего, как мне кажется, ждет от меня читатель, я открыла свой дневник, дабы отметить, что вчера умер Киплинг41, а сегодня, вероятно, умрет король (Георг V42). Смерть Киплинга заставила всех старых боевых коней прессы выйти из стойл; газетам приходится растягивать на пять-шесть колонок очень скудные, но вызывающие беспокойство сведения, которые авторы дополняют биографиями врачей и медсестер, фотографиями Сандрингемского дворца, комментариями старых местных жителей, сплетнями о маленьких принцессах в их вишневого цвета пальто, о снежном человеке и т.д. Но факт остается фактом: все принцы собрались вместе, и я полагаю, что в любой момент может войти дворецкий, как раз когда они заканчивают ужин, и сказать: «ЭдуардVIII43– король», – после чего… Нет, не стоит мне придумывать эту сцену, у меня их и так по горло.
Вчера в шесть вечера я уединилась, чтобы позвонить Нессе, и была встревожена тем, как нервно и запыхавшись она ответила:«Не сейчас – я перезвоню». Я успела вообразить множество трагедий, а сегодня утром узнала, что всего лишь позвонила в разгар собрания Лондонской группы, которое прошло абсолютно вопреки заговору Нессы и Дункана; старого президента сместили, а избрали Сикерта44. И теперь, как раз когда умирает король, Несса и Дункан подумывают оставить Лондонскую группу и основать свою собственную45. Погода стоит холодная, снежная; снег то тает, то замерзает; я гуляла; у нас ужинала Джудит; мы поговорили с Джеймсом46 и Аликс47, прогулялись вокруг Серпантина48, а сейчас будет обед.
На днях я подошла к пожилой полной женщине, читавшей газету в Книжном клубе «Times». Это была Марджори Стрэйчи.
– Что делаешь? – спросила я.
– Ничего! – ответила она. – Мне некуда идти и нечего делать.
И я оставила ее сидеть и читать «Times».
20 января, понедельник.
Вчера вечером я пересказала эту историю Дункану. Он тоже встретил Марджори в «Times». Она обняла и поцеловала его. Другая сторона истории с Марджори. Они потерпели настоящее поражение – Несса и Дункан, – но все равно избрались в комитет. Они не назначили ни одного оратора со своей стороны, и, поскольку ни один из них не выступал, а Нэн49 и Этель50 промолчали, а все остальные фактически подготовили речи, результат, по их мнению, был предрешен заранее.
Король еще жив, но находится при смерти. Сегодня очень хороший солнечный день; думаю, я обязана заставить себя пойти в «Lewes»51 и заказать пошив платья; и… и… мы ужинаем с Элис Ричи52. Сивилла тоже очень хочет прийти.
21 января, вторник.
Прошлой ночью король умер. Мы ужинали с Элис Ричи и ехали домой мимо Букингемского дворца. Была ясная сухая ночь, довольно ветреная и холодная. Когда мы свернули за угол и подъехали ко дворцу, то увидели машины, припаркованные вдоль всей Мэлл53. Тусклые огни. У белого монумента стояли люди, но казалось, что все они двигаются. У ограды скопилась толпа, похожая на пчелиный рой. Некоторые прижались к прутьям. В неприметной рамке висело объявление. Нам пришлось проехать мимо монумента, прежде чем полисмен, уставший, но вежливый, разрешил нам остановиться. Потом мы вышли и двинулись в обратную сторону, с трудом перейдя дорогу, потому что мимо постоянно проезжали машины, и пытаясь протиснуться сквозь толпу. Но это было невозможно. Тогда я спросила полисмена: «Что в последнем объявлении?» А он ответил: «Еще не вывесили». Тогда я спросила: «Есть ли свежие новости, а то я не в курсе?!» (Когда мы выезжали, на газетных афишах было написано, что силы короля слабеют.) На что он ответил: «Жизнь Его величества подходит к мирному завершению». Он говорил неуверенно, будто повторяя официальное заявление, но сочувственно. Ощущалось какое-то волнение; иностранцы говорили по-немецки; много представительных мужчин в вечерних костюмах; все выглядели высокими, ни в коем случае не трагичными, но и не веселыми, а скорее сдерживающими волнение; и все это в ярком освещении. Когда мы свернули в сторону, вспыхнул фейерверк – будто серебристо-золотой шипящий факел или сигнальный огонь на ярмарке, – но это, наверное, были вспышки фотоаппаратов. Люди, сгрудившиеся у ограды, на мгновение стали бледными как мел, затем мы сели в машину и поехали домой. Пустынные улицы. Ничего необычного, кроме свежих афиш с надписью «Корольумирает». То, что я приняла за грохот пушек, оказалось всего лишь хлопаньем неплотно закрытой двери в подворотне. Однако в три часа ночи Л. проснулся от криков газетчиков под окном. Король действительно умер около полуночи. Он уже был мертв, когда мы проезжали мимо дворца. Помню, в нескольких узких окнах наверху горел свет. Остальные были наглухо занавешены белыми шторами.