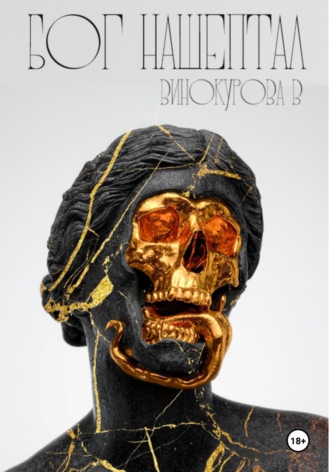
Виолетта Винокурова
Бог нашептал
– Что я видела? Хороший вопрос, что я видела в ней. Я видела девочку, которая в свои шестнадцать получила столько, о чём я только мечтала в её возрасте. У неё богатые родители. Достаточно богатые, чтобы на Новый год слетать в Египет, а летом в Шри-Ланку. Я ей завидовала, у меня семья была бедной, мне нужно было следить за вещами, чтобы они не дай бог не порвались. Знаете, – она усмехнулась, – когда у меня рюкзак пришёл в негодность, пришлось ходить с пакетом в школу… А вы знаете, шесть учебников, шесть тетрадей, пенал. Один пакет был тяжёлым, и я ходила с двумя. Не думаю, что Лиза могла бы себе такое представить. Вот и… ах, какие времена была. Пусть тогда и косились, но буллинг меня обошёл стороной. Тогда-то и буллинг не говорили, травля это. Вам не кажется, что буллинг как бы смягчает? А вот травля говорит прямо, что травят, выживают. Ну а буллинг – это что? От «булла»? Быка? Дети даже разбираться не будут. Я считаю, что в таких вещах надо быть прямолинейным и не ходить вокруг да около. Это неправильно.
– Раз вы так говорите, вернёмся к Лизе?
– Точно, Лиза! А я-то думала, куда меня понесло? – Она с аппетитом укусила вафлю, а потом и протолкнула её в себя, едва ли жуя. – Извините, я такая. Все постоянно жалуются, что я куда-то в другую степь ухожу. Все идут в Арктику, а я – в Антарктиду! Какой же была Лиза… Девочкой, которая получала то, что хотела. В материальном плане. В этом я не сомневаюсь. Но то, что она чувствовала от этого внутри, мне не ведомо. Вот прям совсем. Ни капельки. Ни чуточки. Может быть, она была довольна. А может, её от этого тошнило и на самом деле за деньги она платила тем, что не могла быть собой. Ей… восхищались. Знаете, она была негласной королевой школы. В шестнадцать лет! Это сильно. Ну это я её так называю, «королева школы». Так она просто была постоянно на слуху, везде светилась, её родители вкладывали деньги в школу, о ней постоянно говорили. Оценки средние, но, например, она отличалась в атлетике. Осанка прямая, походка грациозная, смех… яркий, чистый. Я всегда могла определить, когда она смеётся…
– Вас её смех раздражал?
– Ой, скажете, Герман Павлович! – потрясла она рукой. – Нет, просто… Она всегда сияла и отличалась от всех остальных. Интересно, чем это было для неё самой, раз она решила умереть. Не просто же так, что-то там да было.
– То есть вы думаете, что это из-за внутренних конфликтов, а не внешних?
– Имеете в виду, не виноваты ли учителя? – Сразу проняла. Склонила голову, её светлые волосы запереливались. – Возможно, они могли себе позволить резкое словцо, как, например, Ирина Николаевна, знаете такую? Уже познакомились? Вот она может, но не с Лизой. Не с Лизой Гордиенко, у которой родители являются нефтяной парой Гордиенко, которые уверенно заполняют рынок. Никто бы не посмел на Лизу и голос повысить. Не то чтобы довести её.
– А вы знаете Андрея Храмова? Ирина Николаевна говорила, что он тот ещё… человек.
– Андрея мы все знаем, конечно, – покивала она, – но я думаю, он мальчик… немного глупый. Задирает всех словесно, весело ему от этого, а на деле это ребячество.
– Не травля?
– Не-ет! Что вы, он себе такого не позволяет. Это Ирина Николаевна наговорила? Я даже знаю почему, хотите расскажу? – Она приблизилась и перешла на шёпот. – Это потому, что он позволил себе сказать ей слово поперёк, сказал, что чего-то делать не будет, потому что это не входит в его обязанности как ученика школы, что он тут не придворный, или что-то в этом духе. На субботнике было, вот и взъелась Ирина Николаевна, считает, что он точно что-то такое натворил. Она об этом не распространялась, но по ней видно, хочет насолить ему. А я думаю, что с ребёнка взять? Ему семнадцать, но в душе ему десять! Всего лишь десять, куда ему? – Примирительная улыбка взрослого, который со снисхождением смотрит на разбитое футбольным мячом окно. – Это у нас Ирина Николаевна много думает.
– А что вы сами думаете по поводу смертей?
– Что я думаю? – удивилась она. – А что мне думать? Есть жизнь, есть смерть. Смерть придёт в любом случае, сами мы её выберем или нет. – Наталия Дарьевна пожала острыми плечиками. – Конечно, неприятно, когда человек сам уходит из жизни, но это его выбор. Он не просил, чтобы жизнь ему давали, так почему он не имеет право решить, как её закончить?
– А если так они избегали своих проблем?
– Тогда это плохо и грустно. Потому что… у них было не много выбора, лишь пара. А то и вовсе один, как оказалось. Как сказали полицейские и друзья погибших… никто не рассказывал о том, что с ними было что-то не так. Что они как-то изменились. То есть изменения были, чуть большая закрытость, нервозность, агрессия. Но не большие. Их поэтому определить было нельзя, что это всё укладывалось в рамки нормы. В рамки привычного. А это было оно самое.
Наталия Дарьевна взяла песочное печенье с джемом и быстро проглотила. Потом второе, третье, запила чаем и разморилась, откинувшись на спинку стула.
– Есть ещё вопросы? – Улыбка снова развернулась на её лице, словно никакой грусти, никаких смертей не было, словно они проводят чаепитие на солнечной поляне, вокруг которой прыгают маленькие, пушистые кролики. И лисы с волками из леса за ними не следят, они наелись и спят по норам и пещерам.
– Как вы сохраняете такой оптимизм?
– Это просто. Если меня всё это будет касаться, я сама не выдержку, как Тамара Олеговна. Я так не хочу. Я для себя живу, а не для других. Люди каждый день умирают, и что мне о каждом горевать? Никаких сил на это не хватит, а я жить хочу. Оно мне нужнее, чем слёзы за неизвестных детей.
Последняя фраза показалась Герману особенно колкой. «Неизвестные дети». Не детки. Не Артём для Марины Алексеевны, не Саша для всей школы, никто. Наталия Дарьевна приветлива, доброжелательна, проявляет столько радушия, сколько Егору Добролюбовичу могло только во сне привидится, да и то, кошмарном, но на деле обстоят иначе: Наталия Дарьевна отодвигает от себя всё то, что приносит ей дискомфорт, и живёт одна в своём умиротворяющем доме из печенья и суфле с шоколадкой посыпкой. Поэтому она может вести себя так, в отличие от остальных учителей, которые выражают гнев, непринятие, горе.
Герман поблагодарил за разговор и чай. Провёл ещё немного времени в кабинете психолога, пообвыкся с ним, а на следующий день пожал руку Тамаре Олеговне, которая собиралась в гардеробе, надевая длинную дублёнку и вырисовывая мягко формы, которые продолжали отображать её статность и грацию, пусть и с излишком. Лёшу Небесного Герман не видел, возможно, парнишка заскочил к Тамарочке тогда, когда замены не было рядом. Сама Тамарочка отказалась даже от провода педсостава. Хотела скорее закончить рабочую неделю и испариться из школы, будто её здесь никогда и не было: ни её грамоты и дипломы, сертификаты и благодарности висели на стенах, будто не ей ученики приносили игрушки для терапии, ни с ней хотели торжественно попрощаться. Они ведь остались здесь, а не ушли, они продолжали ходить к ней, быть с ней.
Связь перерезали как пуповину.
– Удачи тебе, Герман, – сказала она, протягивая руку в чёрной перчатке.
– И вам, Тамара Олеговна. Поработайте с этим потом.
– Такое только психолог мог сказать. Такта в тебе не так много, – шутила она и не улыбалась.
– Я знаю, когда я могу его отключить и мне ничего за это не будет.
– Ты прав, не будет. Но разберись с этим. Может, ты дотянешься до правды, хотя я даже не представляю себе, как это можно сделать. Времени прошло слишком много, а с родителями мы не общаемся, и даже если бы общались, кто из родителей признался бы, что совершил нечто подобное, что подтолкнуло его ребёнка… к такому выбору? Ведь признаться будет значить признать тот факт, что ты не справился. Что ты напортачил так, как нельзя было этого допустить. А может быть, – она подняла и опустила плечи, – никто не понимает, что происходит и почему оно происходит, а мы с тобой можем только наблюдать и говорить: «Ты ошибся, но этого не поймёшь в силу устройства своей психики».
– Вот и не узнаешь, так это или нет.
– Удачи.
– И вам не пуха.
– К чёрту, Герман! К чёрту! – Она прокричала это с облегчением на весь холл первого этажа.
Toi toi toi.
Герман вернулся в кабинет, осмотрел его. Свои бумажные заслуги в рамках он тоже принёс, уже развесил. В шкафу перебрал методики и отложил свои любимые. Он последний выключил компьютер и тоже собрался домой.
Со Светой они оказались дома почти одновременно: он застал её снимающей с себя пуховик.
– Привет! – сказала она и бросилась ему на шею, не остужая своими холодными прикосновениями, а наоборот, согревая и даруя тепло. – Как прошло?
– Ты каждый день спрашиваешь, а я даже не знаю, что и отвечать, если всё было спокойно.
– Никто из родителей ещё не приходил?
– Не в мою смену.
– Значит, ещё придут. Я как чувствую!
Они стянули обувь, развесели вещи и перетекли в комнату. Поставили колонку с Фрэнком Синатра и приняли готовить ужин, периодически уходя в пляс и забывая про нарезанную картошку.
Света держала Германа за руку и кружилась, потом он ловил её и наклонял к полу. Они смеялись, менялись местами, и теперь женскую роль выполнял Герман. Песни менялись, а ужин стоял. Когда у обоих заурчало в желудках, они взялись за готовку более основательно. Довели до конца, но после ужина продолжили танцы, скользя по ламинату в тёплых носках, прижимаясь разгорячёнными телами друг к другу и переплетая пальцы.
Довольные они упали на кровать.
– Я не спросил, а у тебя как день прошёл? – дышал тяжело, глубоко, чувствовал, как кровью наполняется каждый мелкий сосуд на кончиках пальцев, особенно тепло было под пластинами ногтей.
– Да как обычно. Хотя! Знаешь, кого сегодня привели? – загорелась Света, точно Сириус на горизонте.
– Трёхмесячного?
– Четырёхдневного! Совсем малютка, только из роддома, и сразу к нам! – чуть ли не скулила от умиления она. – Видел бы ты, какие у него малю-юсенькие пальчики были! Ну прям такие – такие!.. Я описать не могу. Лежал так спокойно, я ему рот открыла, скальпель поднесла, а мама как отвернулась, зажмурилась, испугалась, бедная! Ну конечно, дитя её резать будут, пусть и во благо.
– Говоришь так, будто ты не уздечку подрезаешь, а лицо.
– Гер! – пихнула его слабо в бок. – Мама испугалась, папа у двери стоит тоже испугался, одна лялька спокойная как не в себя. Ему-то что? Ничего не чувствует, спокойно переносит, но какой это стресс для родителей! Каждый раз смотрю на них и думаю, а вот если бы я была на их месте? – Она задержала дыхание и уставилась в потолок, где звездой висел плафон лампы. – Я бы… тоже так боялась?
– Мне кажется, что да. Всё-таки хирургическое вмешательство – это причинение вреда, пусть и во благо, а своё… своего ребёнка хочется защитить от каждой иглы, от каждого ножика.
– А если я сама буду проводить операцию?
– А сможешь?
– Не знаю, я же не проводила… – Света надула губки, а потом проморгалась. – Да и о чём это я. Наверное, действительно не надо, родительские чувства взыграть могут. Сто пудов не смогу. Точно не смогу. – Она нащупала его руку и крепко сжала, а потом перевернулась и устроилась под боком, сладко закрывая глаза. – Но он был таким милашкой. Глаза большие, взгляд заинтересованный. Хоть и сонный… Смотрит и мало что понимает, но любопытно ему, так любопытно… Гер, тебе надо было его увидеть.
– Извини, я был с детьми постарше.
– Да, у тебя теперь свои детки будут. Надеюсь, они тоже будут любопытными.
– Сложно сказать. С Тамарой Олеговной они были пять лет, если не больше, а тут я… Ни с того ни с сего. Не знаю, получится ли у меня что-то, кроме тестиков.
– Да и те на компьютере.
Герман шикнул.
– Я даже проверить их не смогу.
– Ох уж эта компьютеризация современного общества.
– Вот уж точно.
Выходные прошли гладко, у Светы были полные смены, поэтому дом оказался на плечах Германа. Пока его дамы не было, он убрался, приготовил первое, второе, а потом сел за методический материал по суицидологии. Эти знания уже были сохранены в его долговременной памяти, но их стоило освежить. Этим он себя и занял.
В течение следующей недели он закреплял в своей голове имена учителей. С основными лицами, его интересующими, он познакомился достаточно плотно, связал себя с ними, хотя с тем же Егором Доброславовчием и Ириной Николаевной вести диалоги было сложно, потому что они всегда перетягивали одеяло на себя. Брали даже чужое, когда у самих в руках были свои, но при этом между собой они вели себя достаточно сдержанно и спокойно.
Так же Герман познакомился с классами. Познакомился он с ними, но не они с ним. Начинался урок информатики и перед тем, как дети приступали к тестированию, слово брал Герман, представляясь и определяя своё место в иерархии солнечной системы школы.
Далеко не Юпитер и даже не Меркурий, скорее всего, спутник одной из девяти планет, каждой из которых мог оказаться любой ученик. Герман будет кружить вокруг него, пока они будут сидеть в его – теперь уже единолично его – кабинете и обсуждать. Обсуждать то, что захочет ребёнок. Или то, с чем придётся работать психологу и ребёнку, которого насильно затащил учитель. Второе Герман особенно не любил, потому что тогда работа не строилась. Не тот повод, не то положение. В глазах ребёнка он будет как соучастник учителя, который притащил его сюда – такой же плохой и неприличный взрослый, которому лишь бы поучать. Таким быть в глазах учеников Герман не хотел. Он мог исправить это положение, но предпочитал изначально в него не попадать.
Школа – это система со своими законами, иерархией, своим положением вещей и движением тел: будь то перемещение между кабинетами или мысленные скитания, вопросы и ответы, запись под диктовку или устный ответ у доски. Поскольку школа – это микрокосм, модель социального общества, в нём всё должно быть организовано таким образом, чтобы не пришлось потом бегать и ловить отбившиеся светила, заставляя их встать на «путь истинный», которому они смогут слепо следовать. Они должны научиться быть такими, чтобы следовать слепо, но при этом в любой момент суметь понять, зачем и почему они это делают. Бесцельность сыграет против. Всё должно быть оправдано, объяснено.
– Я понимаю, что Тамарой Олеговной я не стану, – Герман одинаково начинал свою речь, обращённую к разным классам, – даже если сделаю пластическую операцию. Для вас я новый, чужой человек, и я не жду, что вы потянетесь ко мне, но я хочу, чтобы вы знали, что, несмотря на уход одного психолога, второй у вас будет. Я работаю так же, так же готов принять вас в любое время. Мы можем поговорить о том, что вас беспокоит. Не только о том, что беспокоит многих сейчас, – расплывчатая формулировка, чтобы каждый решил для себя, что многих беспокоит, – а то, что волнует конкретно вас: лишний вес, плохие оценки, проблемы с агрессией, бессонница, непонимание родителей или человека, с которым вы встречаетесь. Не обязательно беспокоиться о том, что окружает, я хочу, чтобы вы подумали в первую очередь о себе, и тогда пришли ко мне, если видите выход из ситуации в общении со мной.
Некоторые слушали заинтересованно, кто-то хотел поскорее пройти тест и заняться сбором презентации, кому-то было безразлично и первое, и второе. Такой реакции Герман и ожидал – обычной и человеческой. Не всем нужен психолог, но тем, кому он нужен, он уже дал о себе знать. Надеялся только, что не переусердствовал со своим образом хорошего человека.
Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos .
3. Маша Рудько
Ещё одна неделя прошла в обживании и привыкании. Не Германа к окружению, а окружения к Герману, пусть он и ходил с Тамарой Олеговной по школе до этого, его вид до сих пор вызывал у некоторых вопросы. Дети смотрели, не понимали, кто этот взрослый, говорили дежурно, чуть ли не отдавая честь: «Здравствуйте», а за спиной спрашивали: «Кто это? Знаешь?», даже несмотря на то, что сам Герман был на каждом уроке информатики и представлялся. Кого-то не было, кто-то просто забыл, кто-то изначально не обратил внимания.
Тестов было много и большинство из них положительные – никаких проблем, кроме несколько повышенного уровня тревожности у девяти- и одиннадцатиклассников, и парочки самих по себе тревожных учеников. Никакой красной линии они не достигали. Либо прятались, либо действительно всё было не так плохо. Зато уровень напряжения был заметно у всех на краю нормы. Почти у всех. Их касалось то, что произошло, и лишь малая часть была такой, какой предстала перед Германом Наталия Дарьевна – благодушные, себе на уме и о своей жизни. Эта позиция была самой выигрышной, даже если работало подавление. Пока оно работает, никто о проблемах трубить не станет.
Один раз к нему в кабинет привели родителей. Те удивились, увидев вместе привычной особы из высшего общества с чёрно-седыми волосами среднестатистического мужчину тридцати лет, с небрежной копной коротких волос, которые по-умному должны были лежать в аккуратной британке, если бы не отрасли и Герман их не забросил. Вид его был более прилежным: бежевые прямые брюки, белая рубашка, заправленная за пояс, светлый галстук. Вид его располагал к себе, потому что, хотя бы отдалённо, но сочетался с тем, какую форму носят ученики. Этот же вид успокаивал взрослых, которые быстро переводили взгляд с волос на чистое лицо с квадратной челюстью. Их встречала спокойная, ровная, как метрическая система измерения, улыбка.
Эти родители пришли поговорить о том, что происходит в школе, будет педсостав что-то с этим делать или им стоит брать сына в охапку и уходить.
– Это зависит от вашего решения, – прямо ответил Герман, обводя рукой сидящих перед ним, взбитых до состояния нервозности родителей. – Но в первую очередь от состояния вашего ребёнка. Что он чувствует, чего он хочет, что он сам думает обо всём этом.
– Как он может решить? – строго вступилась мать. – Ему ещё ничего непонятно! Он просто находится в этом, и!..
– Злата, – попытался успокоить её муж, – понимаете…
– Герман.
– Да, спасибо, Герман. Мы просто хотим знать, продолжится это или нет. Чего нам ждать? Такие происшествия не проходят просто так ни для кого.
– А как ваш ребёнок реагирует?
Злата показательно вздохнула, будто Герман не слышал материнских слов. И как он только мог не обращать внимания на то, что она говорит о своём ребёнке? Он же ничего не понимает. Абсолютно ничего, и от смерти далёк настолько, что ни один из родителей не говорит «смерть», «самоубийство» или «суицид». Табуированные темы, которые стоят под запретом. Люди живут веки вечные, а потом просто исчезают, оставляя за собой материальный след из свежей могилы и чистенького надгробия.
– Вы ведь знаете, что испытывает ваш ребёнок? – надавил Герман.
– Послушайте!..
– Злата, – вновь остудил её супруг, – мы… не можем сказать, потому что мы сами с этим не встречались, и, честно говоря, сами не знаем, что думать.
– Но, похоже, ваша супруга боится. Если боитесь, обсудите это с ребёнком, узнайте у него, что нужно ему. Возможно, смерти его и не касаются, он продолжает жить в своём мире вместе со своими друзьями, которые отвлекают его от насущных вопросов, такое тоже имеет место быть.
– А вы точно психолог? – врезалась клином Злата, сводя рыжие брови. – Не представляю, чтобы психолог мог так изъясняться.
– Тамара Олеговна, по всей видимости, так не говорила? – Обескураженный вид Златы дал односложный ответ. – Психологи – это люди, а все люди разные, и у каждого психолога своя манера общения, свой способ работы. Я настаиваю на том, чтобы вы обсудили данный вопрос с ребёнком.
– Да он с друзьями захочет остаться, конечно! А что тогда делать, если снова?..
– То есть это в большей степени трогает всё-таки вас, а не его? Боитесь за его психику? Если боитесь, можете договориться. А можете принудить, если будет слишком страшно. Если подумать, то что решает ребёнок? – Герман подтянулся, слишком позволил себе развалиться в кресле, скинув руки на подлокотники. – Пока ему нет восемнадцати, пока он не достиг критического возраста, вы властны над ним.
– Но мы не хотим так поступать! – твёрдо озвучил мысли обоих отец.
– Замечательно. Тогда поговорите и семейным консилиумом решите, что для вас ценнее и важнее. Не забудьте только ему сказать, что вы боитесь и чего вы боитесь, чтобы он понял ваши мотивы, потому что, скорее всего, он увидит только ваше желание оторвать его от коллектива, с которым он вырос.
Родители замолчали, уставились на психолога, а он развёл руками, без слов говоря: «На этом всё, ваши проблемы, за вами их разрешение».
– Но что вы можете сказать о том… о смертях: будут они или нет?
– Я этого сказать не могу: ни облегчить ваши размышления, ни усложнить их. Хотя неопределённость всё делает за меня. Я тут две недели, только сам во всё погрузился. Никаких данных и исследований я вам предложить не могу, но, как показал первый суицид, даже его никто не мог прогнозировать, не говоря о последующих. Причины нам неизвестны, но мы будем внимательнее следить за общим настроением в школе, за атмосферой, за поведением учителей. После суицидов ученики стали чаще говорить о том, как себя ведут учителя, так что у нас есть даже подобная информация. Можно сказать, что и дня не проходит без того, чтобы кто-то не сказал, что учитель позволил себе повысить голос. Думаю, вы понимаете, ученики отстаивают себя.
– Всё-таки учителя себе такое позволяют?
– А ваш ребёнок вам об этом не говорил?
Злата растерянным лицом с бегающими глазами снова выдала ответ раньше, чем произнесла его.
– Если вашего ребёнка это так не касается, то мне кажется, что он живёт вполне себе хорошо. Но это лишь мои фантазии. Возможно, он привык молчать, как сами думаете?
Супруги переглянулись, и сказал муж:
– Он очень активный… И всегда говорит о том, как хочет, чтобы было.
– Здорово. – Герман дал полное согласие. – То есть у нас меньше треволнений по этому поводу?
Супруги снова нова переглянулись, передали друг другу мысленные выводы, похлопали глазами, и Злата выдохнула:
– Я не знаю, как с ним об этом поговорить.
– Поговорить о чём? – Герман прекрасно знал, что скрывается за «этим», но суть была в том, чтобы вывести мать на произнесение «этого» вслух, иначе при ребёнке она тоже будет обходиться обтекаемыми формами, которые тот пропустит мимо ушей.
– Вы знаете.
– Допустим, что не знаю.
Он непреднамеренно ухмыльнулся, чем спровоцировал очередной всплеск агрессии в янтарных глазах. Непреднамеренно или всё-таки специально? Герман держал улыбку, складывал вместе пальцы и отдавал себе полный отчёт в том, что специально.
Злата и пришла за тем, чтобы вытеснить свою злость и разочарование, которые она испытывает, когда думает о том, в каком месте теперь приходится учиться её ребёнку. Это она не может выдержать чужих смертей, это ей трудно с этим смириться. Мозг ребёнка другой, его фокус внимания может быть на совершенно других вещах. Конечно, его это тоже может беспокоить или будет беспокоить через некоторое время, но не говорить с ним об этом вовсе – не выход.
– Хватит придуриваться!
– Злата, никто не придуривается, только вы боитесь озвучить правду. Как вы тогда хотите заговорить с ребёнком, если даже не можете сказать: «Меня пугают суициды»? Попробуйте сказать, наверное, у вас ещё и зажимы в шее? У меня такое бывало, когда я не мог говорить о вещах, которые были доступны всем, но не мне. Попробуйте сказать?
Та взорвалась, но вязко, медленно источая лаву из кратера, без взрывов и летящих горящих камней, как в фильме-катастрофе. Она была тихой, угнетающей катастрофой, которая, в первую очередь, вредила себе, не позволяя чувствам возобладать над собой. Она подорвалась с места, вздёрнула нос и, насупив брови, резко развернулась. Дверью постаралась хлопнуть как можно сильнее.
– Извините, не рассчитал с формулировкой, – признался Герман.
Он не хотел любезничать и формальничать. Злата не была на это настроена, она бы не восприняла ни один из его ответов, а так он постарался вывести её на открытый конфликт, но она предпочла закоптить его в себе, как делала это постоянно, прячась от страшных монстров под одеялом, нежели убегая из комнаты и кидаясь в объятия родителей, которые бы знали о страхе дочери и могли помочь его разрешить, а её защитить: ночником, крепким объятием, рационализацией или исследованием комнаты посреди ночи.
– Вы… – начал супруг Златы. – Вызываете мало доверия.
Герман почти снова развёл руки, но сложил их, вместо этого пожимая плечами.
– Ко взрослым у меня другой подход, нежели к детям.
Этого ответа было недостаточно, не для тех, кто оказался один на один с таким наглым психологом, который позволяет себе говорить, что думает, и раздавать советы направо и налево.
Герман сам по себе знал, почему он так себя ведёт и почему говорит именно так. В его планы не входило кого-то задеть или принизить, ему, как всегда, захотелось решить не только проблему, озвученную человеком, но и подкопать под неё, вырыть туннель и выйти на разрешение того конфликта, который люди опускают, но который показывают бессознательно чуть ли не постоянно или тогда, когда человек находится в стрессе. В такие моменты, даже если человек всё остальное время вёл себя здорово и «нормально», вскрывается то, что на самом деле в нём сидит. Это Герман уже давно научился видеть. Потому что он не только смотрит, а наблюдает: за словами, действиями, мимикой. Иногда всё на поверхности, а иногда он прорывает туннель вместе со своим клиентом до Ламанша.
Открыв программу, он задумался, что даже не спросил имени ребёнка и что родители вполне себе могут направится в кабинет Альберта Рудольфовича, чтобы нажаловаться на то, как по-скотски психолог себя ведёт. Если директор подойдёт, объяснить ситуацию Герман сможет только наедине. Он ждал. Десять минут, полчаса, час. Супруги не вернулись, в кабинет никто не постучал, всё осталось на своих местах.
Следующий день Герман планировал провести в изучении данных об учениках, которые заносила Тамара Олеговна. Тех детей, чьи показатели по тестам превышали норму, Герман пригласил через классруков, но те либо не дошли, либо учителя забыли о том, что их просили. Герман не нагнетал: если человек не приходит, то это тоже своеобразный знак. Может быть, дети понимают своё состояние и нисколько не хотят с ним работать. Чести много. Но по завершению уроков, когда гул за дверью привычно пошёл на убыль, в кабинет постучались.
– Здравствуйте, – неуверенно проговорил девичий голос, а фигура быстро закрыла за собой дверь. Но сделала это тихо, в отличие от Златы.
– Добрый день. – Герман оторвался от экрана и оглядел девочку.
Русые волосы заплетены в две низкие косички. На круглом лице веснушки, краснота и подростковые прыщи. На теле чёрный, официальный комбинезон, на плечах белая вязанная пелерина. В весе, но не критичном. Пышная, но без переизбытка.
Она замерла около двери, держась за потёртую ручку.
– Могу чем-то помочь?
– Я… поговорить хотела.
– Конечно. Закрой, пожалуйста, дверь на замок и проходи. – Движением Тамары Олеговны Герман пригласил ученицу присесть.
То, что у него в кабинете было два кресла для учеников – это не так плохо, как если бы у него было только два стула, без спинок, но отсутствие дивана продолжало смущать, а наличие преграды между ним и учеником – массивный шоколадный стол, потихоньку выводил из себя. Это совсем не соотносилось с тем, в каких условиях раньше Герман пребывал, и вот эти мелочи – они влияли не только на его внутреннее равновесие, но и на ощущения учеников, которые пришли поговорить с ним, а выходило так, будто они пришли к директору или завучу в кабинет и сейчас будут критично разбирать все взлёты и падения, усиленно делая пометки в тетрадях и слушая поучения, которые будут вылетать раз за разом.
– Я – Герман Павлович, – представился он, когда девочка села напротив.
– Я знаю, – кротко ответила она. – Я – Маша.
– А по фамилии?
– Рудько.
Герман быстро забил данные в программу, прошёлся взглядом и увидел, что записей по ней нет. Первый раз. Либо «сложная», как Тамарочка говорила про Лёшку Небесного, и поэтому записей не вела. Но вся сложность, которую могли показать тесты, скрывалась в том, что у Маши немного повышенной уровень агрессии. Недостаточный для того, чтобы трубить о том, что ей нужна срочная консультация у психолога.
– По какому вопросу пришла?
– Да я… – Она смотрела в глаза, а потом опускала свои, глядя то ли на ноги, то ли на руки – из-за стола видно не было. – М-м, вы проводили тесты недавно. Представлялись тогда ещё. Я запомнила. Вы сказали кое-что, и… я подумала, что могу к вам обратиться. – Герман кивнул. – Сказали, что можно прийти со своими проблемами. – За уточнением она потянулась взглядом.
– Конечно, иначе зачем я здесь? В чём заключается твоя проблема?
– Да я… м-м, вы сами сказали, что можно… с этим обратится. И вот я пришла. Я немного злая.
– В каком смысле?
– В прямом, – надула она тонкие губы, – злюсь на всех постоянно. Постоянно меня что-то не устраивает, высказываю… Девочки меня бояться начали. Не постоянно, а вот когда так говорю или делаю.
– А что ты говоришь и делаешь?
Маша потёрла локоть, и тогда Герман больше внимания обратил на её осанку. К спинке кресла девушка не прижималась, сидела, чуть склонившись вперёд, слегка ссутулившись. Одна рука опиралась на колено, вторая трогала голую кожу, которую не прикрывали ни пелерина, ни короткий рукав блузки.
– Всякое говорю, – буркнула она. – Некрасиво говорю, злюсь. А девочкам неприятно, но я это… неспециально даже. Само собой получается. Я даже не замечаю, а когда замечаю… Становится неприятно. Но я даже извиниться за это не могу. Говорю, делаю, а не извиняюсь.
– Стыдно за это?
Маша активно закивала, её косички подпрыгнули.
– А как ты думаешь, что мешает тебе извиниться?
– Не знаю. Если бы знала, м-м, я бы уже поняла, что делать, и извинилась бы. А так получается, что нет. Ничего не понимаю, ничего не знаю, и ещё извиниться не могу… Со мной так никто общаться не будет.
– Боишься, что тебя из-за этого бросят?
Она стиснула зубы, мышцы под кожей окрепли и замерли в одном положении.
– А кто бы такого захотел?
– Не знаю, может, кто-то бы и захотел. Вопрос в том, чего хочешь ты, Маша.
– Да я… просто хочу вести себя нормально. Чтобы без вот этого вот. Без злости, агрессии, а они так и прут из меня, что ничего сделать нельзя. Тупая ещё, не понимаю, когда так говорю, что людей задеваю. Неприятно. И мне, и им… Я точно останусь одна.
– А что ты им говоришь? Как ты это говоришь? Можешь воспроизвести?
Посмотрела, как на идиота, ещё похлеще, чем считала себя саму. С осуждением и толикой презрения.







