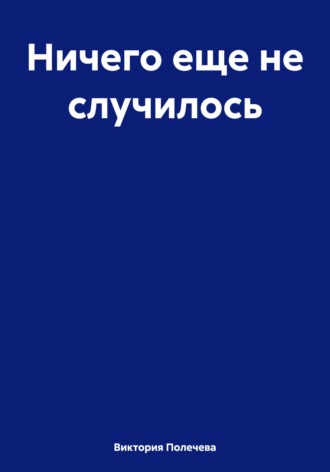
Виктория Полечева
Ничего еще не случилось
Начало (почти конец)
Написать начало сложнее всего. Найти повод, правильно обратиться, задать общий тон, намекнуть на содержимое. Гриша был в этом не силен. Почувствовав, что сворачивает не туда и опять говорит совершенно не о том, он отодвинул от себя листок.
Спас, как обычно, Петрович. Упрямо боднул головой ногу, мурлыкнул, мол, ладно, Гринь, ничего. Завтра допишем. Потом, прихрамывая, побрел на кухню. «И то верно» – Гриша встал из-за стола, со звучным хрустом свел лопатки, размял шею, поморгал, включил радио. Там уже болтали сонные ведущие, значит, перевалило за семь. Выходит, опять просидел всю ночь…
Петрович охрипло мяукнул, и Гриша тут же кинулся на помощь – поднимать и усаживать на лежанку. Петрович жутко осознанным взглядом человека, которому этот мир уже абсолютно понятен, вперился в окно. Поседевший уже, с перебитой лапой и покрытой шрамами мордой, котяра все еще светился благородной красотой – белая манишка, белые чулочки, узор под носом точно гусарские усы. Стар только совсем. Стар и болен.
Снаружи было еще выжидательно темно и тихо. Глубокий синий затопил пространство между домами, чайки взлетели от мусорного бака и белой щебенкой рассыпались где-то вдалеке. Ни машин, ни прохожих, никого.
А в квартире Сурганова пела про воздух, сверху вниз по трубам рокотала вода, свистел закипевший чайник.
Гриша сделал себе чай, налил Петровичу кефира, чокнулся об его блюдце и замер. На «Питер ФМ» заиграло родное.
«На холодной земле стоит город большой» – ком в горле встал моментально. Гриша слушал эту песню с полуулыбкой, с набухающим теплом в груди, чуть покачиваясь. На припеве отошел от подоконника, отпихнул к стене раскладушку и встал в центре комнаты. Шаркая тапками, медленно закружился на месте. Правую руку поднял, развернув ладонь лодочкой, левой будто кого-то обнял. Закрыл глаза.
Мерещилось разное. Душистое, цветастое, масляное, блесткое, но по ощущениям совсем ноябрьское. Уже ушедшее. Насовсем. Кружилось вокруг как тоскливый полиэтиленовый пакет по трассе, постукивало воспоминаниями в виски, щипало за нос, подводило веки к тремоло, высекало…
Песня оборвалась телефонным звонком. Гриша мигом опустил руки и невольно задержал дыхание, будто окунувшись в ледяную воду. Петрович уже растекся по подоконнику и на телефон посмотрел недовольно, мол, разбудила старика, дура.
Гриша тоже знал, кто звонит, поэтому не глядя на экран ответил:
– Да, Свет. Доброе утро.
– Ты чего так рано встаешь, я не понимаю? Ладно, мне на работу, – Света чуть запыхалась, наверное, опять перебегала дорогу. – А ты же типа в отпуске. – Немного подождав ответа, Света продолжила. – Как ты вообще в этом грохоте? Мигрень не усилилась? Может, попросим Даню присмотреть, а ты наконец-то вернешься домой?
Гриша подолбил пальцем по пыльному пятну на стекле. Ответил медленно, уже чуть раздражаясь.
– Я вернусь. Через две недели, как и договаривались. Все хорошо.
– Серый о тебе спрашивает. Ты бы вечером его набрал. Как с футбола его заберу.
– Мы же только вчера с ним говорили.
Гришаа поморщился, увидев перед внутренним взором, как Света поджала губы.
– Ну ладно. Новости есть? Деньги, может, нужны?
– Всего хватает. Новостей нет. У тебя?
– Ой, ладно, Гриш. – Света громко сглотнула. – К черту тебя. Пока.
На экране вспыхнуло «Жена любимая» разговор завершен. Гриша пустым взглядом уставился вдаль.
***
«Тук-турутук-тук – тук тук» – так Гриша не стучал в эту дверь уже почти два года. Подождав ответа пару минут, постучал еще раз, прислушался. Работал телевизор или, кажется, играли в футбол на приставке. Осознав, что впускать его не собираются, Гриша открыл дверь своим ключом.
Сразу ударил в нос тяжелый дух давно не мытого тела, неделю не вынесенного мусора, забытых на трое суток в стиралке вещей. Гриша повесил пуховик на крючок, разулся, пошел на звук.
Комната, освещенная только большим экраном телевизора, стоявшего на полу, была пустынна. Никакой мебели, кроме надувного матраса, на котором и сидел Борис.
– Охренел? – тихо спросил он, не поворачивая головы. На скулах его играли желваки, он продолжал пальцами водить по кнопкам джойстика, хоть игра и была поставлена на паузу.
Гриша сел на пол, затылком оперся на стену, продолжая неотрывно следить за профилем Бориса. Друг за это время немного поплыл – нарисовался второй подбородок, щеки чуть опустились и даже нос как будто бы стал больше.
Заметив открытую бутылку пива, Гриша спросил:
– Еще есть?
– На балконе возьми.
Послушно взяв себе одну бутылку Козела, Гриша вернулся на место. Боря так и не выпустил из рук джойстика. Привыкнув к полумраку, Гриша опять окинул взглядом комнату: на матрасе, на смятой простыни, лежал ноутбук, зарядки и провода, тарелка, измазанная засохшим кетчупом, ворох одежды, книга обложкой вниз. На полу валялись обертки, чеки, три вилки, пластиковый контейнер, стояли две кружки, захватанный стакан и рюмка.
– Сказали, что ты еще летом вернулся.
Боря неопределенно пожал плечами.
– Думал, надолго не задержусь, – Боря отхлебнул пива, склонил голову на бок. – Че пришел-то, Гриш? Че надо?
– Петровичу нужен уход. Сказали, если нормально о нем заботиться, еще несколько лет проживет.
Боря резко обернулся, всего на мгновение посмотрел Грише прямо в глаза, открыв рот и как будто бы даже готовясь что-то сказать, а потом вдруг швырнул джойстик в балконную дверь. Тот отскочил, упал недалеко от вытянутых Гришиных ног. Тот даже не дернулся, твердо продолжил:
– Я не могу его оставить со Светой.
Боря приподнялся на руках, замотал головой, что-то мыча, как будто ребенок, которого просят открыть рот у стоматолога. Потянув за ворот футболки, Боря наконец раздышался, смог говорить:
– А ты куда, блин, собрался, я не пойму? Ты не сделаешь этого со мной, Гриш. Ты этого не сделаешь, не проси.
– Больше мне его оставить некому.
Наконец-то их глаза встретились. Им бы кинуться друг к другу, обниматься, выплакивать общее горе, жалеть друг друга и больше друг друга не терять. Но не стали. Ни один, ни другой не двинулся с места.
– Я привезу его завтра. – Гриша встал, забирая выпитую бутылку с собой, чтобы выкинуть позже. – Приберись. Он не любит беспорядка.
Все остальное
Часть первая
1
Домой хотелось просто невыносимо. Гришка еще раз пригубил дешевого коробочного вина, выплюнул кудряшку конфети, случайно зажеванную вместе с куском пиццы, и стал осторожно выбираться из-за стола. То ли стол шатало, то ли самого Гришку: посуда вдруг поплыла, разгулялась, а один бокал, оскорбленно цыкнув, шлепнулся в тарелку кому-то из девчат. Поднялся визг и хохот, и ароматные, все в жиру и майонезе губы, вдруг присосались к Гришкиной щеке. Он одобрительно кивнул, но все-таки вывернулся из поздравительных объятий и ломанулся в туалет.
Прочищал страдающий желудок долго и мучительно, но потом сунул голову под кран и блаженно улыбнулся: полегчало. Теперь главное незаметно уйти, чтобы никаких вопросов и просьб остаться. А там – слоняться по городу до рассвета: глазеть на оборзевшие сосульки, вымахавшие чуть не до земли, есть только-только выпавший снег, растирать им горячее, обветренное лицо, и, конечно, в тысячный раз любоваться подсвеченными мостами и зданиями.
Оказалось, что пьяный Гришка – совсем глухой. Но понял он это, конечно, только чуть протрезвев. Вытер голову, фыркая, как пес, чьим-то махровым, пахнущим пудрой и женщиной, полотенцем, и замер. За дверью все бурлило, хохотало и праздновало. Билась посуда, орались песни, шатался, кряхтя и стеная, от стремительных танцев старенький сервант. В нем что-то мелко и тревожно дрожало, как умирающая душа.
Раз в несколько минут разрывалась одна хлопушка, а за ней вторая и третья, а потом на залпы стеклянным фейерверком отзывались бокалы. Гришка прикрывал глаза и видел перед собой тот ужасный единственный раз, когда отец его брал с собой на охоту. Стреляли так же радостно, остервенело. Так же праздновали быструю и напрасную птичью смерть.
– Эй, Гриш, все в порядке? – голос Светки осип и продрог. Кажется, это ее порядком следовало бы поинтересоваться.
Гришка еще раз сунул голову под воду и выскочил из туалета, пропуская внутрь позеленевшую пыхтящую Светку. За ней тянулась плотная тошнотворная вонь паленых волос.
– Мне просто ванна нужна, – попыталась оправдаться Светка и тут же рухнула на колени перед унитазом.
Гришка прикрыл дверь, распрямился и сразу поежился: холодная струйка от затылка скользнула за шиворот, пронеслась по позвоночнику, и только потом успокоилась, впитавшись в брюки. Эта ледяная стрела меж лопаток, на миг остановившая сердце, напомнила Гришке о доме. Он пробрел в темную прихожую, стал рыться в куртках. Рылся долго, но своей, темно-синей, с огромным капюшоном и серебряными пуговицами поверх сломанной молнии, не находил. Устав, присел на обувную полку и чуть кривовато улыбнулся, глядя на пестрое празднество, очерченное дверной рамкой. Искры бенгальских огней, блики от потных лиц, скинутые бархатные туфли со сломанным каблучком, оброненная сережка, разбитый бокал, смазанный вихрь сияющих ярких тел. Все это выглядело прекрасно-далеким. Практически несуществующим.
Борька, такой заметный в своей ядрено-рыжей рубашке, вдруг разрушил морок, налетев причинным местом на угол стола и громко выругавшись. «Точно! Стол» – пробормотал Гришка, покривившись. Они тащили его с Борькой из родительской спальни. Там-то куртка и осталась…
Дверь в спальню на всякий случай Гришка открывал медленно, да еще и несколько раз перед этим в нее постучав. Мало ли кому приспичило там запереться в новогоднюю, совершенно новую и чистую, ночь. Не хотелось мешать.
Из спальни потянуло морозом и синевой. Там, на кухне, все было малиново-желтое, легкое, несущееся куда-то с немыслимой скоростью. В подслеповатом коридоре, где Гришка проторчал последние полчаса, царило сероватое и вялое безразличие. А тут вдруг холод. Зима. Казалось – шагнешь через порог, и под ногами заскрипит снег. Гришка протиснулся боком, прикрыл дверь и обхватил себя за плечи. Земфира чистым продрогшим голосом откуда-то тянула: «Мы летели вовсе не держа-а-а-ась, кто же из нас первый упадет?». Горела только настольная лампа. В кресле ворочалось чудище.
– Борис со Светкой так и танцует? – буркнуло оно, сверкнув глазами.
Гришка подошел ближе: ну какое чудище? Девчонка. Страшновата, конечно, да еще и заревана, кажется. Горбатый носище торчит из-под пледа, под неприятно блестящими глазами – стариковские мешки, а губы собраны как у воинственного туземца – вот-вот плюнет через трубочку отравленный дротик.
– Ну? – плюнула только требовательным междометием.
Чувствуя, что ноги опять слабеют, а комната кренится куда-то влево, Гришка совершил запретное действо: упал на кровать Борькиных родителей. Упал, на всякий случай, поперек, головой поближе к чудищу. Земфира наконец-то успокоилась, и Гришка ответил:
– Не танцует. Светка с унитазом обнимается.
Из-под пледа послышалось одобрительное хлюпанье носом.
– Ей еще волосы подпали, кажется.
– И они все сгорели?..
– Нет, конечно, не все. Не злорадствуй.
– А вот хочу и буду. Может я вообще злая.
Гришка сделал пару тюленьих потуг и свесился с кровати вниз головой. В висках застучало, но теперь свет падал на кресло как надо. У чудища все-таки были хорошие глаза. Мягкие. Сразу какие-то родные, беспечные. Ну и что с того, что ревела? Заметно сразу, что больших бед не видела еще, не зачерствела, не выгорела.
– Ты долго пялиться будешь, а? – чудище поерзало, уползло от лампы. Скрылось.
– Не злая ты. Вот и все.
Гришка перекатился через край кровати, бестолково ухнул на пол, и только тут полностью очухался и заметил свою куртку. Он схватил ее небрежно, одной рукой, подскочил на ноги, и вышел из зыбкой комнаты, хлопнув дверью. Прощаться с чудищем он не собирался: был уверен, что они еще встретятся.
На кухне Гришки, ожидаемо, не хватились. Только веселье медленно, но неустанно затухало. Утомились, объелись, да и выпили порядочно. Теперь на ногах оставался один совершенно одетый Борька, который почему-то мыкался от одного товарища к другому и тупо бормотал:
– Ребята, а где же моя майка? Где моя майка?
Просто пожав плечами, Гришка вышел прочь из квартиры.
По городу бродил долго: с удовольствием мерз, глазел на подпитых людей и озверевших от салютов собак, пинал глыбы льда поближе к сугробам, а потом, устав, спускался к ощерившейся ледяными глыбами реке. Почти на каждой гранитной лавке еще праздновали. Гришка просто принимал предложенное шампанское и пил из горла, сжимая закостеневшими пальцами ледяную бутылку. Холодная жидкость валилась в желудок и грела, грела, грела, и идти на этом топливе можно было километры и километры.
Когда над Стрелкой приподнялось заспанное, совершенно неумытое и неготовое к новому дню и новому году, солнце, Гришка поковылял к Невскому, а оттуда – к Фонтанке. В свой двор заходил тихо, а в парадной и вовсе старался не дышать – знал, что в большинстве квартир старики, и они наверняка спят. Малодушно боялся разбудить их не из заботы, а потому, что его рассветное возвращение могло стать очередной новостной повесткой. Гришка терпеть не мог, когда к бабушке подходили соседки и, участливо покачивая головами и посверкивая зубами, охали и ахали о судьбах непутевой молодежи.
Скинув ботинки в прихожей, Гришка сразу пробрался к себе и юркнул под тяжелое одеяло. Пахло забытым на столе кофе, нафталиновыми шариками, бабушкиной помадой, вишневым пирогом. И после мороза, наверное, лучше и быть ничего не могло. В тепле, уюте, в привычной обстановке, Гришка разомлел и поплыл. Но медный ледяной шар в груди продолжал раскачиваться, бередя душу, остужая сердце, замедляя жизнь. Гришка, уже проваливаясь во тьму, в последний раз распахнул глаза, успев выхватить на потолке лепнину, пыльную люстру и мелкого паучка, бесконечно одиноко и свободно летящего куда-то на своей паутине.
Домой хотелось просто невыносимо.
***
– К отцу пойдешь?
Бабушка, в парадной блузке и с крупными жемчужными сережками, сидела у стола с любимой фарфоровой кружечкой и смотрела в окно. Тусклые от времени стекла чуть подрагивали в деревянных рамах, хоть и видно было, что утро выдалось относительно спокойное и ветер не сильный.
Гришка крепче завернулся в одеяло, отвернулся на другой бок. Судя по нещадной, едва выносимой головной боли, поспал он от силы пару часов. Если бабушка встала так рано, значит, на то есть повод.
– Уже ждешь студентов? – пробормотал Гришка, пытаясь вновь открыть глаза и облизывая наждачным языком сухие губы.
Бабушка глотнула кофе, поправила воротник, смахнула со стола несуществующие крошки, но потом все-таки решила ответить.
– Григорий, ну что за вопросы? Конечно, жду. Как и каждое первое января. Или ты решил, что они неожиданно меня забудут? На такое злодейство, кажется, способен только ты.
– Баб, ну не начинай. – Гришка сел на своем раскладном кресле, поискал жадным взглядом стакан с водой и, не найдя его, широко зевнул, не забыв, на счастье, прикрыть ладонью рот. – Я же заранее предупредил тебя, что буду встречать Новый год у Борьки, и ты с этим согласилась. Помнишь?
Бабушка только сглотнула, даже не повернув головы. Она смотрела в окно с таким упорством, что Гришка просто пожал плечами и, все еще не скидывая с себя одеяла, побрел в ванную.
– Уйду в течение часа, не бойся. Они к тебе так рано не ходят.
Гришка присосался губами прямо к крану, пил долго, с наслаждением изнуренного жарой путника. Потом купался, потом чистил зубы, пытаясь хоть как-то уменьшить стойкий запах перегара, который он и сам отлично ощущал. Вот почему бабушка так недовольна: боится, что кто-то из ее бывших учеников учует в квартире почетного преподавателя запах алкоголя. Преподаватели – они же не люди, конечно. Не пьют, не дышат, не радуются жизни. Во всем безупречны и несклоняемы ни к единому общечеловеческому греху. Так думала Изольда Павловна, Гришкина бабушка. И за долгую жизнь никто не смог ее в этом разубедить.
Гришка даже завтракать не стал: быстро натянул куртку, мазнул взглядом по маминому фото на книжной полке, сунул ноги в ботинки и выскочил за дверь.
Не знал, куда идти. К Борьке нельзя – другу и так, наверное, тяжко, зачем будить в такую рань. Можно бы, наверное, и правда к отцу. Мелкие его рано просыпаются. Жаворонки. Дурачье.
Спустившись в колодец, Гришка постоял пару минут, глядя на снег, сыплющий с еще темного, томного неба, обнял себя за плечи. Шепнул куда-то в рассеченную проводами высь «С Новым годом!». Улыбнулся мелко и неловко, как и всегда, и быстро пошел под арку, чтобы не дай бог случайно не пересечься с бабушкиными гостями.
К отцу ехать, все-таки не спешил – нужно было изобрести хоть какие-нибудь подарки. Чертыхнулся, вспомнив, что в Гостинке выходной, побрел в переход и, на счастье, нашел неплохие подарки мелким. Отцу и тете Лизе ничего особенного покупать не стал – хлам в квартире плодить незачем, а на ничтожные сбережения достойного ничего не найдешь. Придется обойтись коробкой конфет и чаем – нейтральной, ничего не значащей чепухой.
Тетя Лиза открыла дверь после первого же звонка и радостно взвизгнула:
– Гришечка! Проходи, проходи!
Гришке папина жена улыбалась всегда по-особенному: широко, натужно, так, словно уголки губ закрепили степлером. И не держал на нее Гришка никогда зла, и уважал ее по-настоящему, а ей вот почему-то всегда рядом с ним было настолько неловко.
– Гришка!
Сашка выскочил из комнаты первым, пнул Гришке новый, сверкающий и скрипящий футбольный мяч, и, не дождавшись, пока Гришка мяч этот отобьет, кинулся обниматься. Поля выбежала следом, в желтом платьице, одна худосочная косичка уже заплетена, с бантиком, а другая половина головы даже не расчесана – желтоватые волосенки спутаны, кое-где блестки видны и елочные иголки.
– Гринечка мой любименький! – на руки сразу прыгнула, целовать начала, носом тереться об пух на Гришкиных щеках.
Гришка кое-как извернулся, прикрыл за своей спиной дверь, ослабил Полину хватку и выудил из рюкзака подарки.
– Офигеть! – завопил Сашка, тут же стянул свитер и принялся натягивать Зенитовскую форму, десятый номер.
Поля своей гуаши тоже обрадовалась. Как не обрадоваться, если там еще два цвета дополнительных – золотой и серебряный и оба с блесточками!
Гришка краем глаза видел папину тень, пошатывающуюся у входа на кухню. Не выходил пока, готовился. Сейчас с силами соберется, на лицо дежурную улыбку натянет, а потом уж можно и с сыном здороваться.
Кое-как отвязавшись от детей, Гришка неловко сунул пакет с чаем и конфетами тете Лизе, а потом вдруг, не ожидая сам от себя, куда-то засобирался.
– Да я так, заскочить, поздравить, – забормотал он, неотрывно глядя на отцовскую тень. – Я на каникулах еще забегу, еще в парк сходим, – это уже Сашке и Поле. Они-то его по-настоящему любят, по-настоящему расстраиваются, когда он уходит. – А сейчас дел столько. Бабушке еще помочь обещал.
Тетя Лиза поохала для приличия, сунула в руку Гришке дежурный праздничный конверт, и сама шагнула поближе к двери, как будто собиралась сбежать. Он ей грустно и понимающе улыбнулся, мол, ну что вы, я пойду сейчас, и, если попросите только, никогда не вернусь, знаете ведь. Понял, что не вовремя. Впрочем, как и всегда.
– Гриш, постой! – папа вдруг размашисто шагнул вперед, словно пытался отсчитать ровно метр. Поймав удивленный Гришкин взгляд, папа тут же смешался и указал рукой на коробки и пакеты, стоявшие у стремянки. – Мы тут это, ремонт небольшой затевать собираемся – мелким детскую делить – да и себе шкаф поменять хотим. Решили тряпье вот разобрать. Может, тебе нужно что? Тут мои вещи, хорошие, глянь. Лизин пакет смотреть не будешь, да? Там шарфов много, но бабушка точно не станет носить…
Тетя Лиза, почему-то покрывшись пунцовыми пятнами, коротко Гришке кивнула и ушла в комнату, плотно прикрыв за собой двери.
Папа, почувствовав явное облегчение, радостно кинулся к одному из пакетов и выудил оттуда свою коричневую кожанку. Он встряхнул ее, еще раз осмотрел, а потом бережно передал в Гришкины руки, как котенка, которого непременно нужно спасти из пожара.
– Ну, беги теперь, сынок, беги.
Гришка спиной открыл дверь, пряча за пазуху конверт и перекидывая куртку через руку, а потом лихо, отчаянно даже, кинулся вниз по лестнице, как будто бы куда-то спешил. Как будто бы где-то и вправду его ждали.


