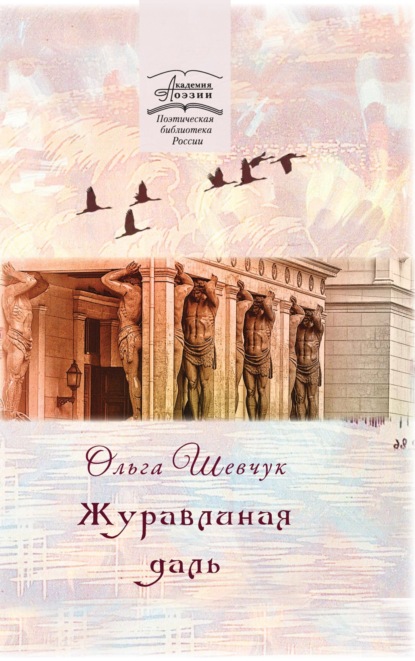Полная версия:
Ольга Викторовна Шевчук Зарубки на сердце
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Ольга Шевчук
Зарубки на сердце

© Шевчук О.В., 2025
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025

Листая дней страницы…
Стихи с ноября 2023 г. по октябрь 2024 г

О мыслях
Порасквасились дорожки тротуарные,И хозяева в преддверии зимыЗаполняют хлебом площади амбарные,Как поэты – новым знанием умы.Ну а ты хоть чем-то новым стал наполненным,Обзавёлся свежей мыслью хоть одной,Только собственной, в ночных раздумьях пойманной?Так блесни оригинальной глубиной!Ценят люди утвержденья, мысли дельные,Ценят то, что и свежо, и глубоко;Если собственными делишься сужденьямиИ при этом планку поднял высоко.1 ноября 2023 г.
Цезарь и Клеопатра
Её внесли к нему, завернутой в ковёр,А он любому бы мечом и горло взрезал.И развернули… молодой слуга был скор,И встрепенулся от увиденного Цезарь.Как восхитительна была она собой!..Кто в дар прислал ему танцовщицу-рабыню?В ладоши хлопнул: извивайся, мол, змеёй,Потешь изяществом своих телесных линий!Подумал Цезарь, что подделка и муляж —Её каменья в диадеме, на запястьях.Но дева молвила: «Не время тешить блажьИ разжигать в сердцах чувствительные страсти.Я тайно здесь! И наши судьбы не просты.Но у тебя есть мощных кораблей эскадра».И удивился римлянин: «Так кто же ты?»«Дочь фараона! Я царица Клеопатра.Мой соправитель и соперник – Птолемей.Властитель! Дай корону двух Египтов в дар мне!Не то убьёт меня коварнейший злодей!Законам чести верен ты, я и подавно.Отправь предателя скорее в мир теней!За помощь буду я по-царски благодарна!»В сомненьях долгих он обдумывал ответ.Вдруг западню ему готовят египтяне?Какой подвох здесь может быть, какой секрет?Но кровь кипит уже! Душа на подвиг тянет!А египтянка и умна, и хороша…Такой трофей – любому воину награда!Как раненая лань, трепещет в нём душа!И никакая не страшит уже засада!Царицу заперли, но ужин принесли.А ночью Цезарю вдруг снится сон тяжёлый:Змея проворно выползает из землиИ жалит, жалит в торс его вспотевший голый!Он с ложа тут же соскочил, и сам не свой,Понять не может, что ему сигналят боги.Позвал провидца. «Цезарь, выслушать изволь.Ты власть умножишь, выбрав южные дороги.Враг будет у тебя, и не один,Но не от женщины жди лютой смерти жало.Она не враг тебе. Не вижу я причин,Чтоб не помочь ей». Сердце Цезаря взыграло.И видит он уже своих побед картины,Велит царицу разбудить, спешит в азарте.И кто предвидеть мог бы, что укус змеиныйДостанется отнюдь не Цезарю, а Клеопатре?!13–28 ноября 2023 г.
Геоглифы Наски
Откуда эти рисунки взялись?Но глянешь – и сердце стынет.Их видишь, только поднявшись ввысьНад перуанской пустыней.Какую тайну издревле хранятЦветов и птиц очертания?Паук – символ смерти, и, значит, свят,А ящер – особь брутальная!Кондор распушил свой могучий хвостИ полон монаршей чести.Какое несёт нам отшельник-дроздИз давних эпох известие?Иные рисунки жизнь рассеклаУже на две половины,Но тайна геоглифов не утекла,Её хранят исполины.Род древних умельцев давно угас,Но труд получил бессмертье.И эти фигуры Наски для нас —Не зов ли тысячелетий?!Мы, глядя на них, напрягаем мозг,Чтоб цепи сорвать сомнений,И строим догадки свои, как мост…О, тень былых поколений!О вечные тайны седых времён!..А может, геоглифы эти —Нам весть о тотемах былых племён,Что жили здесь на планетеВ одной неразрывной связке —Древнейших жителей Наски?А там, где тотемы, – дерзаний суть,Родным божествам поклонение.И может, геоглифы – смелый путьВ веках избежать забвения!14–29 ноября 2023 г.
Ползущие камни
Качает физик мрачно головой,Геодезист разводит молча руки…А странный камень, словно зверь живой,Ползёт, презрев все доводы науки.Ползёт в жару беглец и в холода,Земле на память бегства след даруя.Что движет им? Незримая беда?Тоска по водным незабытым струям?Он помнит клич скучающей волныИ лёгкое мальков прикосновенье…Не зря его собратья-валуныПолзут, как он, из пыльных лет забвенья.Ползут, чтоб обрести родной покой,Родные ощущенья и мечтаньяВ озёр пучине… может быть, в морской…И нет сильней ни веры, ни желанья!Так даму опалённая душаВлечёт туда, где жадно лился праздник,И в ярком оперенье шалашаЖдал встречи верноподданный избранник.И трудно ей понять, что тот шалашУже штормами унесён в безвестность.Нет шалаша! Но есть шальная блажь…Ползёт валун, одолевая местность.Ползёт на праздник свой, на карнавал,Усталость долгих лет превозмогая.А может, Бог Камней его призвал,Пообещав былое счастье рая?..23 ноября 2023 г.
Надежда в ящике Пандоры[1]
Минувшее меня уже не ищет,Минувшее от сердца отлегло.Туманы скрыли память-пепелище,Чтоб мучить, словно призрак, не могло.Но зло нельзя вернуть в Пандоры ящик!И сыплются, как град, его «дары».Минувшее затмилось настоящимИ будущим, что дремлет до поры.«Подарки» от Пандоры вредоносны,Известно это с эллинских времён.И близится год новый – високосный,Спешит он, как к причалу галеон.Земных морей он бороздит просторы,И путь его нигде не запрещён.Но даст ли нам на мир НАДЕЖДУ он,Ту, что осталась в ящике Пандоры?23, 28 ноября 2023 г.
Синь-камень
Ему молились в древние годаКак силе, что спасает от несчастий.И если обходила дом беда,Благодарили камень за участие.Но окрестила церковь камень злом:Долой его! Бесовское творенье!Шли идолы и капища на слом,Цвело в священных рощах запустенье.И в яме Синь-валун был погребён,Для тех, кто верил, став священным кладом.Но выполз в мир из заточенья он,Как будто был Вселенною оправдан.«Коль есть в нём сила, пусть послужит нам», —Мудрейшее решило духовенство,Надумав заложить его под храм,Признав и силу камня, и главенство.Но дерзкий норов показал валун,И при подъёме к выбранной вершинеОн в бездну, к водам озера, шагнулИ в закипевшей утонул пучине.Казалось бы, лежать бы и лежатьСинь-камню, словно якорю, в глубинах,Легендами тихонько обрастать,Забыв о неге солнца, зимах длинных.Но нет! В озёрных сумрачных сетяхКак можно жить уныло-неразлучно?..Вновь захотелось камню слушать птахИ утренней грозы симфоний звучных!..И столь желанье было велико,Что, подчинив стихий озёрных силы,Он выполз, как, вскипая, молокоПолзёт к свободе жадно-импульсивно.И сдюжил камень свой прорыв к земле,К священной, Богом избранной твердыне.Уже никто не намекал о зле,Шли поклониться камню, как святыне.Несли любовь и душу валунуВолхвы, и люд пытливый, и шаманы…Но весть пошла о нём в другие страны,И стал с земли идти он в глубину.Зачем? Лечить свои больные раныИ синий цвет менять на седину?..Но может статься, вглубь идёт валунЗа древней силой матушки-землицы,Заслышав песню вещей Гамаюн,Что над Россией истово кружится.И хочет камень, с предсказанья птицы,Добытой силой с Русью поделиться?..26–28 ноября, 5 декабря 2023 г.
Лестница
Иоанну Лествичнику
Лестница к небесной выси —Зыбкий плод воображенья,Зарожденья светлой мыслиИ деяний отраженье.В ней обилье перекладин,Хрупких, жёстких и массивных,Драгоценных, как палладий,И простых, и эксклюзивных;Из верёвок и каната,Тонких прутьев и металла.И одни блестят агатом,А в других – огонь кинжала.По ступенькам иллюзорнымМы взбираемся всё вышеК небесам зернисто-чёрным…Время лестницу колышет.В кулаках сжимаем крепчеПерекладины родные.Вверх смотреть гораздо легче,Хоть творенья мы земные.Но взбираться всё труднее,Всё прерывистей дыханье.Без сноровки и уменьяВ кровь стереть недолго длани…К Вещей Матери-ВселеннойМы ползём, как цепь букашек,Чтобы вырваться из тлена…О, цена борений наших!..Закусив до крови губы,Рвёмся вверх, как к солнцу колос.Кто ладошкой нам махнул бы?!Лествичник! Подай хоть голос!..28 ноября 2023 г.
Приусадебная роса
Медовая кашка и донник,Дубы в янтаре желудей…Кто русской природы поклонник,Тот любит пруды, лебедей,И в графских имениях вязы,Что грезят далёкой молвой;Там листья нашепчут рассказыО людях, ценимых Москвой.Желтеют кусты молочая,Осот загрустил бобылём…Нахлынет тоска, опечалит,Что тоже врастём в чернозём.И будут нас радовать корниБезгрешных крапивных щедрот.Проскачет зверёк или конник —С травинок роса упадёт,С головок цветов нерасцветших…И тихо шепнёт херувим:«Роса – это слёзы ушедшихКак вечная память живым».24 ноября 2023 г.
Кубок жизни
Нет, не всё из снадобий выпито —Кубок жизни прельщает меня.А на нём чётко имя выбитоИ секунды последнего дня.Знаю, есть ещё время-времечко,Чтоб несделанное совершить.А потом встать ногою в стремечкоИ в безвременье лошадь пустить.Так Булгаков отправил МастераВ мир небес, где покой и уют…Вдруг меня там встретят участливо,Тело новое выбрать дадут?!3 ноября 2023 г.
«Купальница, синеголовник…»
Купальница, синеголовник,Разливы осоки, хвощей…Быть может, былинный разбойникЗдесь прятался в гуще ветвей.А может, томился в оврагеХоть половец, хоть печенег,Чтоб ночью, в предутренней влаге,Коварный устроить набег.И мог различить он по звуку,Визжит ли коса в сенокос,Полёвка шуршит, иль гадюкуНеведомый случай занёс.Он жаждет товара послаще,И нож прожигает ладонь.А избы лишь издали спящи,Там шепчут: «Попробуй-ка троньНаш скот, и молодок, и утварь!И суд над тобой будет скор».И кровью окрасится утро,Свершится людской приговор.Минуют столетья, эпохи,Как прежде, нам дарит земляВсё те же кипрея споло́хи,Всё те же под пашни поля;Озёра, где пики рогозаХранят красоту берегов…Но в сердце всё та же заноза,Что всё не стихает угрозаОт ждущих поживы врагов.31 ноября 2023 г., 29 апреля 2024 г.
Мандарины
Горы в росписи гжели. Брызги охры в садах.Мандарины поспели! Сладкий вкус на губах.Мандариновым маслом пахнет дымка зари.Мандаринам щекастым окна все отвори!Аромат рыжих фруктов заскользит по углам,Он проник бы и в муфты принаряженных дам,Что ценили когда-то гор манящую гжель,Преферансные карты и духи от Шанель.Эти нежные дамы повестей Куприна!..Жизнь дарила им драмы, стригла чёлки весна.К переулкам старинным дам возил экипаж,И любовь к мандаринам продлевала вояж.Мандарины на ветках — как на ёлках шары.С лета ждали кокетки южных здравниц дары.О, курортные девы! Изобилье плодов!Дамы милые, где вы?.. — Круг пополнили вдов…А потом и погосты… А в восточных краяхВновь восторги и тосты: мандарины в садах!24 ноября 2023 г.
Хурма
Подумалось, что это помидоры,Немного странные, но те же форма, цвет.Наверно, у плясуньи АйседорыТаков оттенок был манящих губ,Что заприметил молодой поэт.Порой Есенин был с плясуньей груб(Витал слушок за брачной парой вслед),Но дар танцо́вщицы сводил мужчин с ума,И в ревности изнемогали жёны,Когда она плясала полуобнажённой,Огнём страстей опалена сама…А что же странный плод, что стал загадкойИ мякотью обескуражил сладкой?Как выяснилось, этот плод – хурма.1 декабря 2023 г.
Вьюга
Разгуляйся на равнине,Вьюга голосистая!Ты отнюдь не на чужбине —Наша ты, российская!Так живей спляши в охотку,Как на свадьбе исстари,Огневую дробь-чечётку,Всех гостей неистовей!Да с частушкой-огневушкой,Вовсе не за почести,Заметая снежной стружкойВсё, что вдруг захочется!На морозе голос звонче,Каблучки задиристей.Буйный ветер – пёс твой гончий,У тебя он в милости.Ты в России не холопка —Ей судьбой подарена.Что ж ты пляшешь нынче робко,Барыня-сударыня?Дробью сыпь, чтоб стало знобко,Жарь – чтоб до испарины!6 декабря 2023 г.
Снежные самозванцы
Не потомки печенега,Что пришли из приграничья,Самозванцы – блёстки снега —Ловят сладость губ девичьих.Вместо бархата помадыБлещут льдистые присыпки.Что в ответ безумцам надо,Кроме крошечной улыбки?!Блёстки снега, блёстки смеха,Щёки в чувственном румянце.Для девчонок не помеха,Что растают самозванцы.Горячи красавиц губы,Смех горячий у девчонок!Как ни дороги голубы,Но снежинок век недолог!Губы девичьи как в глянце,Шубы в жемчугах-каменьях.Льнут из снега самозванцы,Чтоб познать любви мгновенья!Зимний снег – он будет после,А сейчас, с дождём – осенний.За ночь вызреет мороз ли,Чтоб признать зимы рожденье?..6, 15 декабря 2023 г.
Таисии Шевчук
Четырнадцать! Мир блещет в красках лучших,И многое уже обретено.А в эти годы будущий поручикСлагал в стихах своё «Бородино».А в эти годы юная певица,Профессию желанную избрав,Уже мечтала покорить столицу,Став гордостью страны – Эдит Пиаф.И ты лелей мечту, стремись к высотам,Чтоб приближал к победе каждый год.Подобна жизнь людей пчелиным сотам —Свои деянья копим мы, как мёд.И труд, что нужно вкладывать в стремленье,Окупится сторицей, и не разУ тех, кто ценит каждое мгновенье,Ведь соты жизни строим мы сейчас.Дерзай! Дороги пред тобой открыты!Дай Бог, чтоб жизнь не строила помех.Пусть ждёт тебя круг творческой элиты!Желанным мёдом станет твой успех!12 января 2024 г.
Авель и Каин
Тёплое поле.Тёлки мычат.Тёмные пониПо небу мчат.Прошлою мысльюСброшенный плащ.В кронах обвислыхКроется плач.А на порогеВ порохе грёзТенью пологойС логова звёздБелый, как аист,Ластится свет.Белый, покаместКаина нет.Завистью томнойТёмных кометВыползли корниВскормленных бед.Авелю грустно,Хрупкой душе…Каин ли хрустнулВдруг в шалаше?10 февраля 2024 г.
На волне духовной
Бывает, гости за вином чудесным,Держа бокалы, на волне духовной,Не сговорившись, вдруг затянут песнюО ямщике… И я пою, и словноСама бреду с конём в сугробах вязких,Хрустящих, словно испечённый хворост.Кругом лишь бури одичалой пляскиДа вдалеке то вой, то словно голос.Но чьи там тени промелькнули? Волчьи?А может, это бег саней ребячьих?Страшны в степи морозной злые ночи,В витках метели – как в сетях рыбачьих.Тяну коня за повод, конь трепещет,Как будто чует рядом волчью стаю.Но вот обрёл он силу, глазом блещет —И под копытом снег пугливо тает!И вскакиваю я в седло с надеждойУмчаться прочь от снежной круговерти,И мы летим, всё убыстряясь, междуВсесильем жизни и безумством смерти.И крови ток бежит с триумфом к сердцу,И волны счастья плещутся под горлом.И вдохновенье отворяет дверцу,И рвётся к звёздам СТИХ в полёте гордом.15 февраля 2024 г.
Главный путь
Моя стреноженная жизнь!Из пут своих ты рвёшься с болью,Чтоб вновь могла я резво жить,Темнице предпочесть приволье.Моя стреноженная жизнь!О, не сдавайся, друг мой верный!Пусть годы крутят виражиВ святой Москве благословенной!О жизнь! Стреноженной не будь!А сбросив цепи – надоели! —Продолжи вновь свой главный путь,Как прежде – к благородной цели!14 марта 2024 г.
Русский берег
Берег мой радостный, берег мой русский!Барынь-берёзок атласные блузки,Беличье царство, зайчата в подлесках,Поле в цветах, как в живых арабесках.Красок рождённых несметное буйство,Русской землицы святое искусство!Берег мой ласковый, берег мой русский,Речки разнеженной певчее русло.Луг земляничный, как в бусинах дивных,С яблонькой, ждущей плодов молодильных,С запахом мёда и мякотью хрусткой…Берег мой ласковый, берег мой русский!14 марта 2024 г.
Вместо концерта…
Погибшим в теракте 22 марта 2024 года
в «Крокус Сити Холл»
1Боль сводит горло… Как трудно дышать…Новое горе серпами нам жать.В праздничном зале, в щемящей веснеВы погибали – от ран и в огне.В форме пятнистой подкралась беда.Выстрелы, выстрел – в крови три ряда.Занавес вспыхнул – гарь злая, отхлынь!Память под дых нам – война и Хатынь.Хуже нет зноя, чем пламени фарс.Пепел с золою – подарок твой, Марс!Пепел Хатыни вновь чертит круги.Топчут святыни России враги.С силой собраться, спасенья искать.Авели, агнцы – вы Господа рать.Выстрелы, выстрел – и рушится твердь.Пламени искры… Ползти бы суметь…Двадцать второе. О, заревный март!Горе – горою! Отмщению – старт!Боже! Где щит? Где карающий меч?!Скорбно дрожит пламя траурных свеч…2«Крокус», «Крокус»»… К Небу пропуск…И летят они, летят!Нет, не в отпуск. Нет, не в отпуск!..Душам нет пути назад.Чёрный дым взмывает к звёздам.Чёрным гноем стал закат.Кто кровавый ад им создал?Кто в мученьях виноват?!Их теперь другие росыБудут нежить по утрам.Но грызут, грызут вопросы,Леденят поджилки нам.Душит, душит едкий запах…Каково им было – там?!Хоть восток, хоть север, запад —Смерть бежала по пятам.Начиняла их – с избытком! —Жалом пуль. Тела, тела…И пылали здесь не свитки —Человечьи факела.«Крокус», «Крокус»»… Нет, не фокус!Больше сотни страшных жертв!Получили к Небу пропуск,А хотели – на концерт…Не взметнулся к ним со сценыПесен радостный мотив…Дочерна сгорели стены,В «Крокус Сити» смерть впустив.3Смерть-чудовище – это пулиСо смещённым в них центром тяжести.Смерть-чудовище – это дым,Что подчас безобидным кажется.Но настигнет – и рухнешь кулем,Будь ты старым иль молодым —Узел жизни навек развяжется.Узел жизни неповторим.Смерть-чудовище – это твари,Что пришли на кровавую ловлю,Чтобы гибли от пуль в пожареЛюди мирные, даже дети.Смерть-чудовище – это ветер,Что ворвался с рухнувшей кровли,И взрывались в натуге стёклаПод панический крик и воплиТех живых, кто не мог спастись…Смерть-чудовище – это высь,Вся в огне, там ждут вертолёта.Ну а он в вышине завис…Как на крышу горящую сесть?..И снимает на видео кто-то…Неужели сгореть им здесь?!Хоть раскинуть руки – и вниз!О Господь, помоги, явись!А пожару всё цвесть и цвесть…Честь задета – Державы честь.4Стоны и крик. И бегущих толпа.Помощь придёт… Но когда же, когда?!Самая страшная в жизни тропа —Это сквозь пламя, сквозь пули враговК выходу мчаться из адских кругов,Мчаться, не зная, куда.«Люди, за мной!» Но неверный посылБыстро толкает в коварный тупик.Кто-то от страха лишается сил,Кто-то орёт: «Двери, дверь завалить!» —И баррикада рождается вмиг.Людям-мишеням так хочется жить!..Кто-то вломиться пытается в дверь.Ужас взлетает убийцей на трон!Дым за поживой ползёт, как питон.Там, где пожары, он кормится всласть.В жуткую панику трудно не впасть:Жрёт беззащитных лютующий зверь!Надо спасаться! Бездействие – враг!Дым валит с ног, удушая людей.Боль одолеть бы и пагубный страх…Крик за стеной: «Есть живые?» – «Мы здесь!» —Рвётся из мрака к спасителям весть.Только суметь бы… ползком, но за ней…Вышибли дверь – и к спасенью… скорей….…Стопку за тех, кто не выжил, налей.5Протянул бы мальчишка руку,Крикнул бы – да голос иссяк,Не под силу издать и звука…Пулей злой продырявил враг.Рядом с мамой лежит мальчонка,Он заплакал бы – если б мог.Вся в крови его рубашонка,И своих он не чует ног.Хоть бы мама скорее встала,Отнесла бы его домой.Но и в ней «сверчки» из металла.На лице – испуг ледяной.И молчит она… Ни словечка…Им из «Крокуса» бы уйти!Взбунтовалось его сердечкоИ как будто велит: «Лети!Есть другие миры и дали,Там не будет обид и зла.Улетай же! Оставь печали,Коль прорезались два крыла».А в расцветших огненных макахПтицы лёгкие к небесамПоднимались! И – взмах за взмахом —Взвился в звёздную высь он сам.Над Землёй метался тревожныйСуматошный сиренный вой…Мир от силы страдал безбожной,В травле мучился целевой.И не раз огнём озарится,Жгучей гарью слепя глаза…Улетали неслышно птицы,Птицы лёгкие, как слеза.Светлый воздух, летя, вкусили,Светлый мир сапфиром блистал…Далеко, в неподкупной сини,Им открылся Божий портал.6Вместо концерта им марш похоронный,«Реквием» Моцарта будет звучать.Кто-то поведает в речи надгробнойВ храмах скорбящей страны возмущённой,Как и за что им пришлось умирать.Кто-то напомнит про пост и седмицу,Кто-то с Хатынью сгоревшей сравнит.Но невозможно с терактом смириться!Нам невозможно с терактом смириться!И оттого сердце жжёт и щемит.Будут туманы вдоль речки селиться,Дождь милосердный светло моросить…Птица, в дозоре летя, накренится,Голод мечтая едой утолить.…А на могилах взойдёт медуница,Тихо взойдёт, чтобы трепетно жить.26 марта – 9 апреля 2024 г.
Птицы с юга
Птицы с юга, привет вам, привет!Вновь вернуться в Москву повезло вам:Ускользнули от вражьих ракетИ для дронов не стали уловом.Расскажите, что слышали вы,Ни минуты в пути не промешкав?Отголоски враждебной молвы?Или клич боевой – нам в поддержку?А ещё – кто с Россией готовЗащищать дорогие устои?И поведайте вести с фронтовИ о духе бойцов, их настрое.Скоро мёдом дохнут клевера,Между рощами вспыхнут беседы.Птицы с юга! Гнездиться пора!А России – ждать в битве победы!9–11 апреля 2024 г.
Олегу Севрюкову
Хвала провидческим стихамИ вашей прозе философской!Вошли в писательский Вы храм —Причём отнюдь не в бутафорский.Прозаик и поэт серьёзный,Талантом Вы награждены.Он словно в битве витязь грозный,Таран для вражеской стены.Чтоб смело покорять высоты,Подарен Вам судьбой карт-бланш.Так создавайте мыслей соты,Путь созидателя – он Ваш!Пусть мысли рвутся в альманахиИ в книги, обретая плоть.Вы, сударь, родились в рубахе!И в Вашем творчества размахеВам в помощь – музы и Господь.13 апреля 2024 г.
Алесю Кожедубу
Портрет, пейзаж – всё чётко здесь,И диалоги интересны.Все знают: Кожедуб АлесьПисатель искренний и честный.Его печатают в Москве,Он сын прекрасной Беларуси.И с музами Алесь в родстве.Не отказать ему во вкусе.Его перо – не пустячок:Сюжет занятен, стиль – легчайший.Читатель пойман на крючокУмом и юмором тончайшим.Читаешь – словно пьёшь вино,И жажда тут неистребима.Не зря Алесю сужденоИзвестным быть и стать любимым.Он на подъёме, он творит,Полно задумок и сюжетов.Он с миром сердцем говорит,И как же чутко сердце это!Давай поверим…
Давай поверим в зов весенний —Дать силе духа всплеск он может,Даря блаженство озарений,Нас сделать зорче и моложе.Давай поверим: всё доступно,Когда настрой у сердца верный.В стремлении к удаче крупнойНет снадобья благословенней.Давай поверим, что желаньяПоводырём стать снова могутК той жизни, где страстей метаньеИ упоенье от дерзанья,И свежих мыслей клокотанье,И взлёт, и свет молитвы к Богу,И – новой явью обладанье!..13 апреля 2024 г.
О фантазиях
Всё кончилось, начала не дождавшись.Пора признать: воображенье – враг.Да здравствуют благой судьбы демарши!И ветры пусть лобзают белый флаг!Нагрезила любовь я, намечтала,Томясь у одиночества в плену.Ах, мне бы сердце, сердце из металла!И вырвать из души любви струну!О плод фантазий! Вот беда-чертовка,Что надо гнать без промедленья прочь,Чтоб снова иллюзорным миром ловкоНе поманила в пагубную ночь!И душу не трепала бы напрасно.Издревле знают: лиха не буди!Фантазии порой как нож опасны…Но разве люди над стихией властны?И светом чувств, желанных и прекрасных,Наполнит ли пустой металл в груди?14 апреля 2024 г.
«А щёки к вечеру устало-впалые…»
А щёки к вечеру устало-впалые,А небо грустное, к ночи остывшее.Зрачки фонарные блеснут опалами,И встречи вспомнятся с друзьями бывшими.С друзьями давними, почти забытыми,А было времечко – казались вечными.Но в дни печальные, с грозой-событьями,Нам стали дороги другие встречные.Не знаем, будут ли они случайными,А может, станем мы умней, покладистей,Но верить хочется – и всё отчаянней, —Что проторим мы путь к духовным кладезям,Простившись с бедами, тоской-печалями…14 апреля 2024 г.
Забытый писатель
Дровишек лишь хватило на растопку,Но вызвать жар в печи им не по силам.И холод мигом проявил сноровкуМартышки, завладевшей апельсином.У всяких бед один и тот же почерк:Когда ты сир и нищ, и занедужил,Ты в бренном мире никому не нужен!Но гордость всё равно в груди клокочет.Ведь был почёт, и книги, гонорары…О где ты, благодарная эпоха!Героям новых дней трубят фанфары —Дельцам и балаганным скоморохам.Такая явь. Таков венец терновый —Нежданный, незаслуженный, бесславный.Но есть надежда – станут книги сноваОпорой духа, словно герб державный!Униженный судьбой, почти распятый,Христа всем сердцем ощутив как брата,Он и забытый верит: всё вернётся.Народ прозреет, уяснив когда-то,Что для России – истинное солнце.15 апреля 2024 г.
О войнах и банкирах
Война для банкиров – родная мамаша,Не им превращаться в кровавую кашу,Не им обмораживать пальцы и уши,И ноги терять, и болящие души…Война для банкиров – синоним наживы,Там ради доходов рвут сердце и жилы.Сметут конкурента, в ад бросят державы —И всё ради долларов сладкой отравы…Война для банкиров – как бондарю снасти.И жаждут дельцы нескончаемой власти.И нет им преград перед всяким злодейством.Губитель народов – банкиров семейство…15 апреля, 1 августа 2024 г.