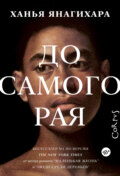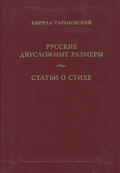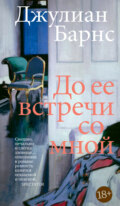Виктор Сонькин
Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу
В первом веке до н. э., самом бурном в римской истории – по крайней мере, с точки зрения внутриполитической борьбы, – весталки довольно активно действовали в этом жестоком и, казалось бы, насквозь мужском мире. В 63 году весталка Лициния уступила свое почетное место на гладиаторских играх кузену, Лицинию Мурене. Поскольку Мурена претендовал на консульство следующего года, этот жест трудно было истолковать иначе как поддержку конкретного кандидата (его семьей или бессмертными богами – в зависимости от точки зрения). В этом же году римские матроны собирались на празднества Доброй Богини в доме действующего консула, Цицерона. В ходе ритуала горящий на алтаре огонь был, как положено, потушен. Внезапно он вспыхнул вновь; присутствующие на церемонии весталки единодушно заключили, что это добрый знак, и велели хозяйке дома сообщить мужу, что принятое им решение следует немедленно исполнить, ибо богиня зажгла огонь ради его славы и процветания. Учитывая, что одна из весталок приходилась единоутробной сестрой жене Цицерона, мы вряд ли погрешим против истины, предположив, что произошедшее чудо было заранее подготовленным пиротехническим фокусом, наподобие ежегодного пасхального схождения Благодатного огня в Иерусалиме.
Наконец, в следующем, 62-м году весталки снова выступили на стороне Цицерона и его партии: коллегия жрецов и весталок должна была принять решение о виновности Клодия, молодого политикана, который в женской одежде пробрался в дом Юлия Цезаря во время проходящих там обрядов в честь Доброй Богини. Эти обряды были строжайшим образом запрещены для мужчин – до такой степени, что даже имя богини не дошло до нас («Добрая Богиня», Bona Dea, – это лишь позволенный мужчинам эвфемизм). Весталки признали Клодия виновным и препоручили специальному трибуналу вынести окончательный приговор; судьи были подкуплены и, несмотря на страстные ругательства Цицерона, оправдали Клодия.
В 73 году до н. э. весталка Лициния была обвинена в любовной связи со своим кузеном Марком Лицинием Крассом. Красс сумел спасти родственницу, убедив общественность, что он всего лишь собирался купить у нее кое-какую недвижимость. Дурная репутация Красса в данном случае сработала в его пользу. Он содержал частные пожарные команды, которые вместе с ним выезжали на многочисленные римские пожары; там Красс предлагал безутешному владельцу горящей собственности купить у него дом за бесценок. Если хозяин отказывался, Красс со своими молодцами ретировался; если соглашался, то пожарные спешно тушили новый дом своего изобретательного работодателя. О чем еще такой человек мог говорить с весталкой?
Мы подошли к самому известному и самому зловещему элементу культа Весты – девственности весталок и наказанию за ее потерю. Как мы помним, девочек избирали в весталки до достижения ими половой зрелости, а минимальный срок службы составлял тридцать лет. На протяжении служения весталка должна была оставаться ритуально чистой, в том числе сексуально; это обеспечивало ее статус девы, virgo, который позволял ей иметь дело со священным огнем Весты и прочими святынями. Любое нарушение ритуала было чревато нарушением хрупкого равновесия между миром людей и миром богов, известного как pax deorum. Поэтому за провинность весталкам грозили очистительные жертвы и наказания, а самое страшное прегрешение, утрата невинности, каралось смертью.
Римляне избегали приводить в исполнение смертные приговоры, особенно связанные с нечестием по отношению к богам; так, отцеубийц зашивали в мешок вместе с собакой, обезьяной и петухом и бросали в Тибр – технически смерть преступника оставалась прерогативой богов. В случае с весталками, виновными в incestum (это слово означало нарушение религиозных обетов или сексуальную нечистоту, частное значение «кровосмешение» появилось позже), казнь была еще более опосредованной. Осужденную весталку несли в похоронных дрогах через весь город к Коллинским воротам, к месту, называемому campus sceleratus («проклятое поле»; место это находилось примерно на пересечении нынешних улиц Венти Сеттембре и Гойто, где сейчас министерство финансов). Весталку провожали родственники и жрецы; на «проклятом поле» несчастная спускалась в заранее приготовленную подземную каморку, где для нее оставляли постель, светильник, масло, хлеб, воду и молоко. После этого дыру в земле замуровывали так, чтобы не оставалось следа. Любовника весталки, если он был известен, публично забивали до смерти ивовыми прутьями.
За всю тысячелетнюю историю существования культа случаев погребения весталок было не очень много, и почти все они приходились на времена общественных смут. Так, например, две весталки, Опимия и Флорония, были обвинены в incestum и осуждены за это в 216 году до н. э., вскоре после сокрушительного поражения римской армии при Каннах. Это был момент, когда безопасность и само существование римского государства оказались под угрозой и в Риме стоял страшный, непрерывный женский вопль: в каждом доме оплакивали павших. Осуждение весталок имело в этой ситуации двойное значение: оправдаться перед богами за нечестие (возможно, мнимое) и припугнуть римских женщин, которые могли своими воплями окончательно деморализовать мужей, братьев и сыновей.

Весталка Тукция с решетом. Гравюра xix века.
Хотя решение по делу о виновности весталки мало зависело от обвиняемой – обычные для римского права понятия в данном случае не действовали, – некоторым удавалось оправдаться. Летописцы, конечно, особенно увлеченно пересказывали те истории, в которых усматривали божественное вмешательство; так, весталка Тукция доказала свою невинность тем, что донесла воду из Тибра до Форума в решете (поэтому на возрожденческих картинах решето – символ целомудрия; с ним изображали, в частности, английскую королеву Елизавету I). Весталка Эмилия положила свои одежды на очаг в храме, и потухшие угли вдруг снова запылали. Бывали случаи менее фантастические – например, весталку Постумию обвинили в incestum за бойкий нрав и манеру одеваться; ей удалось оправдаться, но верховный жрец тем не менее сделал ей строгое взыскание и приказал впредь стремиться во внешности и поведении к святости, а не фривольности.
Минимальный срок полномочий весталки, как мы уже сказали, составлял тридцать лет, которые делились на десять лет ученичества, десять лет служения и десять лет наставничества. В принципе, после этого весталка имела право покинуть коллегию и выйти замуж; в 36–40 лет это была женщина даже по римским понятиям не старая. Тем не менее у тех немногих, кто на это отваживался, частная жизнь по понятным причинам не складывалась удачно. Большинство весталок предпочитали оставаться жрицами пожизненно.
В императорский период политическая жизнь Рима постепенно преобразовалась из публичной в кулуарную. Соответственно изменился и статус весталок: они оказались тесно связаны с культом императора и нередко выступали как хранительницы особо важных государственных документов. Мимолетное свидетельство Светония в биографии императора Домициана позволяет предположить, что в i веке н. э. обет целомудрия не соблюдался строго и «добрые императоры» (Веспасиан и Тит) смотрели на это сквозь пальцы. Это тоже можно понять: образованные и независимые весталки, скорее всего, считали свое целомудрие пережитком архаичного прошлого и не относились к нему серьезно. Домициан не одобрил попустительство отца и брата, и при нем за incestum были осуждены четыре весталки.
С христианизацией Рима деятельность весталок становилась все более формальной, пока в конце iv века император Феодосий не запретил языческие культы. В 394 году коллегия весталок была распущена, а здания и имущество отошли в собственность императорского дома.
Храм Весты и Дом весталок
Вся деятельность весталок была сконцентрирована на небольшом пространстве возле Священной дороги. Там находился маленький, круглый храм Весты, своей формой отсылающий к древнейшим хижинам отцов-основателей Рима. Говорят, что и у храма, как у тех хижин, когда-то была соломенная крыша. В исторические времена он был украшен ионическими колоннами, между которыми стояли узорные решетки; в верхней части конической крыши находилось отверстие (как в Пантеоне), откуда выходил дым Вестиного очага; вероятно, над дыркой было какое-то металлическое сооружение, защищающее внутренность храма от непогоды. Сохранилось несколько монет, изображающих, по всей видимости, этот храм; многие показывают скульптуру на крыше, некоторые – курульное кресло внутри храма, что не очень достоверно (курульное кресло – это невысокое сиденье, на котором имели право сидеть только чиновники, облеченные силовыми полномочиями, – например, консул или диктатор). Во флорентийской галерее Уффици есть рельеф i века н. э., который тоже, скорее всего, изображает храм Весты. На этом рельефе хорошо видны решетки между колоннами и дерево, растущее за храмом.

Храм Весты. Реконструкция.
От храма Весты сохранился только круглый бетонный подиум, блоки туфа и куски колонн. До возрожденческой строительной лихорадки xvi века все это было облицовано мрамором. Некоторые фрагменты оказались позже встроены в разные церкви, включая собор Святого Петра; многое пережгли на известь. Руины этого древнейшего храма парадоксальным образом относятся к позднеимператорской эпохе конца ii – начала iii века н. э., когда императрица Юлия Домна спонсировала реконструкцию храма после очередного пожара. В какой-то момент между позднереспубликанским периодом (к которому относятся изображения на монетах и рельефы) и последней реконструкцией ионические колонны были заменены на коринфские. Впрочем, вполне возможно, что мозаичный пол и ямы для хранения пепла сохранились с более ранних времен.
Некоторые случайно уцелевшие фрагменты храма были найдены на Форуме во время раскопок конца xix века, и в 1930 году небольшая часть внешнего периметра храма была восстановлена. Реконструкция оказалась удачной; во всяком случае, этот памятник красуется на многих открытках и календарях. Долгое время считалось, что на Палатине находился еще один храм Весты, но сейчас мало кто разделяет эту точку зрения; дело в том, что когда император Август был избран верховным жрецом, он по обычаю должен был переехать на Форум, в так называемый Domus Publica; между тем он не захотел покидать свою палатинскую резиденцию, но отдал ее часть государству и превратил в святилище Весты, а Domus Publica отдал весталкам. При этом палатинское святилище не было храмом в прямом смысле слова. К слову сказать, обычным храмом не был и храм Весты, потому что там не было традиционной статуи божества – только символический огонь. Так называемый «храм Весты» на берегу Тибра, о котором мы расскажем в седьмой главе, к Весте точно не имеет никакого отношения – просто любой круглый храм долгое время по аналогии считали посвященным Весте.

Дом весталок. Рисунок xix века.
Рядом с храмом находится довольно большой прямоугольный участок, который когда-то занимал Дом весталок, Atrium Vestae. С четырех сторон его были проложены улицы – Sacra Via («священная»), Nova Via («новая»), Vicus Vestae («переулок Весты»); название четвертой неизвестно. Нынешнее расположение и план зда ния возникли после великого пожара при Нероне в 64 году н. э.; и храм, и Дом весталок были перестроены в соответствии со сложившейся к тому времени общей восточно-западной ориентацией построек на Форуме. Комплекс снова перестраивали при Траяне и при Септимии Севере. Следы более ранних полов и стен видны на нижнем уровне, если зайти через главный вход.
Дом весталок по конструкции был больше всего похож на аристократическую резиденцию, жилище богатого семейства (domus), только очень большое. Жилые комнаты окружали открытый двор – атриум – с бассейнами для сбора дождевой воды. В центре восточного крыла располагалась большая комната с тремя комнатами поменьше с трех сторон от нее. Это, скорее всего, не «квартиры» весталок – дом так велик, что у каждой из жриц были свои обширные покои, в том числе помещения для слуг и рабов, – но, возможно, какое-то церемониальное место, например общая трапезная. В республиканские времена на внешней стороне дома находились магазины, доходы от которых шли в бюджет весталок.

Вдоль северной стены двора расставлены статуи ii – iv веков н. э., которые раскопали здесь в 1880-е годы. Сочетание статуй и постаментов с надписями произвольное. Каждая скульптура изображает одну из старших весталок (Virgo Vestalis Maxima), на постаментах – благодарственные надписи. Одна из таких надписей датируется 364 годом н. э.; имя весталки на ней стерто, едва виднеется только первая буква, c. Возможно, на этом постаменте когда-то стояла статуя весталки Клавдии. Поэт Пруденций в гимне св. Лаврентию упоминает, что одна из жриц самого древнего римского культа перешла в христианство:
Тесьмою жрец увитый встарь
Уж идет к крестну знаменью,
Уже, Лаврентий, в твой чертог
Весталка входит Клавдия.[16]
За вероотступничество немногие упорствующие язычники, которые в то время еще оставались в Риме, могли стереть имя Клавдии с постамента. К концу iv века н. э. язычество, включая культ Весты, было окончательно объявлено вне закона, и Дом весталок перешел в ведение сначала императорской, а потом папской администрации.
К этому комплексу когда-то относилась и священная роща Весты; это в ней перед нашествием галлов, говорят, раздавался таинственный предупреждающий голос, названный впоследствии богом по имени Aius Locutius («Ай Говорящий»). Долгое время считали, что алтарь с надписью «Будь ты бог или богиня», найденный на Палатине в 1820 году, посвящен именно ему; сейчас думают, что это восстановленный алтарь какого-то бога, которого уже никто не помнил, но из уважения продолжали чтить.
«Храм Ромула»
Вернувшись на Священную дорогу, мы пройдем мимо базилики святых Косьмы и Дамиана, построенной на основе позднеантичного храма. Этот небольшой храм обычно считают тем самым зданием, которое воздвиг император Максенций в честь своего умершего сына-подростка Валерия Ромула. Но такое отождествление условно: монеты свидетельствуют, что Максенций построил храм примерно такого вида, с куполообразной крышей и фигурами обнаженных юношей, но твердо связать его с постройкой на Священной дороге невозможно из-за сложностей атрибуции на основании одних лишь монет. Не исключено, что здание на самом деле было так называемым «святилищем Города» (urbis fanum), известным из литературных источников. Храм строился в начале iv века почти как из деталей детского конструктора: большую часть его архитектурных украшений составляли так называемые «трофеи» (spolia), фрагменты более ранних зданий. Это относится к двум колоннам зеленого мрамора, их капителям (взятым с других колонн), бронзовым дверям и их мраморному обрамлению (из построек эпохи императоров Северов, начала iii века) и верхнему карнизу, который в основном сложен из блоков эпохи Августа.
В 527 году, получив от остроготского короля Теодориха в дар несколько зданий на Священной дороге, папа Феликс IV посвятил «храм Ромула» братьям-мученикам Косьме и Дамиану – в противовес стоящему неподалеку храму языческих близнецов Кастора и Поллукса.

Церковь святых Косьмы и Дамиана. Рисунок xix века.
Братья считались покровителями врачей, хирургов, коновалов и аптекарей; выбор места для их церкви был весьма уместен, потому что, по легенде, именно в этом здании, которое служило библиотекой прилегающего храма Мира, читал лекции знаменитый Гален – пожалуй, главный медицинский авторитет античности после Гиппократа. На протяжении многих столетий римские врачи собирались на «профсоюзные» сборища именно здесь. Соседняя Сан-Лоренцо-ин-Миранда тоже с xv века принадлежала коллегии degli speziali – фармацевтов и травников, – и эти благородные специалисты по сей день собираются в небольшой пристройке, принадлежащей их гильдии.
Косьма и Дамиан были врачами родом из Киликии. Они работали в городе Эгее (ныне Аяз на юге Турции) и не брали платы за свои труды (в христианской традиции святые, отказывающиеся от материальных благ, называются анаргюрой, «бессребреники»). Легенда приписывает им уникальное достижение в области трансплантологии: пациенту, который из-за язвы рисковал лишиться ноги, они пересадили ногу только что умершего эфиопа (цветовой контраст между черной ногой эфиопа и белым телом исцеленного эффектно использовался художниками, изображавшими чудо Косьмы и Дамиана). Врачебное мастерство не спасло их от гонений времен Диоклетиана: отказавшись отречься от своей веры, братья были распяты, побиты камнями, расстреляны из луков и, наконец, обезглавлены. Их имена на русской почве превратились в «Кузьму» и «Демьяна», но сохранились в греческой огласовке в фамилии «Космодемьянский».
Базилика Максенция
Рядом с церковью святых Косьмы и Дамиана стоят развалины базилики. По сей день, даже в виде руин, это крупнейшее сооружение Форума и один из самых впечатляющих древних памятников Рима. Толщина гигантских стен из облицованного кирпичом бетона в некоторых местах доходит до шести метров. Базилику начал строить император Максенций, а закончил его удачливый соперник император Константин (к их противостоянию у Мульвиева моста близ Рима мы вернемся в шестой главе). Напомним, что базилика в античные времена была не церковью, а местом для торговли, сделок, крючкотворства и досуга. Раньше такие сводчатые постройки использовались только при строительстве бань. Статуи богов, впрочем, в нишах стояли, а в западной апсиде установили гигантскую, в пять человеческих размеров, сидячую акролитическую статую Константина. Голова с обращенным к небу взглядом кажется несколько идеализированной (хотя, скорее всего, какое-то портретное сходство с императором было выдержано), а вот рука с вытянутым указательным пальцем и мозолистые ноги – наоборот, весьма реалистичны. Сейчас части императорского тела выставлены во внутреннем портике Палаццо деи Консерватори Капитолийских музеев, и без них не обходится ни один путеводитель и почти ни один фильм, посвященный городу Риму.
Базилику (которую в разных источниках называют базиликой Максенция – по тому, кто начал ее строить, базиликой Константина – по тому, кто закончил, и просто Новой базиликой – чтобы не путать с Юлиевой и Эмилиевой) стали расхищать еще в античности; спустя пару веков после ее постройки никто уже не помнил, что это за здание (в vi веке ее называли «Храмом Ромы», богини города Рима). В vii веке папа Гонорий I использовал ее бронзовую кровлю для базилики Святого Петра, которая была заложена еще при Константине на том месте, где сейчас стоит «новая» базилика Святого Петра работы Микеланджело. В xi веке часть здания обрушилась при землетрясении.
Существует курьезная христианская сказка, вошедшая в сверхпопулярный сборник средневековых апокрифов «Золотая легенда». По этой версии, базилика Константина обрушилась в день рождества Христова вместе с (якобы) находившейся там гигантской статуей Ромула. Даже если закрыть глаза на анахронизм размахом в триста лет, легенда, прямо скажем, неудачно выбирает мишень для божественной мести: уж если кому христиане и были обязаны будущим мировым господством, так это Константину. Тем не менее легенда оказалась вполне живучей. На многих картинах, изображающих Рождество, вместо яслей – развалины языческого храма, иногда даже смутно напоминающие базилику Максенция. Это – отголоски той самой легенды.
В 1613 году папа Павел v перенес единственную сохранившуюся колонну базилики на площадь перед церковью Санта-Мария-Маджоре. Там ее можно увидеть и сегодня; на вершине стоит статуя девы Марии работы Гийома Бертело и Орацио Чензоре.
При Муссолини на сохранившейся северной стене базилики, которая выходит на проложенную тогда же помпезную улицу Фори Империали, поместили карты, изображающие территориальную экспансию Римской империи. В 1960 году в древнем здании провели олимпийские соревнования по борьбе.

Базилика Максенция. Деталь гравюры Дж.-Б. Пиранези.
Акролитическими назывались статуи, созданные по хитрой античной технологии; слово переводится с греческого как «с каменными конечностями». Это означает, что только голова, руки и ноги статуи высекались из мрамора – туловище делалось из дерева и маскировалось либо металлом, либо драпировкой. Металл, естественно, растащили в средние века, но мраморные конечности в xv веке нашлись.