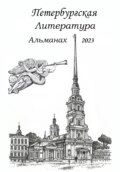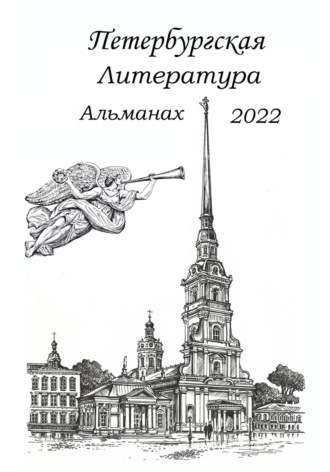
Григорий Демидовцев
Петербургская литература. Альманах 2022
– Да где же мой Трофимушка? – простонала Наталья, вытирая уставшие глаза от накатившей влаги. Страшно было даже представить, что с ним может случиться. Чуть не каждый день расстрелы в урочище Сенная площадь. Там и пленных, и партизан, и просто неугодных… А из гетто всех евреев, и тех, что из Западной, из Польши в тридцать девятом к нам перебрались, ещё в декабре положили. Даже Фриду Львовну, врача. Она ж деток лечила! Когда мужа на фронт провожала, целовала его, плакала, заливалась слезами, а он нежно так её обнимал, жалел, просил уехать на Волгу. Не послушала. Не верила, что без вины убить могут. «Ну, я бы удрала! Ребёночка с собой и бежать. Даже проволоки колючей не было. Почему же она?» – недоумевала, возмущалась, отгоняя мысли о безвестности мужа.
Прислонилась к стене и, закрыв глаза, тихонько, боясь разбудить детей и старуху, взвыла, будто предчувствуя беду. Отозвалась, заворочалась в люльке Галинка, еле слышно всхлипнула во сне. Наталья спохватилась, наощупь отыскала хлебную соску, обмакнула в чугунок с тёплой водичкой. Прислушалась: сосёт смачно, – и осадила себя: « Да мало ли где Трофим? Не впервой же!».
Качнула колыбель и под мерный скрип не заметила, как опустились веки. Мысли путались, перед глазами вставали то измученные пленные, протягивающие тощие, костлявые руки к лепёшкам, которые она, озираясь на охрану, протягивала через проволочное заграждение. То укоризненно кивал побелевшей головой Тимофей Медведев, будто спрашивал: «Что ж не спасли жену мою? Она же свояченица вам!» – «Пытались, Техан! Пока держали её немцы в сарае возле магазина, мужики вызволить решились да не успели…», – оправдывалась Наталья, леденея от потустороннего печального взгляда Антонины Медведевой, казнённой всё в том же проклятом декабре сорок первого. «Прости, прости!» – беззвучно шевелились губы, а воздух наполнился дымом и тошнотворным запахом горящей плоти. Взметнулся высоко над деревней огонь, жадно пожирающий обугленное тело Разувалова – жуткая смерть за помощь партизанам. Где-то далеко голосила его обезумевшая от ужаса дочка, которую спрятали в своей хате Сепачёвы. А на площади возле адского кострища прыгали-играли ничего не понимающие дети. Наталья, онемевшая, с широко открытыми глазами, отразившими покачнувшееся багровое небо, стояла, не шелохнувшись, словно соляной столб – Лотова жена, обернувшаяся посмотреть на сгорающий город….
«И-и-го-го!», – вдруг заржала невесть откуда взявшаяся кобылица, молодая, упитанная, шерсть лоснится, седла нет, никто с ней управиться не может, а Наталья смело влетает на её мощную спину и скачет к дымящемуся голубыми туманами озеру. И кобылица слушается, признаёт в ней хозяйку, чувствует решительный характер, внутреннюю уверенную силу.
Проснулась от резкого стука в окно. В хату бесцеремонно ввалились полицаи – Павлюченко и Лебедев. Автоматы на изготовке:
– У хате хто? – рявкнул рыжий Лебедев.
Наталья бросилась навстречу, умоляюще зашептала:
– Тихо, тихо, ради Христа! Пожалуйста! Дети ж у меня маленькие. Галечке годика нет. Да старая на печи.
– Чужих няма? – убавил голос полицай, не сводя глаз с Натальи, уж больно хороша она ему показалась.
– Какие чужие? Упаси Господи! Самим есть нечего, проверьте, в хате – шаром покати!
Павлюченко стволом карабина откинул занавеску, заглянул на печь. Ефросинья Фёдоровна, слабо соображая спросонья, испуганно вытаращилась на него по-старчески светлыми глазами.
Лебедев, удобно устраиваясь за столом, широко зевнул, обнажая крупные зубы:
– Хозяйка, мы посидим трошачки. Малость продрогли на улице, – и, растянув губы в наглой усмешке, предложил: – Можа, и ты с нами рядышком? Согреешь?
Наталья метнулась к люльке, словно хотела спрятаться, будто ребёнок мог её защитить.
– Погрейтесь, милости просим! Только не разбудите малую, раскричится, так всю хату поднимет, – прошептала, набрасывая на рубаху мужнин пиджак, тщательно застегиваясь на все пуговицы.
Полицаи молча переглянулись, Лебедев хмыкнул, цинично скривив рот. Павлюченко заиграл пальцами по столу:
– С партизанами связь имеешь?
– Что? – Наталья побледнела, опустилась на краешек кровати. – Как подумать могли? Дети же у меня, старуха…
– Новикова к тебе заходила?
«Господи, соврать или правду сказать?», – растерялась, бросилась к печке, вытащила чугун с запаренным бураком:
– Вот, детям гостинец передала, из деревни. Голодные же мои…
Лебедев живо приподнялся, заглянул в чугун и, брезгливо отвернув нос, позлорадствовал:
– Мужик ейный, Новиков, с партизанами. Точно знаем. А бабу с дитём вместе взяли. Не будет тебе больше гостинцев! – загоготал громко. – Вечером свели в урочище и – капут!
Галинка проснулась, маленькое личико сморщилось, вот-вот заплачет. Наталья подхватила ребёнка на руки, принялась качать-приговаривать, только бы не заметили полицаи, как переменилась она в лице, как смертно заколотилось сердце, как задрожали ноги:
– Ай, разбудили дядьки девочку, ох, разбудили маленькую, а ей же ещё спатьки-спать, будем деточку качать…
– Севостьянов-то дружком был Новикову, – Павлюченко впился в Наталью глазами.
– Ай-люли, люли, люли, прилетели голуби… Скажете тоже – дружок! Да когда ж такое было? – Она нервно вздохнула: – Сели в изголовьице, спите на здоровьице… Ничего мы не знаем… Ни с кем мы не водимся… Севостьянов поселковую баню рубит, там и днюет и ночует… Ай-люли, люли, люли, прилетели голуби…
– Взяли твоего Савостьянова сегодня. В жандармерии. В Сурмино. Там разберутся, какую он баню рубит! – съязвил Лебедев.
Ефросинья Фёдоровна вскрикнула и, неловко скатившись с печи, бухнулась в ноги полицейским, взвыла:
– Злітуйцеся, паны! Не вінаваты мой сыночак! Ні ў чым не вінаваты Трахімушка. Ён жа карміцель на-а-аш…. А прападзем без яго…*
Заплакала проснувшаяся Лора, забилась в уголок, спрятавшись за каптуром. Павлюченко метнул на Лебедева недовольный взгляд:
– Кто тебя за язык тянул? А ты, Севостьянова, гляди, если прознаем что, пойдёшь следом за Новиковой!
Глава 6. Сурмино
Неугомонные соловьи, бесшабашно отрешившись от мирских забот, выводили любовные рулады, утренняя роса радужно переливалась в щедрых солнечных лучах, одуванчики, словно юные балерины, доверчиво расправляли ярко-жёлтые юбочки-пачки, а над ними, озабоченно жужжа, сновали пчёлы. Но Наталья бежала по узкой тропинке, ничего не замечая. «Должен быть выход!» – отчаянно пульсировало в голове.
Она влетела в хату к Серболиным и только теперь заметила, что как была в Трофимовом пиджаке поверх рубахи, так и прибежала. Женя удивлённо уставилась на подругу, забыв про разложенные на столе выкройки. Она славилась хорошей портнихой и, пока муж бил фрицев на фронте, шитьём добывала на пропитание для своей немалой семьи: двое мальчишек и три девочки. Тамарочка с Леной нянчились с младшенькой, а семилетний Лёня и двенадцатилетний Илья промышляли с утра до вечера на озере. То карасиков, то подлещика, то плотвичек, а, бывало, и раков добудут, таскают из нор, куда те на день ныкаются. Тем и кормились.
– Выйди, погомонить надо! – выдохнула Наталья.
Узнав про Севостьяновскую беду, Женя задумалась:
– Без аусвайса в Сурмино не пройдёшь. Можно попробовать через Симонову, которая в наших Панкрах, большой дом у неё, заметный, небось, видела? Она ж при комендатуре! Будет у меня платье примерять – я его уже сметала – поговорю.
С аусвайсами и кошёлками, якобы для картошки, обвязав головы платками, Наталья с Женей шагали по песчаной сурминской дороге, в который раз обсуждая план спасения Севостьянова. До деревни, где располагалась жандармерия, шесть километров. Вокруг лес – кусты, ели да высоченные сосны.
– Под ноги смотри, здесь часто на солнышке гадюки греются, –предупредила Евгения. – В низине болотина у Белого озера, оттого и полно в окрестностях змей.
– Других бы гадюк не встретить, тех, что с белыми повязками на рукавах. От немцев легче отбрехаться, чем от этих паршивцев. Ишь, сколько их к новой власти переметнулось!
– Даст Бог, отбрешемся, а вот как Трофима твоего вызволить?
Подружки умолкли. Солнце поднималось всё выше, идти жарко. Наталья почувствовала, как по спине покатилась струйка. Сбросила кофту, развязала платок, но шагу не убавила.
– Да не гони так! – взмолилась запыхавшаяся Женя. – День велик, справимся.
– Знать бы, что у полицаев с немцами на уме! Забьюць Севостьянова… Веру Григорьевну, родственницу его из Кузьмино, забили! Дочка в партизанах, а мать повесили… Страшно-то как! Добрая была. Тоже портниха, руки золотые, как у тебя. Я ей соли отсыплю. С разбитых складов все, кто мог, натаскали. Она – то платьишко Ларисе, то распашоночку Гале,
– Наталья зашмыгала потёкшим носом. – Забьюць, забьюць Трофима! Как жить без него?
Серболина, светленькая, худенькая, как лозинка, остановилась, резко повернулась и, глядя в упор, твёрдо скомандовала:
–Не смей беду приговаривать! Сглазишь! И не реви! Побереги слёзы, пригодятся ещё.
Неожиданно показались деревенские хаты. Наталья замерла, только дышала шумно, как после бега, и сердечко колотилось, казалось, стучит так гулко, что пройди кто рядом, услышит. И действительно, словно услышал, выскочил с обочины на дорогу полицай Семёнов, потный, раскрасневшийся на полуденном солнце.
–Будто чёрт из кустов! Принесла нелёгкая, – успела шепнуть Женя.
Немец, отдыхавший в тени под сосной, тоже поднялся с земли, зевая, лениво бросил:
– Аусвайс?
– Пропуск есть? – грозно повторил Семёнов, смахивая висящую на багровом носу каплю.
Женщины торопливо протянули документы. Он услужливо передал их немцу, заглянул в корзинки.
– За бульбой! Мы за бульбой! Может, в деревне кто обменяет на соль? – Наталья показала маленький бумажный кулёчек. – Детей покормить.
– У меня пятеро, у неё – двое, – умоляюще заглядывая в глаза полицаю, поддакивала Евгения. – А очистки посадить можно, к осени молодая картошечка вырастет.
Немец снова зевнул и, возвращая документы, равнодушно махнул рукой:
– Überspringen Sie sie!
– Слава Богу! – обрадовались подружки.
– Шуруйте отсель! – гаркнул полицай и, смерив Наталью наглым взглядом, вдруг похотливо шлёпнул её ниже спины. Она отскочила в сторону, обиженно-оскорблённо свернула глазами.
– Ой-ё-ёй! Губки-то надула, – ёрничая и развязно тыча пальцем в сторону девчат, Семёнов подмигнул немцу, громко расхохотался:
Негодуя, еле сдерживаясь, Наталья почти бежала к деревне и в полголоса выплёскивала возмущение:
– Ууу, злыдень! Кабель паршивый! Предатель! Да что б ты провалился в преисподнюю!
Ещё в Панкрах Симонова, передавая аусвайсы, предупредила, что Трофима немцы держат в сарае у первого дома, слева от дороги. Поэтому, поравнявшись с ним, женщины огляделись.
– Кусты обойдём, спрячемся. Там нас никто не увидит. Попробуем к сараю приблизиться, окликнуть, вдруг отзовётся Трофим, – предложила Наталья. – Хоть бы голос услышать…
Заросли молодой крапивы, успевшие вымахать на солнечном припёке по пояс, не испугали. Не обращая внимания на хлёсткие, обжигающие прикосновения жёстких стеблей, подруги упорно пробирались к цели. Но как только приподнялись из травы, чтобы добежать до стены, зычный окрик: «Партизаны?!», – пригвоздил их на месте.
Часовой полицай, молодой парень с чёрными, под Гитлера, будто вычерченными усиками, с удивлением рассматривал незнакомок с пустыми корзинками:
– Бабы, вы чего тут забыли? Или своровать что вздумали?
Женя испуганно закрутила головой. Наталья, бледная до синевы, словно онемела. Мысли, слова враз исчезли, язык, словно прикипел к нёбу. Не дождавшись ответа, часовой ткнул её стволом винтовки:
– А ну, в жандармерию обе! Там разберутся, что вы тут вынюхивали, языки быстро развяжутся!
За столом у окна полицай в немецкой форме, нарукавная повязка с надписью: «Treu Tapfer Gehorsam», острым ножом строгал сало, на тарелке уже нарезанные вдоль солёные огурцы, крупная луковица, ломоть домашнего хлеба.
– Это кто? – рыкнул раздражённо, мотнув острым подбородком.
– У сарая отирались! – вытянувшись спичкой, отрапортовал часовой.
– Кто охранять остался? Никто?! Придурок! – заорал начальник, удостоенный гитлеровского звания гаутман. – Ты зачем этих баб притащил?
– Виноват! – часовой съёжился, попятился к дверям. – У сарая они…
Не выпуская нож из рук, полицай, набычившись, переводил разъярённый взгляд то на одну, то на другую:
– Ну? Молчать будем?
И тут Наталью с Женей словно прорвало – в два голоса, перебивая друг друга, они заголосили:
– Дорогу хотели сократить, по тропинке хотели…
– За бульбой мы, с Езерища…
– Не виноватые, ни в чём не виноватые!
– Никого в деревне не знаем, а по дороге страшно, пан полицай…
– Пан, добренький пан, отпустите, у нас детки одни остались!
– Ой, малыя ж детки-и…
– Да какие партизаны, смилуйтесь, – просила, заливалась слезами Женя. – Девочки у меня несмышлёные, мальчишки совсем малые… Портниха я! Может, что сшить надо? Так с радостью, вам понравится! Может, жене вашей, деткам. У пана есть детки?
Гауптман помахал аусвайсом:
– Кто из вас Севостьянова?
– Я, – у Натальи задрожали губы, кровь отлила от лица, в голове замутилось.
– Трофим Севостьянов кем приходится? – полицай впился взглядом, будто душу высасывал.
– Муж мой, – ответила чуть слышно, проваливаясь в туман.
Когда Наталья очнулась на полу, над ней, склонившись, стоял полицай Фирсов с кружкой воды, брызгал в лицо, пытаясь привести в чувство. Гауптман, развалившись на стуле, с аппетитом жевал сало, а Женя торопливо объясняла, что Трофим мужик тихий, рукастый, рубит он общественную баню, потому как вши, огромные, противно-бледные, заели деревню, чего доброго, начнётся тиф. И к партизанам ни она, ни Севостьяновы никакого отношения не имеют – не дурные же! Младшенькая у Трофима с Натальей ещё грудная, сами-то голодают, без мужа вовсе горе! А ещё старуха восьмидесятилетняя на руках. Вот молодая мама и ослабла…
– Очуняла, слава Богу! – вскрикнула радостно, заметив, что Наталья открыла глаза. – Помогу ей подняться, пан гауптман?
Домой возвращались обессиленные, будто выжатые страхом. У Жени ещё долго дрожали руки, шить не могла. Но – беда прошла мимо.
Глава 7. Встречи
Мысль о спасении Севостьянова не оставляла Наталью. Трофим жив! Пока. Хотя из Сурмино живыми не выходят… «А что, если через Фирсова? Он же вместе с Сепачёвым в милиции служил. Но как подобраться?»
С утра, покормив детей и Ефросинью Фёдоровну, собрала гостинец: несколько сушёных рыбёшек, которыми поделилась Серболина, – и побежала к Крейзерам, чтобы застать дома их дочку.
– Леночка, красавица! Жениха тебе доброго, красивого да богатого! – всматривалась Наталья в девушку, спешно решая, можно ли довериться такой крале. – А мы с твоим папкой в землеустроителях вместе. Слыхать что про него?
Лена и бровью не повела. Поправила у зеркала пышные волосы, заколола невидимками, примерила яркие бусы:
– Не, тётя Наташа, не слыхать. А вам на что?
– Работали же вместе, – повторилась гостья, – хороший человек, на любую просьбу откликался.
– Случилось что? – Лена обернулась и смотрела внимательно, в упор. – Не сухой плотвы ради с утра пожаловали?
Севостьянова решилась:
– Видела тебя с литовцем-переводчиком из комендатуры. Красивый хлопец. А у меня муж в Сурмино, вызволить надо, не виноватый он. Самогонки добуду, яиц…
Дни тянулись, не принося добрых вестей. Думая о муже, Наталья плакала, но беззвучно, незаметно смахивая слёзы, – научилась, чтобы лишний раз не пугать несчастных детей. Ефросинья Фёдоровна молилась – то на коленях перед иконкой, то била поклоны, то тихонько плакала, шептала, качая Галинку или укрывшись от всех на печи. Она ещё помогала по хозяйству, нянчилась с внучками, но добывать хлеб для семьи уже не могла, без Севостьянова эта забота полностью легла на невесткины плечи. Выручала соль, на которую удавалось выменять что-то из деревенских продуктов. Золовка Прасковья Макаровна научила огород посадить, поделилась семенами. Она же обещала достать самогона.
В ту ночь с запада нагнало дождевых туч, небо потемнело, и рассвет не загорался, словно ночь задержалась на вторую смену. Наталья выглянула на улицу, раздумывая, затевать ли стирку, ведь если надолго задождит, то сушить придётся в хате. В утренних сумерках заметила женщину в чёрном: пиджак, платок, длинная юбка, из-под которой выглядывали разбитые сандалии. Приветливо помахав, она торопливо свернула к дому. Присмотревшись, Наталья узнала Евдокию Петрову из Кузьмино. Изредка женщина появлялась в Езерище, чтобы раздобыть именно соли. Мелькнуло: «Куда ей столько?», – и тут же забылось. Какая разница, если взамен она предлагает яиц, картошки или молока?
– Небо-то как затянуло, – заметила сочувственно, – на обратной дороге под грозу можете угодить.
– Если угодим, так вместе, – загадочно улыбнулась Петрова. – Я к тебе с весточкой!
– Трофим? – ахнув, Наталья испуганно опустилась на крыльцо.
Евдокия оглянулась по сторонам, присела рядом:
– От Арсентия Григорьевича. Ждёт он тебя.
– Папка? Жив? Не чаяли уже, – засветилась радостно, но тут же в голосе засквозила тревога: – Что с ним? Где?
Маленькая Лариса, с пылающими от диатеза щеками, отбросила кастрюльные крышки, с которыми играла на полу, и повисла на шее у матери, жалостно хлюпая:
– Не уходи! Не хочу с бабой! Хочу с тобой!
Глядя на сестру, сморщила личико, разревелась Галинка.
– Мама, ну возьмите же вы малую на руки! – повысила голос Наталья, призывая Ефросинью Фёдоровну. – Грыжу ребёнок накричит!
Свекровь поднялась с лавки, недовольно зашумела:
– А цябе куды зараз нясе? Шлейка пад хвост? Мужыка дома няма, дык табе загарэлася?
– Загарэлася! – огрызнулась Наталья.
«Ничего, – оправдывала себя за неуместную грубость, – меньше будет знать, спокойнее всем».
После Лесогорской Петрова распрощалась:
– До Кайков осторожно, лучше кустами, чтоб никто не увидел. Там –огородами. Найдёшь Федосью Иванюженко – моложавая баба, бойкая, двое ребятишек, мужика забили ещё в сорок первом. Крайняя хата, не перепутаешь.
– Найду, бывала, там же тётка по матери – Рябинка Надежда Лаврентьевна.
Набрякшее небо протяжно прогромыхало, сверкнуло на горизонте и разом сыпануло дождевым горохом. Крупные редкие капли гулко падали на землю и растекались в дорожной пыли крохотными лужицами, словно ртуть. Но уже через минуту полило густо и мелко, будто кто-то невидимый тряс над землёю огромным ситом. Наталья мгновенно промокла, юбка облепила голые ноги, отяжелевшая вязаная кофта вытянулась и обвисла почти до колен, вода катилась струями по спине, волосам, заливала глаза, мешая смотреть, хлёсткие ветки били по лицу и рукам, а она пробиралась, огибая поваленные деревья, глубокие воронки от разорвавшихся бомб, груды обломанных сучьев, стараясь не терять из виду наезженную телегами дорогу.
Прокричала кукушка, Наталья обрадованно остановилась, словно встретила добрую знакомую. «Один, два, три…десять…пятьдесят четыре…», – считала, как в детстве, замирая от восторга и страха.
– Русалочка, не заблудилась случаем? – мужской голос раздался совсем рядом, словно неизвестный говорил на ухо.
Вздрогнула от неожиданности, обернулась. Человек в плащ-палатке, в руках винтовка, лицо спрятано в густой бороде:
– Кто такая? Откуда?
Узнав, что перед ним дочка Арсентия Григорьева из Давыдёнок, потеплел, расспросил про дорогу, нет ли немецких патрулей, и исчез, растворился в дожде.
Отец первым заметил Наталью через приоткрытую дверь сарая, в котором прятался от чужих глаз.
– Доченька! – окликнул осторожно. – Подь сюды!
От волнения у неё по коже мурашами пробежала дрожь, даже ноги подкосились. Прижалась к стене, не веря, что папка – вот он, рядом! Ещё раз огляделась – никого! Только дождь. Кто живой, все от него попрятались. Даже пёс не брехнул и носа из будки не показал. Наталья скользнула в сарай. Арсентий Григорьевич сжал её в объятьях, мокрую, дрожащую, рыдающую:
– Дочушка, всё хорошо, хорошо! – слёзы потекли по его небритым щекам. – Как ты на мамку похожа…
Пока Иванюженко Фроня сушила у печи Натальины одёжки, та, облачившись в хозяйский халат, старые валенки и закутавшись в шерстяной платок, отогревалась кипятком на травах и не могла наговориться с отцом. Он же слушал да, как бы невзначай, уточнял: какая охрана в Сурмино, сколько немцев, сколько полицаев, кто из знакомых решился служить против своих… Порывшись в прошлогоднем сене, достал листовку:
– Не плачь, Натальюшка, сколько верёвочке не виться, а передушим мы проклятых ворагов, как есть – перебьём! Паслухай, что сами фашисты в своей газете пишут: «За последние недели партизанами было убито много бургомистров и других представителей оккупационных властей…».
– Понимаю, папа, – всхлипнула Наталья, – так ведь и немцы звереют! Сколько уже позабивали, вспомнить страшно! Одноклассники мои в земле лежат. Межу спалили. Все хаты!
Григорьев стукнул кулаком в стену:
– Льют они кровушку нашу, твоя правда. Хвастают, что в начале мая в Минске тридцать человек повесили, сто двадцать расстреляли, потому что все – подпольщики, которые помогали партизанам. Только партизаны всё равно фашистов били и бить будут!
Наталья схватила отца за плечи и, умоляюще глядя в глаза, словно всё зависело от него, едва не закричала:
– Она когда-нибудь закончится? Война закончится?
Григорьев помрачнел, но взгляда не отвёл. Помолчал, словно взваливал на себя непосильную ношу, и твёрдо, старательно выговаривая каждое слово отчеканил:
– Даже не сумневайся! Не смей! Мы обязательно победим!
Прильнув к отцу, Наталья снова зарыдала. Всё смешалось в этих слезах: напряжение нескончаемого ожидания, изнуряющая тревога, мучительный страх, горечь унижения, боль потерь, ужас неизвестности и спасительная радость надежды.
– Ты всё правильно сделала, – успокаивал Арсентий Григорьевич. – Что немцы, что полицаи –эти особо! – падкие до наживы. Сало, самогонка, курица, яйца, колечко золотое… И Фирсов – правильно. Должен помочь.
– Сепачёв обещал поговорить с ним, – всё ещё всхлипывала Наталья.
Возвращаясь, во дворе дома увидела Прасковью Макаровну с Ларисой. Девочка заливисто смеялась, убегая от тётки, а та делала вид, что никак ей не поспеть, и, дурачась, приговаривала: «Догоню, догоню!». Солнце играло в берёзовых ветвях, отбрасывая причудливые тени, запах омытой дождём сирени плыл по деревне, утверждая наступившее лето, и лишь голубые лужи, отразившие глубокое необозримое небо, напоминали о недавнем ливне.
– Мама! – Лора с разбегу уткнулась в материнскую юбку.
Наталья подхватила её на руки, зацеловывая, прижала к себе, обернулась к золовке, пытая одними глазами: «Трофим?».
Прасковья Макаровна улыбалась открыто, радостно:
– В Езерище перевели! Дрова для комендатуры заготавливает. Теперь бы из этой тюрьмы его выкупить…
Помог литовец-переводчик. Подпаивая самогонкой, ублажая то курочкой, то сальцем, уговорил бургомистра отпустить невиновного Севостьянова. Тот приказал Трофиму по первому зову являться на принудительные работы, а для убедительности так двинул кулачищем в ухо, что показалась кровь. Это развеселило полицая, и он с размаху ударил с другой стороны – второе ухо тоже закровянило.
– Ещё попадёшься, отрежу! – пригрозил, удовлетворённо вытирая взмокший лоб.
Наталья обнимала мужа, вдыхая запах его измученного тела; ощущая сухие, твердые, как камни, мышцы под бледной, с кровоподтёками кожей; вслушивалась в звуки голоса, простуженно-охрипшего, но такого родного. Снова стало спокойно и надёжно, несмотря на то, что каждый день грозил неизвестностью, в которой было место и постоянному, изнуряющему страху – оккупация щедра на смертные издевательства и истязания, пули и верёвки…
Окутанный лаской и домашним теплом, Тимофей ещё долго не мог справиться с внутренним напряжением, которое накрыло его с момента ареста и не отпускало. Воспоминания зверских допросов мучили, вызывая фантомные боли – стеная, он скрежетал зубами. Беспокойные мысли одолевали тревожным отчаянием, негодование и ненависть выплёскивались наружу:
– Помнишь Лобковского? Вместе против финов… А теперь он меня – под прицел! Халуй гитлеровский! Мразь фашистская! Гнида полицейская!
Наталья горячо покрывала поцелуями его губы, не давая разгораться ярости. Он то отвечал на ласки, то вдруг вырывался и, еле сдерживаясь, чтобы не закричать в голос, шептал:
– Убью, убью эту сволочь!
– Конечно, убьёшь, – успокаивала она, – придёт время. А сейчас не смей, это же ты нас убьёшь: меня, мать, девочек, – сразу расстреляют на Сенной.
– В лес уйду!
– Уйдёшь, конечно, уйдешь, – уговаривала, убаюкивала Наталья. – И нас с собой заберёшь, без тебя – всем смерть.
Глава 8. Волки
Огонь в печи не хотел разгораться, дымило. Наталья приоткрыла дверь. Вместе с осенней прохладой, которая свежей струёй устремилась в комнату, до слуха донеслись крики, причитания, плачь. «Андреевна голосит?», – догадалась и замерла, прислушиваясь. Но разобрать слова было невозможно. Набросила на плечи пальтишко, выскочила из дома.
Да, горевала Скуматова, соседка. Муж её, Сергей, работал на железной дороге, но ещё до войны помер. Сын Вася тоже в обходчики подался. Две взрослые дочери. Младшая Мария – Севостьяновым кума: Галинку крестила в лобковской церкви. Старшая Анна замужем, отделилась давно. «С кем беда?», – Наталья влетела в соседский двор, распахнула дверь.
– Сыно-о-оче-е-ек! Васе-е-енька-а-а! – Андреевна ползала по полу, не в силах подняться.
Маша, простоволосая, бледная, в отчаянии опустив руки, стояла рядом на коленях, замученно повторяя:
– Мама, не рви сердце, себя побереги, нас пожалей, как мы без тебя? – Подняла на Наталью заплаканные глаза: – Пришли ночью, забрали Васечку…
Андреевна взвыла, заскребла пальцами по полу, так что из-под ногтей показалась кровь, но этой боли она не чувствовала:
– Убили! Убили моего мальчика-а-а!
– Слышала, партизаны мосты на бычихинской дороге взорвали? Эшелон под откос? Вот и озверели. У нас похватали железнодорожников. Расстреляли сразу, на рассвете, – глухо объясняла Мария, не в силах больше плакать, окаменела.
Выстрелы на Сенной не смолкали долго. Машинами привозили на казнь крестьян из окрестных деревень: Пруд, Ярыгино, Ключ… Запылали хаты, фермы, клубы – горели сёла в Холомерской стороне: Гумничино, Антоненки, Подранда, Козлы, Яново, Устье, Горки, Моисеево, Софиевка*…
Холодным пасмурным утром в хату постучали Трофимовы племянники: двенадцатилетняя Нина Сепачёва и десятилетний Вова. Дети частенько наведывались в гости то с передачками для девочек, то по поручению Прасковьи Макаровны – в огороде Наталье помочь, то просто от нечего делать. Угостит тётка жидкой похлёбкой, лепёшкой или бульбиной – так в гостях всегда вкуснее, чем дома.
– Мамка послала сказать, – затараторил Вова, от волнения вытаращив глаза.
– Я объясню! – перебила Нина по праву старшинства. – К нам отцовы знакомые вчера наведались, из Козлов. Деревню-то – страх какой! – немцы пожгли. А люди, кто живые остались, в лес, в болота…
– На холоде! Голодные! – не стерпел Вовка.
Нина недовольно покосилась на брата:
– Потому и пришли, что одежда нужна да поесть. Мамка сказала, вы, тётя Наташа, их тоже ведаете! Может, дадите чего?
– Сюда, через всю деревню, они идти побоялись, – снова вставил Вовка.
Наталья задумалась. Когда в сорок первом шли бои за Езерище, она с детишками и свекровью пряталась в Козлах, в хате у знакомых Ефросиньи Фёдоровны, куда та и привела. Народу набилось битком. И хозяева никому не отказали. Приютили. Накормили. Спали на полу, впритирку, как были – в одежде.
– Ай, беда-то какая! – всплеснула руками. – Как же без хаты, без без крыши?
– Землянки роют, – деловито пояснил племянник.
Собрав в хатуль вещи: из своей и Трофимовой одежды – кофты, старый пиджак, латаное одеяльце, – отсыпала соли, немного зерна, положила немецкого хлеба, лепёшек. Хотела передать детям, но раздумала:
– С вами пойду!
– Куды зноў? – проснувшись, заворчала свекровь. – Што табе, як іголак наторкалі?
– Я быстро! Провожу ваших внуков: одни ребятки – как бы чего… А вы, мама, за малышнёй приглядите. – И подтолкнула племянников к Ефросинье Фёдоровне: – А ну, бабушку обнять да поцеловать!
Наталье нестерпимо захотелось увидеть старика Степанова, когда-то приютившего их в трудный час. Ей казалось, что он чем-то неуловимо похож на деда Гришу, словно тот возвратился из небытия, и теперь можно уткнуться в его пушистую бороду, а он будет гладить по голове большой шершавой ладонью, напевая густым басом: «Золотко ты наше, внучечка Натальюшка, да сохранит тебя Господь и помилует, да защитит Пресвятая Богородица!».
Степанов и впрямь тепло обнял Наталью. Его блёклые глаза – то ли выжжены гарью и дымом деревни, то ли болезненно воспалены холодом и сыростью болот – слезились, руки дрожали. В который раз он делился пережитым:
– Баба мая з агарода ўбачыла, як удалечыні пабліскваюць нямецкія каскі, і да мяне: "Немцы!" Я агрызнуўся: "Адкуль немцы? Супакойся!" А яна крычыць: "Немцы! Заб'юць нас!" З хаты выглянуў: сапраўды, на тым канцы вёскі яны. Мы агародамі да лесу папаўзлі. Я там зямлянку даўно выкапаў, ад бамбёжак хавацца. Спатрэбілася… Калі загарэліся першыя хаты, баба загаласіла. А што зробіш? Дымам неба завалакло, страшна глядзець! Потым у балота пайшлі. Карнікі ж, як ваўкі, – он задумался, потом решительно мотнул головой, глаза блеснули ненавистью. – Не, якія ж яны ваўкі? Яны страшней
д'ябла! Звер-то падабрэй будзе…
Возвращаясь домой, Наталья снова и снова взволнованно перебирала каждую минутку встречи со Степановым, не предполагая даже, что видела его в последний раз. Через пять месяцев, четырнадцатого апреля сорок третьего, фашисты вернулись в сожжённые деревни и перебили всех, оставшихся в живых.
Уже на повороте к хате заметила невысокую, хрупкую фигурку Маши Скуматовой с коромыслом и полными вёдрами:
– Как Андреевна?
Кума горестно вздохнула:
– Голосит день и ночь. Боюсь, чтоб умом не тронулась, – и понесла дальше по тропинке свою ношу, стараясь не расплескать налитую до краёв тёмную, ледяную воду.
Наталья долго смотрела вслед, съёжившись от холода и от горькой соседской туги, что навалилась на её плечи, словно старое Машино коромысло с тяжёлыми вёдрами.
Глава 9. Беженцы
Сепачёв, простуженно кашляя, ввалился в хату к Севостьяновым и с порога, не отдышавшись, хрипло оповестил:
– Немцы сгоняют людей в эшелоны, отправляют на Городок, оттуда всех – в Германию. Наши-то наступают, уже под Смоленском! Скоро, скоро фрицам – кирдык! Забегали крысы… Напоследок тащат всё, что ещё не разграбили… Уходить надо! В лес! Собирайтесь! Тёплую одежду, продукты, спички…
– С малыми – в лес? – Наталья в отчаянии опустилась на стул.