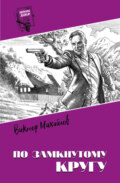Виктор Михайлов
Повесть о чекисте
– Скажи, Андрей Архипович, что за человек Петелин? – спросил Николай.
– Ничего об этом… – Полтавский сделал выразительный жест рукой, – не скажу, но если он тебя шибко интересует, посмотри за октябрь прошлого года «Одесскую газету». Оккупанты годовщину справляли, так Петелин у них на банкете от имени русской интеллигенции речь держал…
– Что за речь? – заинтересовался Николай.
– Ты прочитай сам, боюсь, мне не поверишь, да и, по правде сказать, подзабыл я…
– А что Рябошапченко?
– Иван Александрович между двух огней. Покрывает, как может, нашего брата, но ему приходится ухо держать востро. Опять же Петелин с него требует… Вот, может, с твоим приходом ему полегчает… Ну, бутылка пустая, времени много, пошли по домам! – закончил Полтавский.
– Следующая бутылка за мной! – пообещал Гефт.
Совсем стемнело, когда Николай добрался домой, на Дерибасовскую. Теперь он жил здесь в большой проходной, с окнами во двор комнате, служившей раньше прихожей и кухней одновременно.
В комнате родителей он увидел свояченицу и с досадой подумал: «Прислал ее Берндт, испугался, чертяка!»
Выждав время, когда Вера Иосифовна ушла варить кофе и они остались одни, Зина сказала:
– Артур просил передать: «Окорок в коптильне, будет готов дней через пять».
Вошел отец, услышав сказанное Зинаидой, резко спросил:
– Это кому же окорок?
– Начальству. Надо смазать мою колесницу! – с улыбкой ответил Николай.
– Не нравится мне, сын, твоя колесница! – проворчал Артур Готлибович. – И дорогу ты выбрал грязную. Старым друзьям стыдно смотреть в глаза…
Николай с трудом отмыл солидол, въевшийся в руки, переоделся и сел за стол. Он был доволен сегодняшним днем, но ужин проходил в обидном молчании. Кофе овсяное на сахарине не вызывало аппетита, чечевица, усилиями матери превращенная в печеночный паштет, тоже не радовала. Если что и доставляло удовлетворение Николаю, так это непримиримость отца к оккупантам и к позиции сына, перебежчика, работающего на гитлеровцев.
«С моей стороны жестоко держать отца в неведении, – думал, Николай. – Но рисковать я не имею права. Старик в кругу друзей может похвастаться – такое за ним водится – и погубить все дело».
Словно угадав его мысли, Артур Готлибович демонстративно отставил чашку недопитого кофе, взял очки, книгу и вышел из комнаты, резко хлопнув дверью.
Ушли и Зина с Николаем. Они молча шли по Пушкинской улице, когда Николай неожиданно спросил:
– Помнишь, Зина, в тридцать седьмом я привозил Аню в Одессу рожать? Таково было ее желание, хотя в Туапсе сколько угодно опытных врачей…
– Как же, помню, – и, подумав, что Николай упрекает жену за каприз, добавила, как бы в ее оправдание: – Так ведь Аня ждала двойню, боялась…
Словно не слыша ее, Николай сказал:
– Ты меня тогда угощала мочеными яблоками… Помнишь? В подвале у вас стояла кадушка с антоновскими мочеными яблоками… Теперь на люке я видел сундук…
– Мало ли что там стояло! – обиделась за сестру Зинаида. – Теперь нечего держать в подвале, рухлядь всякая валяется…
– Послушай, Зина, а не могла бы ты привести этот подвал в порядок?
Зина остановилась и, переждав, пока их обогнал прохожий, спросила:
– Для чего это, Коля? – У нее и голос дрогнул от волнения.
Когда его готовили к заброске в Одессу, чекисты обсуждали с ним разные варианты легализации. Тогда они решили, что по прибытии в Одессу он отправится к Зине. Николай пошел к Юле Покалюхиной и не жалел об этом, но…
«Пришло время, – подумал он, – сказать Зине правду».
– У вас в подвале мы установим радиоприемник, будем принимать сводки Информбюро, – решился Николай. – Люди должны знать правду. Это поддержит их мужество, даст силы в борьбе.
– Что я могу сказать, Коля… Я тебя поцелую… – Она притянула к себе его голову и поцеловала в лоб сухими от волнения губами. Затем было двинулась вперед, но вернулась к нему и сказала: – У меня на сердце, Коля, словно праздник какой…
Он долго стоял и смотрел Зине вслед, пока она не скрылась, затем свернул на Большую Арнаутскую.
Юля на кухне варила кофе.
Николай вошел в комнату. Перебирая на ее столе книги, учебники по анатомии и педиатрии, он наткнулся на тонкую клеенчатую тетрадь с конспектом по… богословию!
Юля на подносе внесла кофейник и две чашки.
– Что это? – спросил он, показывая клеенчатую тетрадь.
– Запись лекций. В институте не ставят зачета в книжку по основным дисциплинам, если нет отметки по богословию.
Пропуская сквозь пальцы страницы тетради, исписанные убористым почерком Юлии, в раздумье он сказал:
– Интересно… Очень интересно… – И неожиданно: – Юля, ты можешь отдать мне эту тетрадь?
– Возьми. Ты решил заняться богословием? – не без иронии спросила Юля.
– Ты угадала, – ответил он серьезно. – У меня к тебе два поручения. Первое: у вас в институтской библиотеке есть подшивка «Одесской газеты»?
– Никогда над этим не задумывалась. Думаю, что есть.
– Посмотри номера за октябрь прошлого года, найди репортаж о банкете в честь годовщины со дня оккупации Одессы и выпиши, слово в слово, выступление инженера Петелина Бориса Васильевича.
– Петелина Бориса Васильевича, – закрыв глаза, повторила Юля. – Так, второе?
– Достань в лаборатории института десятипроцентный раствор желтой кровяной соли.
– Сколько?
– Кубиков двадцать пять – тридцать.
– Хорошо. Это все?
– Все.
– Тогда у меня для тебя есть новость! Я добыла сводку Совинформбюро! – Юля положила перед ним листок, вырванный из блокнота.
Николай взглянул на сводку, пододвинул к себе пепельницу и сжег бумагу.
– Где же ты добыла, как ты говоришь, эту сводку? – Он взял чашку и слушал ее, прихлебывая кофе.
– У меня есть знакомая – студентка мединститута Аня Осика. Ее дядя, местный немец, открыл мыловаренный завод. Живут они – угол Рождественского переулка и Новосельской. У них в доме с разрешения коменданта радиоприемник. Осика любит гадать на картах. Я зашла к ней погадать. Как водится, вышла мне дорога через казенный дом, а на сердце лег червонный король и много-много денег и счастья. Словом, Осика в своем репертуаре. Когда подошло время, я напросилась на кофе. Аня ушла заниматься хозяйством, а я включила приемник. Успела прослушать сводку и к ее приходу переключить на Берлин. Духовой оркестр, марши, хриплые крики… «Как ты можешь слушать такое?!» – возмутилась Аня и выключила приемник. Я пришла домой и по памяти записала…
– Глупый и совершенно ненужный риск! Я запрещаю тебе заниматься отсебятиной! На первый раз считай, что ты получила выговор, ну, а если подобная история повторится… Пеняй на себя.
Ничего не сказав, Юля стала убирать со стола.
– Вот ты и обиделась. Тебе, видимо, кажется, что это веселая самодеятельность прежних лет. Понимаешь, Юля, мы все должны подчиняться военной дисциплине, усиленной чрезвычайными обстоятельствами подполья. Плохо, если ты этого не понимаешь…
– Ну хорошо, больше это не повторится, – тихо сказала Юля.
Николай простился и, захватив клеенчатую тетрадь, ушел.
Прошло два трудных, напряженных дня.
Николай вкладывал в установку двигателя всю свою силу, все знания человека, истосковавшегося по настоящему делу. Он сам руководил центровкой двигателя, проверил зазоры между стрелами на фланцах валов коленчатого и гребного. Строго рассчитывал клинья и следил за тем, как их пришабривали, подгоняя на месте. Он сам отрегулировал пусковую систему и перебрал редукционный клапан. Наблюдал за опрессовкой топливных насосов и форсунок. И если бы не окружающая его атмосфера неприязни и недоверия, Николай от этой работы получил бы искреннее удовлетворение, но он знал, на что идет, и был готов ко всему.
К концу третьего дня они опробовали двигатель в работе, тщательно отрегулировали нагрузку по цилиндрам, проверили все навесные агрегаты. Машину можно было предъявить к сдаче на ходовых испытаниях.
Завтра, двадцать пятого июня, точно в срок, назначенный Загнером, сторожевик отдаст швартовы я выйдет в море.
Между строк…

Николай Гефт
В полной темноте на ощупь Николай открыл дверь, пошарил по столу руками, нашел лампу и зажег. С тех пор как бомбили Плоешти, на электростанции не хватало горючего.
Родители давно спали.
В комнате было тихо, но в ушах еще плыл звонкий гул двигателя. Ходовые испытания затянулись. Неожиданно на корабль прибыл адмирал Цииб в сопровождении майора Загнера. Ходили в порт Сулин и вернулись в Одессу поздно вечером.
Николай достал из-под подушки кофейник, завернутый в газету, кофе был чуть теплый, налил кружку и, почти залпом, выпил.
Перед ним лежала клеенчатая тетрадь конспекта по богословию, он перевернул обложку и прочел:
«Беседа первая. Голос церкви – голос божий».
Из бокового кармана он извлек великолепную авторучку, полученную сегодня на ходовых испытаниях в подарок от эсэсовца Загнера, снял колпачок и написал на первой странице:
«Кто ищет истину – найдет ее в светлой православной церкви.
Николай Гефт. Одесса, 25 июня 43 г.»
Затем, отложив авторучку, он открыл флакон с желтовато-бурой жидкостью, обмакнул перо, прочел первые строки конспекта: «Святой Киприан говорит, бог устроил церковь, чтобы она была хранительницей откровенных истин…» – и между строк написал:
«Удалось не только легализоваться, но и проникнуть в военно-морскую часть гитлеровцев. Собрана значительная информация. Но данный мне на связь Яков Вагин выбыл с нашим транспортом в дни эвакуации. Остается последняя надежда – рация Саши Красноперова. В случае крайней необходимости мне было дано разрешение на связь с Красноперовым. Думаю, что такая необходимость наступила. Если же не удастся передать информацию по рации „молодоженов“, придется переправить ее через линию фронта со специально посланным человеком. С этого дня я буду заносить в эту клеенчатую тетрадь всю собранную информацию:
Раздел первый: „Структура германских военно-морских сил“…»
Было около четырех часов утра, за окном уже брезжил рассвет, а Николай все еще писал отчет:
«Петелин – сознательный враг. Это не приспособление к обстоятельствам. Он как бы нашел себя в атмосфере злобной антисоветчины. Ярче всего об этом свидетельствует его выступление на банкете в честь „освобождения Одессы от большевиков“».
«Только теперь русская интеллигенция вздохнула свободно, – говорил Петелин. – Только сейчас мы чувствуем счастье свободы и за это благодарим наших спасителей Румынию и Германию!»
Отложив перо, Николай заметил, что наступило утро. Он поднес близко к окну клеенчатую тетрадь, проверил ее страницы при дневном свете – доклада, написанного между строк конспекта по богословию, не было, он словно и не был никогда написан.
Отодвинув кровать, Николай спрятал за плинтус раствор желтой кровяной соли. Разделся, лег и тут же уснул.
Разбудил его отец.
Вчера после окончания испытаний Николай получил разрешение на отдых, но, подумав, решил пойти на завод. Надо было поговорить с Рябошапченко, откладывать разговор не имело смысла.
Он встал, позавтракал вместе с отцом, побрился и отправился на завод. По дороге на углу Дерибасовской и Гаванной купил «Молву».
К себе в кабинет он зашел ненадолго, просмотрел наряды и направился в механический. В конторке Рябошапченко не было. Лизхен приветствовала его:
– Знаете, Николай Артурович, о вас шефы так хорошо отзывались…
Ответив на приветствие, он вышел из цеха и направился к пирсу, но возле эллинга встретил Ивана Александровича.
Рябошапченко сухо поздоровался и двинулся в тень, к скамейке.
– Что нового в газете? – спросил он, кивнув на «Молву» в руках Гефта.
– Еще не смотрел, но, думаю, ничего, кроме клеветы и дезинформации, – ответил Николай, разворачивая газету. – Главная ставка фюрера сообщает о победах германского оружия на Кубанском предмостном укреплении, о боях в районе Орла… Что касается истинного положения, то Советское информбюро передает…
«Что это, провокация?» – подумал Рябошапченко и решительно поднялся со скамейки:
– Вы меня простите, Николай Артурович, но я бы не хотел слушать, что передает Совинформбюро!..
– Чураетесь правды?
– Можно начистоту?
– Валяйте!
– Я человек думающий, – говорил он спокойно, не повышая голоса, но предательские желваки выдавали его волнение. – Кто вы, Николай Артурович? Если посмотреть, с каким душевным рвением вы доводили дизель на «ПС-3», вы служите эсэсовцу Загнеру не за страх, а за совесть. Послушать ваши комментарии к «Молве», вы… Словом, вы меня понимаете. Если сказал лишнее, не обессудьте… – Он двинулся к эллингу.
– Иван Александрович! – остановил его Николай. – Где же такое видано – обвинить и не дать оправдаться! А говорите, что вы человек думающий. Давайте вспомним: после осмотра в вашем присутствии дизеля я понял, что бригада Берещука монтаж саботировала. Но я же не побежал к Загнеру или к Купферу, чтобы нажить на этом политический капитал! Так?!
– Ну так…
– Больше того, я добился, чтобы бригаде Берещука выписали премиальные. Со временем я скажу вам больше, но сейчас… Поймите, Иван Александрович, поймите и поверьте: это было нужно!
– Предположим…
– Там, где есть предположение, есть место надежде. Я уверен, что мы поймем друг друга.
– Сейчас мне кажется странным, что были другие времена и люди были яснее и понятнее… – Рябошапченко снова присел на скамейку, откинулся в тень акации и, словно думая вслух, сказал: – Помните, Николай Артурович, отдыхая с вами в Гагре, мы ходили в ущелье реки Жоэквары смотреть развалины Башни Марлинского. Мне хорошо запомнился этот день перед вечером, седые от мха камни и ваши слова… Вы помните, что вы тогда сказали?
– Нет, не помню.
– А я хорошо помню. Вы сказали: «Александр Марлинский, штабс-капитан лейб-гвардии драгунского полка, декабрист, сподвижник Рылеева, умер, как солдат, но память о нем хранят эти камни. Завидная жизнь! Память о нас с вами вряд ли сохранят потомки». Помните?
– Очень смутно…
– А я помню. К чему это? Да! Память потомков. Кто знает, Николай Артурович, может быть, потомки и вспомнят о нас, живших в это трудное время… Кажется, я говорю путано…
– Нет, все ясно. Мне ваша мысль понятна… Хотелось бы, Иван Александрович, задать вам один вопрос… – нерешительно начал он. – Вы можете не отвечать, дело ваше…
– Многозначительное вступление, – улыбнулся Рябошапченко.
– Скажите, почему вы остались в Одессе?
Улыбка сбежала с лица Рябошапченко. Он пожевал, губами, отчего скулы пришли в движение, искоса поглядел на Гефта, словно прикидывая в уме, стоит ли отвечать на поставленный вопрос. Но, видимо решив, что стоит, сказал:
– В этом нет ничего зазорного, могу ответить. Бригада ремонтировала судно «Ворошилов». Было решено довести хотя бы один дизель, чтобы судно могло уйти своим ходом в Новороссийск. На «Ворошилове» должен был эвакуироваться и я вместе с семьей. В это время бомба угодила в хлебозавод, что на улице Хворостина. Мою бригаду перебросили на ремонт печи. Пока мы работали на хлебозаводе, «Ворошилов» ушел. После этого надо было срочно монтировать кислородную станцию – не было кислорода для сварочных аппаратов, требовали госпитали кислород для тяжелораненых. Где тут было думать об эвакуации! Четвертого октября вызвали в военкомат и сообщили, чтобы я на эвакуацию и не рассчитывал… «Остаетесь в Одессе!» – сказали мне. Как видите, Николай Артурович, я совесть мою мог бы не тревожить, но очень мне тяжко, что остался… Да я и не скрываю этого…
Из-за эллинга показалась Лизхен, она достала из кармана зеркальце и поправила краску на губах.
По лицу Рябошапченко скользнул отраженный зайчик, Иван Александрович как-то погас, замкнулся в себя, стал снова серым, обыденным.
– Николай Артурович, вас хочет видеть шеф Купфер! – сказала Лизхен, увидев Гефта.
– Откуда известно шефу о том, что я на заводе?
– Шеф спросил, где Иван Александрович, я сказала, что на территории с инженером Гефтом, а он сказал…
– Дальнейшее ясно. Жаль прерывать наш разговор, Иван Александрович, но мы еще к нему вернемся.
– Если хотите.
– К начальству придется пойти.
У Купфера его подстерегала неожиданность:
– Господин Гефт, – сказал Купфер. – По представлению майора Загнера оберштурмфюрер Гербих дал указание отделу снабжения выделить вам премиальный паек. Вы знаете, где помещается магазин «Фольксдейче миттельштелле»?
– Нет, шеф.
– Угол Новосельской и Петра Великого. До двенадцати можете воспользоваться моей машиной.
Николай поехал в магазин, получил объемистый пакет с продуктами, отвез его на Дерибасовскую и сказал матери:
– Тут, мама, на двоих. Подели, пожалуйста, все поровну.
Вера Иосифовна была не очень сильна в политике, к тому же продукты есть продукты, а аппетит двух взрослых мужчин надо чем-то удовлетворять.
– О! Настоящий кофе! Отец так любит кофе…
– Хорошо, – согласился Николай, – кофе оставь целиком.
Захватив пакет, уже вдвое меньший по объему, он дал шоферу адрес: «Коблевская!» В самом начале улицы отпустил машину, пошел пешком. Квартиру семь нашел сразу, на первом этаже, с пристроенным тамбуром, сквозь открытые окна которого пробивалась буйная зелень домашних растений.
На стук вышла еще молодая полная женщина в откровенном капотике, с бумажными папильотками в бесцветных волосах.
Разговаривая с Николаем, она доедала, зажав в кулаке, куриную ножку, кокетливо отставив мизинец с длинным и грязным ногтем.
– Мужчина, молодой и красивый, в нашем гареме?! – воскликнула она.
– Мне нужно видеть Глашу Вагину…
– Быть может, Брунгильду? Так это я!
– Увы, я не король бургундов! – улыбнулся Гефт. – Мне нужна только Глаша Вагина.
– Какая жалость. А я через окно увидела вас! – вздохнула Брунгильда. Швырнув обглоданную кость в горшок с фикусом, она обтерла ладони о капот и протянула руку:
– Будем знакомы! В случае чего – поимейте в виду! Заходите, я провожу вас.
С яркого света он попал в темную кухню, затем в коридор, заставленный сундуками, в самом конце его они остановились перед дверью, из-за которой слышался стрекот швейной машины.
– Глашенька, миленькая, к тебе прекрасный рыцарь! – сказала толстуха, распахнув дверь.
Швейная машина умолкла.
Николай вошел в комнату, пахнущую машинным маслом и дешевым одеколоном. Над кроватью с горкой взбитых подушек – коврик «Лисица и виноград», в бутылке, висящей горизонтально на ленте, – макет парусной шхуны, стол, на нем – гора разноцветных лоскутов, швейная машина – и бедность, нужда из каждой щели.
Глаша, в нижней рубашке и юбке, набросив на голые плечи такой же коврик, что висел на стене, смущенно ему улыбнулась.
Николай кивнул головой Брунгильде и перед ее носом захлопнул дверь.
– Ой, зачем вы так! – всплеснула руками Глаша и, понизив голос, сказала: – Немка она. Бруна ее звать. Ей про моего Якова все известно. Я знаете как ее боюсь! К ней «фазаны» ходят…
– Кто, кто?
– «Фазаны», ну румынские офицеры.
– Я, Глаша, привез вам от Якова Вагина посылку, возьмите.
– Ой, что вы!..
– А на словах Яков просил передать, что лучше вас, красивее вас нет на целом свете… Он любит вас, свою Глашеньку, и вернется к вам!.. Обязательно вернется, только ждите его, ждите!..
– Никогда он не звал меня раньше Глашенькой… – Губы ее дрожали, на глаза навернулись слезы. – Господи, за что же это мне!..
– За любовь, за верность… – сказал Николай, но мыслями сейчас был далеко, в аульской саманной хате…
Глаша преобразилась. Куда девалась ее придавленность, болезненная жалкая улыбка. Она вся как-то поднялась, расцвела на глазах и действительно стала красивой.
– А Бруну эту самую не бойтесь, Глаша. Вы ей скажите, что я немец и… Ну, ухаживаю за вами, что ли…
– Как можно! Она знаете какая вредная! Вернется мой Яков, Бруна ему насплетничает, что вот, мол, к ней ходил немец, ухаживал…
– Вы, Глаша, не бойтесь. К тому времени, когда вернется Яков Вагин, не будет этой женщины, я вам обещаю.
– А можно мне вас спросить?
– Да.
– Как ваше имя или хотя бы фамилия?
– Не надо, Глаша. Когда вернется Яков, я зайду к вам, мы выпьем по стопке вина и вспомним это страшное время, которое вас не согнуло, не надломило вашей души…
– Вы уходите? Прошу вас, возьмите коврик на память. Я их шью на базар, а Бруна продает… Кое-как пробиваюсь…
Николай свернул коврик и взволнованный, сам не зная почему, вышел из комнаты.
В оранжерейном саду тамбура его поджидала Брунгильда. Она была в голубом платье, туго стянута корсажем, отчего в глубокий разрез выдавались упругие полушария грудей. Не было на ее голове и папильоток. Завитая, напудренная, с накрашенными губами, она была среди тропической растительности тамбура экзотическим, ярким цветком…
Николай, потрепав ее по щеке, сказал:
– До скорой встречи! – и вырвался на улицу, подумав: «Нашла фазана!»
С Коблевской Николай поспешил на Большую Арнаутскую, но Юли дома не застал. Подумал и решил посмотреть магазин Артура Берндта – его соседство с тюрьмой сулило большие возможности.
Николай сел в вагон люстдорфской линии. Трамвай с грохотом и скрежетом едва тащился, его швыряло, словно шаланду в штормовую погоду. Пульмановские вагоны – гордость Одессы – были вывезены в первые же месяцы оккупации.
В этот полуденный, знойный час пассажиров немного.
Жены чиновников румынской администрации, живущие на дачах Большого Фонтана, они нагло, как хозяева, входят с передней площадки и бесцеремонно требуют места. Хлыщеватые офицеры. На задней площадке жмутся солдаты, вчерашние крестьяне, в пропотевшей, грязной и оборванной форме, забитые муштрой и палочной дисциплиной, небритые и утомленные. Женщины с узелками, едущие в тюрьму с передачами. Благообразные горожане с цветами – эти направляются на кладбище навестить могилы своих близких.
Паренек со смышленым лицом читает плакат патронажного комитета, призывающий жертвовать в пользу бедных.
– Сперва сделали людей нищими, потом бросают нищим подачки! – говорит он и презрительно сплевывает в окно.
Николай выходит из трамвая возле тюрьмы, здесь же, на остановке, магазин. Маленькое, одноэтажное здание, узкое, словно коридор, с подсобкой в конце. В магазине значительный выбор колбас, бакалеи, вин и наливок. За стойкой женщина, Николай узнал ее сразу: Лена, жена Артура Берндта. Высокая, стройная, типичная южанка, с большими карими глазами, крупными чертами лица. Возле нее какой-то чин тюремной администрации, он перегнулся через стойку и, плотоядно заглядывая за корсаж женщины, что-то говорит ей, тихо и многозначительно. У противоположной стены в позе больных, ожидающих очереди на прием, сидят женщины с узелками.
Разговаривая с румыном, Лена бросает в их сторону обещающие взгляды, подмигивает. Всей своей фигурой, подвижными руками, лицом она словно бы говорит этим женщинам: «Сейчас, миленькие, стараюсь для вас. Вот только околпачу этого солдафона, и все будет в порядке!»
Глядя на Лену, он вспомнил сказанное Берндтом: «У нее это азарт, игра в конспирацию!» Артур тысячу раз прав, и, разумеется, никакого настоящего дела поручить Елене нельзя, решил Николай и вышел из магазина.
«Но если Елена в магазине, Артур сейчас дома один, и я смогу повидаться с ним без помех. Тем более, что отсюда рукой подать…» – думал он, дожидаясь трамвая.
Доехав до городской водопроводной станции, Николай по Складской пешком дошел до Малороссийской и, постучав, терпеливо ждал у двери, пока не услышал голос Берндта.
– Открывай, Артур! Это я, Николай Гефт!
Громыхнув засовами, Берндт открыл дверь, пропустил его в прихожую и поспешил в комнату:
– Извини, что заставил ждать, – сказал он на ходу. – Пока спрятал все детали… Черт! Горячий паяльник сунул в чемодан!.. – он достал из-под кровати чемодан с инструментами и вытащил электрический паяльник. – Чуть пожар не наделал!..
– Как подвигается работа?
– Приемник будет готов через два-три дня. Где ты думаешь им пользоваться?
– В подвале Семашко…
– У Семашко? – удивился Берндт.
– Да, во дворе вместо бельевой веревки протянем белый электрошнур, конец введем в отдушину погреба. А для конспирации повесим на шнур пару твоих рубах. Получится неплохая антенна! Как думаешь?
– Меня беспокоит не эта сторона дела… – Артур нерешительно замолчал.
– Семашко?
– Да. Очень большой риск. Имеем ли мы право…
– Надо так, чтобы без риска. Слушать будем на телефоны три раза в неделю, в определенный час, когда стариков нет дома…
– Что ж, дело твое.
– Вот что, Артур, есть еще одно поручение…
– Дай справиться с первым.
– Одно другому не помешает. В прошлый раз ты хорошо сказал: «Мы с тобой немцы, но не гитлеровцы!» Помнишь?
– Да, помню.
– На Одесщине много немецких колонистов. Напиши, Артур, листовку к местным немцам.
– Сумею ли я?..
– С тех же позиций: мы немцы, но не гитлеровцы! Призывай немцев саботировать приказания гитлеровцев, уклоняться от призыва в армию! От всякой работы на оккупантов, от сдачи хлеба, шерсти, молока!.. Ты можешь начать так: «Товарищи немцы!» Или нет: «Гитлеровская война проиграна!» Хорошо, правда? Война проиграна! Пусть те, кто еще на что-то надеются, знают: надежды нет, война проиграна! Это началось еще там, на Волге! Так как, Артур, напишешь?
– От имени кого будет обращение? – спросил Берндт.
– Подпишем так: «Немецкие патриоты». Или: «Патриотическая группа советских немцев». Помни, Артур, листовка должна быть убедительной, сильной, а главное, краткой! С лаконичностью телеграммы! Хорошо?
– Попытаюсь.
– Жене ни слова. Для нее ты можешь оставаться «немецким прихвостнем», это даже лучше.
От этих слов Берндта покоробило. Николай понял, что сделал ошибку:
– Прости, Артур, кажется, я сказал глупость…
– Сказал правду. Сейчас я принесу бутылку вина…
Николай не собирался засиживаться, но отказаться было нельзя.
Артур принес бутылку и налил полные стопки вина.
– Вот ты хочешь выпустить листовку, – прихлебывая маленькими глотками вино, сказал Артур. – По-моему, это полумера. Они от нас отмахнутся, как от назойливой мухи. Врага надо уничтожать, взрывать военные учреждения, солдатские казармы, склады боеприпасов, горючего, совершать диверсии!
– Ты прав, Артур, все это надо, и это они получают полной мерой. И поезда летят под откос, и пылают баки с горючим, и смертельная пуля мстителя подстерегает каждого из них. К счастью, силы нашего сопротивления не исчерпываются Берндтом и Гефтом. И все-таки значение листовки огромно. Пользоваться радио запрещено под угрозой смерти, печать в руках оккупантов. Целые дни население города кормят ложью и клеветой под пресным соусом военных маршей. И вдруг – листовка! Сводка Совинформбюро! Уже сама по себе листовка – свидетельство борьбы, а правда?! Правда с быстротой света распространяется по всему городу. Правда дает надежды, силы!..
Раздался резкий стук в дверь.
Артур вскочил и прежде всего спрятал паяльник. Заметно побледнев, он вышел в прихожую и распахнул дверь.
На пороге стояли человек в форме СС и жандарм.
– Герр Берндт? – спросил эсэсовец, заглядывая в список.
– Да, я Артур Берндт… – высказанное минуту назад решительное требование террора уступило место растерянности. – Прошу вас, заходите! – сказал он и пропустил эсэсовца вперед.
– Благодарю! – он вошел в дом, а жандарм остался на лестнице.
– С кем имею честь? – спросил эсэсовец, увидев в комнате Гефта.
Гефт молча показал удостоверение и любезно предложил:
– Стакан сухого вина?
Эсэсовец кивнул головой.
Артур принес еще одну стопку и налил в нее вина. Рука его дрожала.
– Гауптшарфюрер «Фольксдейче миттельштелле» Франц Вебер! – представился он. – По заданию оберштурмфюрера Гербиха я проверяю политическую лояльность лиц немецкого происхождения:
– Ваше здоровье, господин Вебер! – поднял стопку Гефт.
– Ваше! – ответил эсэсовец. Он выпил до дна, поставил пустую стопку на стол, открыл кожаный портфель и, просматривая анкету, спросил: – Вам, герр Берндт, принадлежит торговое заведение на Люстдорфской линии?
– Да, небольшое торговое заведение… – ответил Берндт, он все еще был взволнован.
– Мы поддерживаем частную инициативу, но истинный немец, да еще с дипломом инженера, мог бы принести бо́льшую пользу рейху, выполняя работу по своей специальности.
Гефт видел оберштурмфюрера Гербиха только мельком и в полутемном коридоре «Миттельштелле», но Франц Вебер явно во всем подражал своему начальнику: он был так же подстрижен ежиком, носил такие же усы щеточкой, казалось, что и глаза у него такие же, как у Гербиха, – голубовато-серые.
– Вы не состоите в «Союзе немцев Востока», вы не посещаете курсы немецкого языка, – монотонно перечислял Вебер, – вы игнорируете военные усилия третьего рейха…
– Господин гауптшарфюрер, – видя состояние Берндта, вмешался Гефт, – смею вас заверить, что инертность моего коллеги Берндта имеет веские основания. Он страстный поклонник фюрера, но… Артур Берндт тяжело болен… Туберкулез, неизлечимая форма…
Вебер резко встал, брезгливо, двумя пальцами взял стопку, из которой пил, и посмотрел ее на свет, словно рассчитывая увидеть палочки Коха. Захлопнув портфель, зажав нос платком, он рявкнул:
– В течение пяти дней представить медицинскую справку! Честь имею!
Артур было хотел проводить Вебера, но Гефт опередил его и вышел вслед за гауптшарфюрером.
– Что теперь будет? – спросил Артур, когда Николай вернулся.
– Ничего не будет, – Николай налил в стопки вина. – Придется доставать тебе медицинскую справку.
– Зачем ты это сказал?
– А ты что, хотел в качестве защитника третьего рейха отправиться в Линц, на военную переподготовку? – перебил его Николай. – Давай лучше выпьем, и я пойду.
Они допили вино, оставшееся в бутылке, и Николай ушел. Он направился снова на Арнаутскую. На этот раз Юля была дома. Он попал на лукуллово пиршество: кукурузные лепешки, жаренные на подсолнечном масле.
Следуя приглашению, Николай оказал честь лепешкам, но совесть его была неспокойна: Покалюхины жили трудно, нуждались, а он отдал половину продуктов чужому человеку Глафире Вагиной.
«Юля человек сильный, вряд ли она приняла бы мою помощь, – успокоил он себя. – Да и Глашу поддержать надо было. Суть дела не в продуктах, важно, что прислал их Яков».
Когда они остались, одни – Софья Ильинична ушла на кухню мыть посуду, – Николай рассказал о трудностях с передачей информации.
– Понимаешь, Юля, мне необходимо повидаться с одним человеком, его имя – Александр, фамилия – Красноперов, насколько я помню, он должен был открыть в городе посредническую контору, в крайнем случае можно разыскать его через Шульгину. Запомни пароль: «Есть небольшая партия маслин, цена сходная». Ответ: «Таким товаром не интересуюсь. Нет ли строительных материалов?» Договорись с ним о встрече – дне, времени и месте. Хорошо продумайте место встречи, оно должно быть безопасным и удобным для обоих…
– Хорошо. «Есть небольшая партия маслин, цена сходная», – повторила она. – «Таким товаром не интересуюсь. Нет ли строительных товаров?..»
– Строительных материалов, – поправил ее Николай.