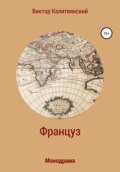Виктор Иванович Калитвянский
Пьеса для пяти голосов
Но Саша хладнокровна. На улице она спокойно рассуждает о том, как учесть телевизионные уроки последних всероссийских выборов. Я киваю, затем невпопад брякаю, что телекомпании надо бы помочь – камеры стары, магнитофоны дышат на ладан, зарплата мала и вообще, мы нужны лишь до того дня, когда выборы кончаются победой…
Саша поворачивает ко мне голову, коротко взглядывает на меня в упор. Я вижу её черные, блестящие глаза, приоткрытые полные губы, лопатки передних зубов со следом губной помады… У меня на секунду занимается дух, но она уже отвернулась, и я вижу шею в завитках каштановых волос…
Мы подходим к перекрестку. Налево – к набережной, на площадь, где постамент от памятника вождю. Саша идет направо.
– Купи мне мороженое, – вдруг просит она и добавляет: – Деньги-то есть?..
– Найдем, – отвечаю я. Мои губы тянет в улыбку, я кидаюсь к ларьку с мороженым.
– А себе? – спрашивает она, когда я приношу ей самое лучшее.
Я машу рукой, счастливый: теперь моё самое большое удовольствие – любоваться, как она это мороженое съест. А вот как: аккуратно кусает зубами, стараясь не задевать губы, помаду. И языком слизывает, когда течет на руку. Я иду рядом, не в силах оторвать своего искоса-взгляда…
А она, знаете ли, успевает ещё и рассуждать о телевидении, о выборах, о мэрских достоинствах и недостатках. Она ни о чем не спрашивает меня – как будто мы гуляли в последний раз по городу вчера, а не пять лет назад.
– В общем надо кое-что посмотреть вживую и подготовить ему соображения,– заканчивает самый лучший пресс-секретарь на свете, бросает стаканчик от мороженого в урну, достает из сумочки зеркальце и обследует губы и зубы. Я деликатно отвожу глаза, хотя это стоит мне усилия.
– Когда будем смотреть? – спрашиваю без всякой задней мысли.
Она пожимает плечами: да хоть завтра. Мэр будет понукать, торопить, он такой, нетерпеливый.
Я говорю, что подготовлю кассеты, сделаю подборку. Где будем смотреть? Понедельник хороший день в телекомпании. В том смысле, что свободный, на канале выходной, так что без суеты и напряга.
– А может, у меня дома? – выговаривает внезапно мой язык в противоречие только что сказанному.
Саша замирает на секунду, потом пожимает плечами, говорит, что следует созвониться утром, часов в десять, когда уточнится график – её и мэра.
До её дома остается две минуты, и мы подходим к подъезду в полном молчании. На прощанье она протягивает руку, потом почему-то отдергивает – и отворачивается.
Неужели волнуется? – не то со страхом, не то с восторгом думаю я.
И вот уже понедельник, полдень. Я навожу порядок в своей берлоге. Дело, честно признаться, нелегкое. Целый год, наверное, я подступался к генеральной уборке, но воз и ныне там.
Но сегодня у меня есть стимул. Для тех, кто не знает: стимул, по латыни, – это короткая палка для погонки ослов. Таким вот стимулом для меня стал сегодняшний визит высокого гостя. В начале одиннадцатого, волнуясь до того, что сел голос, я позвонил пресс-секретарю. И получил ответ, что следует ждать к двум часам пополудни.
– Надеюсь, у тебя всё готово? – было сказано в завершение, и трубку положили.
Разумеется, у меня – готово. Вчера до поздней ночи я монтировал подборки-нарезки роликов. Мой народ в телекомпании шарахался от меня, яростного и нервного – натянутого струной. И теперь стопа кассет лежит на столе, и мы, два спеца-эксперта, пресс-секретарь и гендиректор телевидения, Саша и я, имеем довольно материала для анализа и предложений нашему шефу-мэру.
Таким образом, славно начинался денек. Однако, взглянув, по примеру литературного классика, окрест себя на просторах своего жилища, я ужаснулся. То есть душа моя крепко уязвилась. Разве можно принимать такого гостя в столь совковых условиях?
Перво-наперво, я взялся за окна, немытые года два. Моего энтузиазма хватило на одно – в комнате, а кухонное отложил на потом. Прошел ревизией по всем углам, полкам и стеклам, а завершил расстановкой по вазам цветов, за которыми слетал на рынок. Скучающие старушки так ласково встретили меня, единственного, что на последние деньги купил у каждой по паре пионов.
Буквально за минуту до срока успеваю умыться и привести себя в порядок.
Пять минут третьего. Звонок. Бегу, отворяю дверь и… Сосед, старик. У него вечно телевизор барахлит. Вот и хочет, чтобы я посмотрел.
– Не могу, старый,– говорю. – Вечером, всё вечером…
– А как же мы сейчас…– бормочет старик. Они со старухой не увидят любимый сериал. Мне жаль их, но тут уж приходится выбирать.
Два пятнадцать.
Я мечусь по квартире, как зверь в клетке, – от двери к окну. Возле двери слух мой обостряется до предела. Вот легкие шаги. Раз, два, три. Мимо. Из окна в сотый раз оглядываю двор. Никого.
Я закуриваю третью сигарету. Руки дрожат. Такого разочарования, такой горечи я не испытывал давно.
Два двадцать пять.
Звонок. На бегу соображаю, что телефон, ударяюсь головой о полку, хватаю трубку.
Это Саша. Она извиняется, голосок у неё смущенный.
Оказывается, у мэра была проблема, но, если ещё можно, она, Александра Петровна, Саша, Сашенька, подъедет…
– Конечно, – говорю я. – Разумеется…
Опускаю трубку, обессиленный, падаю на стул.
Спустя пять минут у подъезда тормозит «Волга», ещё через минуту – за порогом женщина в строгом, хотя и летнем костюме, – одним словом, пресс-секретарь.
Я, приветливо, но без фамильярности, – веду её в мои блистающие апартаменты, усаживаю в кресло, на самое удобное местечко.
Мы приступаем к работе.
Я прогоняю на видике нарезку роликов, комментирую, обращаю высокое внимание на лучшие образцы. Пресс-секретарь следит внимательно, отпускает дельные замечания; нет-нет, да и стрельнет глазами по комнате.
Просмотр завершен. Александра Петровна достает блокнот и ручку, чтобы закрепить, развить наши, как говорится, мысли – для его величества мэра.
Мыслей много, но лично у меня они путаются. Я как-то невольно перехожу на критику рекламы вообще и политической – в частности. Александра Петровна пытается что-то записывать, но вдруг фыркает, смеется, начинает рассказывать что-то свое, забавное, но потом конфузится, меняет направленье разговора. Мне почему-то кажется, что Саша хотела похохмить насчет женских прокладок, и мне очень понравились эти её неловкие маневры.
– Есть что-нибудь попить? – спрашивает Саша. – Соку нету?
Я в растерянности бегу на кухню, к холодильнику. Ничего приличного для дамы нет. Я об этом, болван, не подумал, весь в борьбе за чистоту жилища.
– Разведи варенье водой, – тихо говорит Саша.
Она стоит за моей спиной, прислонясь к двери. Я боюсь взглянуть на неё: она, оказывается, помнит, что первейшее российское варенье, матушкино, из смородины – у меня никогда не переводилось.
Я подаю Саше стакан фиолетовой смородиновки, она пьет, глядя поверх стакана своими черными глазами.
– Послушай, – говорю я, – хочу тебе кое-что показать… Посмотришь?
Саша кивает, ставит стакан на стол, кончиком языка облизывает губы.
Я несусь в комнату, хватаю кассету, запихиваю в видик.
Идут мои несвязные наброски к фильму, который я хочу снять давно. Саша первая, кто их видит. Я гляжу на неё и понимаю, что без комментариев не обойтись.
– Понятно, – говорю я. – Что ничего не понятно. Слушай.
И я рассказываю о том, как родилась идея фильма о родном городе. Как она жила во мне, согревая мою жизнь, как обрастала видеорядом внутри меня.
Вот, говорю, представь себе: тридцать минут – и восемь столетий истории нашего городка. Хроника, страницы летописей, мои съемки, компьютерная графика. Сквозные символы-образы. Монастырь на высоком берегу, с колокольней и обезглавленный. Бранное поле за городом, где в четырнадцатом веке тверичи схлестнулись с новгородцами. Монастырские ступени на винтовой лестнице. Монастырские подвалы, где НКВД десять лет выносил и приводил в действие пролетарские приговоры. И, представь, периодически, вид сверху: закручивающийся пейзаж вокруг оси монастырской главы…
И текст. За кадром должен быть текст. Мощный, умный, живой – чтоб не в бровь, а в глаз, чтоб – за душу. Я его сам, этот текст, прочту. Я только написать его не могу.
Понимаешь?
Саша смотрит на меня, приоткрыв рот.
– Так ты, – говорит она, – думаешь, что я смогу… Что я это сделаю?
Она спрашивает с таким непонятным для меня чувством, что у меня промелькивает мысль: с чего ты, собственно, взял, что твой бред может её задеть, зажечь? Вон у неё мэрская выборная компания, сын, муж, и вообще пять лет прошло, а ты всё таким же дураком остался…
– Извини, – бормочу я, отвернувшись, – я просто думал… конечно, для тебя это всё…
– Спасибо за доверие, – говорит она тихо, – я попробую…
И тут словно изменяется что-то в воздухе. Саша начинает рассказывать мне о сыне, о работе, о своих маленьких и не очень проблемах пресс-секретаря. Я тоже разбалтываюсь, выкладываю ей все секреты про телекомпанию, всю внутреннюю подноготную. Она смеётся над моей простотой, мы вместе смеёмся, я смотрю на Сашу с восторгом: как же легко с нею, как хорошо!..
– А у тебя не видно следов женщины, – вдруг замечает Саша каким-то чужим голосом.
Я отвожу глаза. Молчание. Минута, другая. Я встаю, ставлю кассету с «Александрией». Саша не удивляется, смотрит до конца без единого слова. Снова молчим. И тут я слышу какие-то непонятные звуки. Я сижу истуканом и гляжу на неё – как она плачет. Потом подхожу, опускаюсь на колени, отнимаю её руки от мокрого лица.
Ладошки маленькие, теплые, дрожат.
Саша смотрит на меня сверху, слезинки скользят по её щекам.
Знаете ли вы, что это такое, когда женщина оглаживает тебя, мужика, вот так по лицу – и так вот смотрит?
Конечно, я не заставил её ждать ни секундочки.
Я схватил её всю, я завернулся в неё, я растворился в ней…
Я ничего не помню.
Когда я прихожу в себя, слышу: кто-то хлюпает носом. У кого-то и глаза красные, и губы детские, опухшие.
– Что с тобой? – целую я мокрую сладкую щёку.
Саша качает головой, шмыгает носом и шепчет:
– Я грешная женщина… Я бы не должна плакать. Но я плачу…
Она порывисто прижимается ко мне, я чувствую её всю, от мокрых глаз до живота и коленей.
Она так жмется ко мне, словно просит прощения за пять лет, проведенных порознь, за другую жизнь, за любимого ребенка, рожденного от другого мужчины, – за всё, что сбылось, да не так.
Тебе не за что просить прощения, – говорю, то есть думаю я.
Потому что, если я попытаюсь что-то сказать, голос выдаст меня.
– Что? – Саша приподнимает голову. Глаза её, чистые и влажные, смотрят прямо в душу – они тревожатся за меня, эти глаза.
Ничего, ничего, – я молча прижимаю её голову к своему плечу. Пока на меня смотреть не надо. Вот сейчас у меня пройдет какая-то непонятная спазма, тогда – другое дело.
Ничего, молча говорю я. Всё будет хорошо, всё должно быть хорошо.
Что бы ни случилось дальше в нашей жизни, но у нас был, у нас есть тот день в июле, когда Саша, подбоченясь, стояла на пустом постаменте, а я видел её сквозь объектив, – очаровательную и счастливую.
Может быть, всё будет хорошо?..
ГОЛОС ЧЕТВЕРТЫЙ. МЭР
Итак, пятницa, вечер.
Бьют башенные часы на площади.
Восемнадцать тридцать.
В мэрии тишина.
В свое время я уничтожил в исполкоме советский порядок, по которому чиновник, дорожащий своим креслом, отбывал сверх рабочего дня хотя бы полчаса.
Так было заведено на производстве, а производство и советская власть – синонимы, близнецы-братья. Производить всегда, производить везде, до дней последних… и так далее. Вот лозунг наш… и так далее.
Вот и допроизводились. Настал день, когда от нашего замечательного производства остались рожки да ножки. И я не слишком о том печалуюсь. Потому что умерло то, что было хило, так сказать, нежизнеспособно. Рынок выбраковал. Такой у нас нынче лозунг.
Так вот, на советском заводе или в каком-нибудь КБ тому, кто рассчитывал на карьеру, уходить с работы вовремя – дурной тон. Не то, чтобы первый отдел брал на карандаш, – но традиция такая, атмосфера такая – так было.
А теперь – нет особой нужды без толку просиживать штаны в исполкомовских кабинетах, тем более – за ту смешную зарплату, которую мы способны платить. И как только я дал понять, что никто не выиграет от показного рвения, кабинеты стали пустеть через минуту после того, как пробьют часы на площади.
Вот и сидит мэр в пустой мэрии в одиночестве.
Только я об этом подумал, как в приемной – шаги, женские.
Последний пункт моего пятничного распорядка.
Сейчас откроется дверь и войдет пресс-секретарь.
Вошла.
Села напротив, разложила бумаги. Открыла рот, сказала “Э-э”, оттопырила губку и посмотрела на меня.
Начали.
Пресс-релиз о передаче социальных объектов на баланс муниципалитета.
Взглянул, поставил автограф – согласовано.
Дальше.
Как будем реагировать на заявление группы левых депутатов горсовета о, якобы, высоких зарплатах чиновников мэрии?
Как?
– Да никак, – говорю я.
Морщит лобик, чиркает у себя в блокноте.
Я подавляю вздох.
Ничего не могу с собой поделать – раздражает меня эта девица.
Я сознаю, что она ничем не хуже других. Может быть, и лучше. Кроме того, она дочь моего друга, полковника очень секретной службы, – он один из тех немногих людей, которым я полностью доверяю. То есть полностью доверяю то, что им положено знать.
Нет, она не хуже других и пытается добросовестно делать свое дело.
Да, надо признаться, чего уж там: дочка полковника раздражает меня потому, что сидит здесь напротив меня – занимая чужое место.
Здесь должна сидеть – Александра Петровна.
Александра.
Саша.
Сашенька.
Если бы сейчас, здесь, возле меня, лицо в лицо, сидела Саша, – вся эта пресс-секретарская тягомотина звучала бы волшебной музыкой. А какая-нибудь совершеннейшая ерунда, например, обсуждение моей речи на каком-нибудь собрании – в устах Александры превратилось бы в откровение. Я с наслаждением слушал бы её голос, просто впитывал бы её гортанные, волнующие модуляции, не задумываясь о смысле и деталях.
Ведь если правду сказать, я и создал-то эту должность, пресс-секретарскую, специально для неё, для Саши, для Александры Петровны. Все вокруг меня качали головами, сомневались – дескать, забронзовел градоначальник, с области берёт пример, не иначе как в губернаторы намылился…
Невдомек им было, что дело-то простое, – женщина. Влюбился мэр, втрескался.
Всё началось на прямом эфире по моему «квартирному вопросу».
Я пришел на студию с намерением поставить на место, растереть эту наглую девку в порошок. Мы сидели по разные стороны от микрофона, Саша задавала свои дерзкие вопросы, а я тогда впервые почувствовал свет, который исходил от неё.
Я покинул телестудию в каком-то смятении. Подумать только, мы сидели друг от друга в трех метрах, а я ощущал свет, тепло, какие-то невиданные флюиды, они заставляли меня даже принюхиваться, – я не мог понять, что происходит. Может, думал, какие-нибудь духи особенные?
Итак, в моём городе жила женщина, обладавшая даром согревать меня даже на расстоянии. Она ходила по тем же улицам, что и я, но её чудным даром пользовались другие.
Это было неправильно.
Через три месяца Саша работала моим пресс-секретарём.
А еще через год между нами произошло то, чего я желал, чего жаждал с тех пор, как посидел рядом с нею в телестудии. Год – это очень много, когда ты каждый день видишь и обоняешь женщину своей мечты. Ты словно тот солдат из анекдота, которого спрашивают: о чем ты думаешь? О бабе, отвечает солдат. А почему? А потому что я завсегда о ней думаю.
Вот я и думал о ней всегда, но – не спешил. Я понимал, что её нельзя заставить, принудить, просто воспользоваться служебным положением.
Шанс был только – завоевать её, очаровать. Как, чем? Она же рядом, видит каждый мой шаг, слышит каждое моё слово.
Чутье, желание, любовь подсказали: всё в повседневной деятельности мэра, что красит и возвышает его как мужчину, – должно происходить у Саши на глазах. Всё остальное, теневая сторона – не для неё.
Сказано – сделано.
С приходом Саши активность мэрии по связям с общественностью возросла многократно. Конечно, мэр райцентра – не ахти какая власть, не ахти какая высота. Но всё же – мэр старинного русского города, да ещё с тремя предприятиями всероссийского масштаба, да ещё на перекрестке торговых путей. Ездишь в область, иногда – в Москву. Приезжают – из области, из Москвы, инвесторы со всего света. Ну не обойтись прогрессивному мэру без обаятельной помощницы по связям с общественностью!
Так и выпало мне счастье, в командировке, в люксе областной гостиницы. Субботний вечер, проводили москвичей, возвращаемся в гостиничный холл, стоим у лифта, ждём. Гляжу, а у Саши глаза бедовые, какой-то поволокой затянуты. Помню, меня всего прямо в жар бросило. Ну и в лифте я её схватил, прижал, дал себе полную волю… И вот лифт ползёт наверх, я обнимаю Сашу, не могу надышаться-нацеловаться, и краем глаза вижу в зеркальной стенке лифта свои руки, сжимающие её спину, её плечи…
В сущности, это был мой самый счастливый день.
Да, когда-то была молодость, влюбленность, жизнь в семье, дети. Всё это на мне, при мне, во мне. Но самые счастливые часы, яркие, острые, переполненные каким-то распирающим торжеством души и тела, – я пережил тогда, в ту летнюю ночь, которую мы провели с Сашей в люксе областной гостиницы.
Я помню все наши встречи. Да и было-то их – полтора десятка. Трудно мэру и его пресс-секретарю найти несколько часов уединенья. Иногда не встречались по месяцу. То есть на работе – каждый день, иной раз – целый день, а наедине – не выходит, не получается. Работа, суета, одна семья, другая, болезни, месячные – в общем, мука. Теперь, когда я живу совсем другой, спокойной жизнью, я даже не понимаю, как удалось сохранить нашу связь в тайне. О ней знает только один человек – полковник, да и то я ничего ему не говорил, он сам – догадался.
И вот сидит передо мной эта худая особа, полковничья дочь, те же слова, что и у Саши, а я не чувствую ничего – ни тепла, ни света, и терпение, главное свойство градоначальника, изменяет мне, потому что – нет сил терпеть.
Познавший свет – не смирится тьмою.
В общем, я ей выдал по первое число.
На каждый городской роток, сказал я тихим, сдавленным от злости голосом, – не накинешь платок.
Отвечать каждому вздорному обвинению, – значит, оправдываться. Оправдываться, значит, – уходить в оборону.
Вам ясно?
Ясно, – кивает она не столько испуганная, сколько удивленная.
Чего он взъелся? – так и читается на её наштукатуренном челе.
Но ведь надо как-то выходить из положения? – осторожно уточняет она.
Из плохих положений не бывает хорошего выхода, – швыряю я блокнот-ежедневник на стол. – Следует просто не попадать в такие положения.
Вам ясно?
Ясно, – кивает она, уже совершенно сбитая с толку.
Ну да ничего, пусть помучится на отдыхе. А то ведь за порогом мэрии все мысли о работе улетучатся из её накрученной головы.
Пресс-секретарь откланивается.
Я киваю ей. Снова – шаги в приемной, в коридоре. Сейчас она позвонит отцу, будет на слезе выяснять, почему мэр наехал, как это всё понимать.