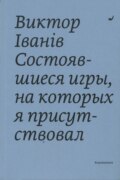Виктор Iванiв
Конец Покемаря
* * *
Началось христианство на полке. Там, где прежде стояла новая офтальмология с упражнениями для глаз исцеляющими, оказалась такая же книжечка – из тонкой бумаги, такой тонкой не видал прежде, и в фиолетовой обложке, коленкоровой? или из искусственной кожи. Начал читать – не понятно ни слова, но каждое слово – словно свыше приказ. И читаешь на десять раз, все равно не понятно. Как же я могу не понимать, а уже твержу в голове? Грозные слова, особенно про меч, выходящий из уст, не мир, но меч, и про оставь домашних твоих. А когда оставил домашних, стало ясней – помогли и картинки из комиксов, мультяшный образ создав, но только понятно, назад дороги не будет. Отвергнуть надо себя. Но поставил на место пока – на полочку – где ларчик – гроб хрустальный, с подушечкой, а в нем украшения бабушкины, часы старинные, жемчужины, перстенек. Верить надо каждому слову из книжечки, да и прежде ведь верил, но вот в правдивости усомнился книжек тех, что до этого открывал.
НАЧАЛ КУРИТЬ
…
СТАЛИ ЛЕЧИТЬ
II. Солнечный и Гибралтарушка
Расцветшая кожурка помоев, прослезившихся даже тонких мешков – не тем мужиковатым и жутковатым настоем эмалированного ведра – была подкожной жизнью сгнивших чувственных людей. И эта искусная чувственность, любопытство поползновений, подметанная заплатка на плеши колен с приплюснутой и заискивающей улыбкой скрывали грозовое нытье, бередень нянек, циклопедию промывания допросин простенков и измордованных кум. На жмуди разбивалась похотливая роскошь, страница рассвета, и за ними гналась с тетрадной мухобойкой хвостатых жгутиков, картофанов в мундирах и жмурок. Калач посыпной входил в соседний подъезд, а желе вскрикивало от ужаса. От съеденного не было сытного тепла, от припека не было попрека, что она умерла. Голубика цвела, повилика вилась, а кочерыжка позади всего плелась.
Нет ничего лучше сонливого утра с гулкими головой солнца и подошвами земли, когда миражатся дымчатые потягушки сна и тусклые, как никотиновая паутинка, мысли. Лучше этого утра только утро, когда просыпаешься чумной от лежания на неудобных детских стульях импровизированной кровати или на неловком верстаке каптерки. А лучше этого утра только утро, обремененное тяжелой головой легкой, улетающей, как облако ночи, сладкой, как нектар. Лучше темноты бдения нет ничего, разве это солнце, ярко бьющее в окно. А лучше этого утра только августовский прохладный день, проведенный за чтением приключений, и прогулка до почты, которая приносит книгу, где приключения эти не только уже распеты на все лады, но и обещают сумеречное забывание около пятого часу.
Почему-то одна деталь, как блесток блесны, как рыбонька замирает в натужных тупиках воспоминания: жарит сандалии, гудронные отпечатки таких детских утех, десять часов залегающих на верхних полках шкафов без малейшей пылинки, по которым вечное солнце смотришь, и впрямь ударяет в окно – в окно витрины утреннего магазина с политым асфальтом. Почему-то она деталь только остается, как кусочек мыла, а вокруг большие бензиновых разводов пузыри. Лиловые, пунцовые, как в прочитанной книге с забытым автором. Когда же читаешь эту книгу, густо измазанную чернилами ночи бутербродной, с картинками про Кубулу и Кубу-Кубикулу, – то сказка – аспириновая, чувственная, небывалая даже расступается веселого леса, и тянется до самого Гибралтара, где солнышко уходит в море, булькая таблеткой в подземное царство, из которого есть обратная, короткая дорога, одно мгновение возврата, хотя туда клубочку катиться далеко-далеко, пугаться страшно, до обморо́ка.
Вот так от этого возрадовавшись возврата или взрыва, в разрезанных красненьких глазах, стучатся в улицах ставни и тумаки, когда бежишь в крап аллей и знакомых беседок, арацп бакалей и убийца соседок, и некогда затылок почесать и прикинуться олухом царя небесного, угорелым актером погорелого театра, как звали чьего-то еще дедушку, вот тогда дотумкаешь, бумкая головой по каждой ступеньке подвала, вися на рукавах-кушаках школьного пиджака или теплой, как молоко, белены пижамы. Но возврат будет, и будет прямой, короткий, как выстрел в стекло, прямой и бесповоротный, куда бы ты ни забрел, гибралтарушка. Будет возврат со стороны гибели, с далекой той стороны.
Пылающей тропой туда, где нет возврата.
Беседа летела, до уморительных маленьких рожиц, в двух лицах: Февраль и Январь, беседовали чинно, когда мама и тетя являли античность, трагедиянками масок, в которых ожить не успеет и стабильное, слитное сочетание: когда нас не будет. А пока мы есть и этот разговор протягивается как перехлест захлебывающей волны, как журавлиный косяк, как мармеладный босяк, как вкусный обжора, и как памятный синяк, и как беспамятный в сенях. Разговор с выпученными глазами, которыми угрожающе посверкивали, все меркнет в подслеповатости надкрыльев дрозофил. И отламывая гипс, говорили они, рассудочно протягивая все проеханные станции, до боли в глазах, где трагически жили бабочки больших гор, ручьи с мертвой водой, в которой статуя оставляла одну обмытую ногу. Где за некритичной жалобой в белках негритянки Соджорнал бились писки летучей мыши, обмывались ноги покойниц, бессонницами колотились жмурики раздоров, сожженные молниями пожаров дома, ранняя смерть, больничный уход, и наворачивающиеся слезы каждый час, и сопровождение душ в метемпсихоз и в психоз математики, и нахлобученные подушки обстановки не попроведанной задачи, от которой не помнилось начала. Антигона могла бы позавидовать терпению и живучести впечатлений в исполнении этой Жилички, у которой на окончании бдения бились чертушки самоубийства, но она отряхивала их, засыпая в прохладных комнатах полосатого или клетчатого домка.
Ничто не передает чувства Ореста лучше, чем старинные фотографии. В их продолженных еще живых взглядах, да и в тех, что физиогномика уже причислит к лучшему свету, видно все, что живет в тот момент, и эхолотская перспектива разверзнутых дней. Вот мама девочкой, и в этом нет никакой рассказанной истории, ни довоенной, ни послевоенной, в этом есть только моя любовь к ней и, кажется, встречный ответ. Вот мама в шляпе, экстаз лучистых глаз, состоящий в подлинности почти апокрифической, и шляпа, дающая смешной и важный поступок. Но это падающая в обморок завеса прошлого, персидского характера занавесок, ничто по сравнению с постоянным присутствием и сном наяву в телевизоре, постоянным существованием, которое власть и семена зрения, ослепление и аффект страдания. Не то чтобы я так уж собирался предать культуре театра то, что дает мне мамино время, но нет ничего явленней этого театра, этих масок, этих паролей, этих судилищ, что больше мне бы напомнило кающегося Сократа или царя-жреца. Мои Микены, мой Кносс лежит за тонкой белой дверью, подобной шторе, которая запускает по потолку чайную куклу своих путешествий.
Если вы разглядите ее в череде прыгающих в автобус старушек, то увидите тень утра, и белых комбинаций, и черных чулок, как она пробегает, не успев придумать обман, и то, что есть без обмана, – самостоятельное стремление и материнскую скрытность, которая так легко распадется на клавишах печати. Это будет вам открытый урок, который может быть раздавлен колесом троллейбуса или зажат, как плюсна, его дверьми, – то время, пока не было мамы, покажется вам, поспешающим на работу, загулом лимба, отгулом бинта, спеленавшего вас и увещевавшего крики.
Когда со своими смарагдовыми и смрадными глазами заходит соседка-ухажерка, собирающаяся на очередные скандальные похороны, на которых она сможет только выть, вся в подтеках помойной кожуры, избитая фингалами глазея, я вспоминаю тех красавиц спящих, тех принцесс на горошине, которые используют другие тени, порошки и пудры. И тут же вспоминается, как халдеянское небо, с бирюзовой, карминной, оранжевой, как глаз голубя расцветка старых поверий, как катается, встречая ветер, солнце и луну, крестьянский сын из татарской сказки, как обманывает их, забирая с собой и огненного коня, и невесту, и жизнь вечную в пенной чаше. И точно, оранжевые мартовские огони уже шпарят в окна соседнего дома, а сказка звучит в вещании радио-точки. Охапками насыпается вечерняя листва, и кто-то из нас – мама или я – спит у ствола, а кто-то лезет в дупло большого дерева. Подкарауливая вечер, начинаю в темноте читать свои мысли на белом экране, все лучше, чем горячими глазами дремать, а верней, угрызаться, терзаться прошлым, или новыми обидами, или невыполненными – делами, незакрытой форточкой, в которую пролезают воры, невыключенной конфоркой вечного огня, незакрытой дверью, непредупреждением об опасности. Так начинают распускаться и поспевать тревоги, самое новое из чувств, когда омолаживаешься, обмываешься сам изнутри, – и в тебе живет пастораль целого полугодия, а стенки дней тают, перегородочки растлеваются, голоса вчера и позавчера распеваются, и это пострашнее скрипа ракиты, это настоящая пастораль – когда на том свете состриженные и потерянные вещи, неподшитые в кисет ноготки не можешь найти.
Без сопровождения, без второго, с которым, в разные стороны сидя, встречаем рассвет, как Кузяр и Енойка, без совпадения где-то еще, на какой-то полянке или платформе – мысленного совпадения – окочуриться можно и нет спокойствия – когда не раздается знакомый шум от мытья посуды, щебета по телефонной линии, да и просто уверенности, что кто-то там есть и он сохранится навечно там. Всегда уважает этот страх человек и высшей маминой оценки хочет, строгой, с узелком губ, долго обдумывала когда. Такой халатик цветной, как райские деревья, как хвост жар-птицы. И тем более пугают и удивляют тени и светы, окружающие сон, мелькание картинок телевизора – как будто транслируются мысли, – прогулка по саду, поход на горку, плеск весла речки, то, на что глядит, спит наяву, не понимая уже связи между телевизионными подушками, на которых очередная история цыганочки, и по ним она учится. Входишь и прислушиваешься к дыханию, и глядишь, колышатся ли плечи, и потом тихо гасишь телик, и улетает птица сна, как тень поправляет подушку тебе.
А те, кто ходят в инфузориевых туфельках по коврам нашей крыши, беспечно могут разгуливать, вытаптывая нам половики ковров-самолетов, и вот эти их оттопы и оттопыренные ужимки мы потом рисуем вышивкой на тканых платочках, которые, как огонь взмахов рук, провожают и прощаются с нами. Это все то, что нам снится, о чем мечтательно голубит и холит.
И пока спит женщина-труп, настукиваю по клавишам незамеченную историю жизни. Или лампа раскрывает жухлую ниву умирания, наэлектризованную жизнью предсмертной. Так и читаешь книжки, в них столбы света, колодцы подъездов, или вот эти английские пластинки. Я, Тони Дакота, храбрый астронавт из Миннесоты. Потом всю рухлядь и картинку «Рукодельница», которая глядит со стены: женщины старых времен протапливают комнату, где утро заходит. И эти комнаты – в них и живешь. Вот мама уехала, бросив меня, и называю ее предательницей, она ведь всегда должна быть со мной. И вот подруга Таисия и друг ее Люпин, или Лучинко, – и они затаскивают пианино черное, в можжевеловом молодом раздоре. И каждый из них угловато вечен, хотя увяли все цветочки, которые ставили к их карточкам. А с этих карточек они глядят на нас – это для них как один глаз для трех сестер, и нашу жизнь они не смогут прочитать, потому что глаз выколи, уже смеркаются страницы, но все равно силишься, вглядываешься. И даже если не дочитаешь, бабушка заговорит и расскажет, что потом будет. И тонюсенький комарик, живущий один, будет нависать и прокусывать сонные щеки.
Или как мы вечеряем в поезде, как шепчемся, и плетется, наступая на обшлага, старая жизнь, которая была когда-то кудрявая и очарованная самой местностью, где теперь протекает, – место утра, пробуждения ежесекундного, бодрого. И панегирик о нем в графине, на дне которого петушок, и это тот же петушок-леденец, и гимнаст на дощечках. И ствол этой жизни, на которой мы развешиваем тонкие собачьи языки – лоскутики, ствол этой жизни проходит там, где батарею держишь и плиту.
Так вот такими пробуждениями, пережевывающим жовом твои жалобы, когда литое солнце и ты сам олово, – пробуждаешься с петухом содроганий каждые двадцать минут. И обжигаешься Жигой от становящегося мира, и солнышко каждые пять минут встает, пугающее, и в новой комнате, то потом это настороже откатывает обратно тонкую снежную крупу-посыпушку пасхальную – и тени твоих друзей, и сам как тень – или синий февральский овраг, или как тащишь новый двуглавый тяжелый монитор – по которому – сам как помеха летишь, – и это усилие рождения в сжатии сердца, в мышце его – но она – как тряпочка ветшает – и выцветает твоя воля, и тогда уже начинают пугать сумерки догов-годов – осень, раскрывшая инкрустированную шкатулочку, – желтый свет, валкие ветви, и чаща оказывается так близко, только ляжешь на бочок.
И потом косматое руковолосое солнце, ночная светящаяся чаща поворачивают на лето, но назад, все мгновенные памятки как себя помнишь, и они бегут, и вот уже нагружен бессонным коробом – и истончается мир, лишь закроешь глаза, мнет скатерку, и вот тогда начинаешь совершать бессмысленные поступки, которые переска(ж)иваешь, точно в деталях, но так режут слух они, эти электродные детали, и то, что рот не закрывается у нее – ты пробегаешь, не чуя эту границу между тем, что внутри у тебя, и тем, что кажется снаружи, так пересекаешь ты, не считаясь, чужие тайны под страхом смертной казни и являешь в своем рассказе то, что видеть люди не в силах, да и не должны. Бдение чумовоза зови это, и оно позовет тебя.
Ласковая пластинка сна с шуршанием уползает под шкаф, но доносится новый щебет, кричащий о предстоящей разрухе, воинственный голос, мама будит, и до тех пор, пока не проснешься. А ты откладываешь какие-то две минуты или пять – ведь причин к пробуждению вроде нет, а шапкозакидательские обязательства давно почили, – именно тогда ты ощущаешь лучше всего свою древесную природу, музыкальные длительности понимаешь, но обрываешься с ветки вниз и наверх, как, корчась, туда заползал.
Гремучая змея под дудочкой твоей, горгона в твоем щите еще бы и пела, разрывая батюшки-светы на четыре стороны. В солончаках, на приталенном сукне болот ты отдохнешь, в обонянии ловя и пчелиный рой, и вертолетики кленов, и онучи запахов, избывающих выгребные ямы. Но вот – солнечный день, и Жиличка заплывает по самые зеленые и коричневые ветки дальних стрекозиных светящихся бережков, как на коврижке потом поднесенной и съеденной со слезами, как она плавала, шелестя элефантами груди, и как шли потом мокрой верстовой тенью, и как порхали по запыленной листве, изумрудово разбивающейся под ударами молота дня, молота, что разбивает дни, вытрескивая щели сбоченных часов, из которых сочится уже сумероковая, чаевитая, винодельческая и отдельная твоя жутота, когда осознаешь себя пропитанным насквозь и вместе с тем насыпанным бровками на облачке кисейном, исплаканным и воззванным вожатаем, что был за тенью, в Аиде, и вот солнечными часами возвестил новый час, пробил колоколом далеким, и птицей высокой, кондыбающей на плаву, завис, и в брюхе барабана пробил, полдень в головах уложил.
Пластиночка «Жиллета» прикарманенная обещает самодовлеющее бритье с риском порезаться. Лучше пилюли успокаивающей не выдумать даже для крокодила, чумодана, который расплакался бы крокодильскими, нильскими, чумазыми слезами над пластиночкой. Винил бы только себя в том, что зашитая в записке кудреватая митрейка ноготков, что сорвал, слезок кукушкиных, что куковал, не запела бы. Над животом синекастым круглыми разводами ламп, как вождя оплакивали тутовником трамвайных гудков, так вот и в самом массовом пузике звучали бы эти оргиастические, как гроза, как рыдания, слова. В самом массовом пузике раздалось бы роптание новорожденного крикуна: с любовью к малолетним, мимолетным успокаивающим, как королевский спиритический сеансик. И что было бы в этом содрогании, рвущем горло стрункой, в этом были бы отголоски содроганий, но отодвинутые на лезвие рассвета и утра, отступающего вспять, а был бы заштрихованный половичок, с персианками, рассказывающими, рассказывающими квадратиками, и даже сильней, так что облегчения не наступало, а только анальгиновый, затушеванный, завшивленный фокус-покус, осоки покос, как пляска с комариком – только песочные часы, взбадывающие вам зенки в самый полдень, полдень без упокоя, где Осторожность выходит гулять на лужок, бесконечно повторяя квадратуру свою, в которой радость – толпы и ваша, и за которой выстрелы выстрелы выстрелы выстрелы, чтобы только чудесную головную боль прогнать, хмель убийцы. И всех убийц, которые торжествуют в этих выстрелах у Дакоты, выстрелах у Дакоты – торжества всех убийц этой головной квадратиками расшитой боли, болек и лелек не убегут из этих двух мертвых глаз. Выстрелами Дакоты, голосом любимой собачки, голосом застреленного Енота, голосом умершей матери, погруженной в Тихий океан, оттуда, выстрелами Дакоты, покойся без меня, Великий Океан!
Зонтичный паутиновый протекает. Так спал одноклассник, и снилось ему, что стоит под зонтом уже по колено в воде и клюет носом, а в это время потолок раскрылся, и из люстры потекли потоки воды прямо в кровать, в ставшую мокрой постель. Так и мы пришли в квартиру, а там внучатая тетя бессмысленная сидит, а по стенам сбегает вода. А когда не знала, как выключить плиту, и спала на столе, у раскаленной лежа, так вот это шпарило током сильнее, чем когда попила чаю с покойными братьями, а дверь забыла закрыть за ними, и высадила дверь во сне. Проснулась, стоит над павшей дверью, предшествует, предваряет, воспряв, на дальнюю дорожку. И действительно, шли с внучатой тетею по болотцу, и ругались, вот ругаю и понимаю, что она уже не в себе, убегаю, кричу, ругаюсь и вдруг понимаю. И приходим по белой пыли и по сумеркам уже в дачи, и там вечерим. Так вот туда она повела бы меня, и однажды водила уже, но не то это все.
Зиккурат крыльца раскрыли, обнажили красные кирпичи в большом грозовом здании, где черной бахромой зонтов спускался в начале теплого июля за черными гвоздиками, высокими, четыре штуки, красивые, подносил цветы к тумбочке-алтарю. И в жмеринках платьев вдова веселым голосом мудрой старушки, так, которую видел с мужем еще под косым слепым дождем, так она проходит как ни в чем не бывало теперь, делая допущения в мой адрес, но про себя. Опять тревожу его память. Но родители доглядывают детей, и мы тут эту вудуистику не будем разводить, и так все в разводах уже, занавесимся на ночь.
Вселяют прохладные дни в наши помещения, сидишь в тени и глядишь на соседний солнечный квадрат, а в нем и трамвайные перегуды, и погоды октябрьски желтые, и столбы пылевые, где был человек, просеки счастья, неги, так в этот квадрат, как в желтое окно, глядишь, и там силуэты твоих – за бранью и руганью, за кипятком в стаканах, за мирным падением в синодальность, китаистику, кутай, кутай в старом красном куге.
Так вот набухала тогда гроза, и тусклую красную лампу зажег, и читал пылевики страниц, как кто-то бегал впотьмах, и любовался красотой рож, отвратительными которые утром ему казались, и впивался в себя самого, как мужской поцелуй. И вот полился дождь, и лампа качалась, и забывался в тот миг и в другие потемки, в других комнатах погружался, когда летом темнеют деревья, гроза. И ткнувшись кутенком в ту глубину непроглядную, когда подмывало рыдать тогда, а сейчас, напротив, хотелось сладко посапывать, но не до глумления над этим, не до кривляния, а так, по-хозяйски распорядиться грозой, из которой выплыло светлое небо, прояснившись. Так вот и ты проясняй свои прописи, на которых выдавлены твои – тюфяка, фетюка, картофана в мундире, как темными вечерами, чтобы стали те чернила гравировкой, которой только поглядывать, да смаргивать, да вздыхать, вот в каком побывал подвале, под которым все ходуном, вот что вынул из шкафа, вот что ховал в мешке, вот тот горячий горючий камень, а вокруг земля ходуном, и ухабами этими ушибленный навсегда, вот так с утра вспоминается это, только раскроешь глаза, Семирамида, словно проел глазами бумагу, словно хобот раскрыл цветок, и все это распустилось, жутиками расцвело и мгновенно улетело, как не было, в несознанном пробуждении забывать прикосновением ласковым к тому, что Солнечный приголубил тебя, и вот разнежился ты уже, и снова утро, и окна у тебя на восток.
Так, бывает, напугается мать, слушая радийные песенки, отвлекшись на себя саму за посуды мытьем, и так в этом соприкосновении словно бы открывается книга, и за челкой облаков сдутых видишь, что ты одуванчик, скафандр, кентавр, и царь Минос учтет тебя, а боженька только от проказливого отмажет, и заголубит вновь Солнечный, как двое не могут разойтись, мотая коняшками голову влево-вправо, и тогда вот раскрывается книга, у которой только есть только прямо, а нет право и лево, и видишь и себя, и маму с головы до ног, в омуте световом и упавшими – это Солнечный посмотрел вам в глаза.
И пробуждается под лампой, освещающей полнеба, бредущей и спускающей на шторах вновь сказаний и дальних путешествий комнату на подглазьях ночи, которая оживает в томленом свете, в ярком свете комнаты, такими, как видел ребенком, и нашептывает на ночь сказку, которая есть только скатерть той страны, что видно из-под стола, куда уползает клубочком котишка.
А за тем столом какие люди, и что за речи ведут, и что прихлебывают из чашек золотых, только с замиранием сердца подслушивает дитя, и проведать такое может, что потом расскажет только как взволнованно, исповедуясь взахлеб, и трясясь этим, и забываясь, проговорившись.
Снилось солнечное утро в лучистом саду. Под утро приснилось, и легкие неги безветренно мигали глазами и смехом, как клонятся вишневые ветки, и над ними птичник. Меня не будили, позвонили сестре, какой ставить памятник. Потом пришли, и изобразила Жиличка мертвую куклу, закатив глаза темные и тупые, и очнулся только когда отчетливо произнес баби-Манино имя и отчество, какое надо написать на новом памятнике. Напустило на небо тучки прохладные, сени и купы поразвесило. И пошли в зоосад, где орангутанги плакали и утешали друг друга, и тень была в черных клетках, и в кустах, и в пруду, где от ивовой воды болели глаза. Гепарду там выстроили избу, и он в эти хоромы заскочил и там сидел, только не жег свечей, а варан был не такой, как из Комода. Маски вождей надевали и первосвященников Мандрилы, пони были просто грустны, кабанчики напомнили жабров, а красный ибис был маленький. Колокол персидской юбки она несла, и думалось сообща, беседа была длинная и прервалась лишь когда довольно близко отдернул лицо, вспомнив словно что-то. Подготовил рюмку серебряную почерневшую, чтобы аптекарем друг стал туда яды дозировать. Но рюмка оказалась памятью семейной, и с ней нельзя оказалось расстаться и яды дозировать, чтобы друг, как врач, врач, как друг тебе говорю, чтобы он для нас ни сделал, хотя уж и так сделал очень много, верней, что никогда не расплатимся. Сжевывая фаншетту, запивая белой портвейной, не соображал ни вкуса, как отравленными ломтями питался. И Элизий елисейский в сумраке потонул, да ночка подошла, а такой райский сад утром насаждался, да заспал его, заел, запил, не приголубил Солнечный, и вот ночку коротаю, красный ибис был грустный, нет, красный ибис был маленький.
Шафранной кожей выходила и принесла яблочко, сарафаном накрыла с головой наступившего августа, словно голову попирая ногой. Прогулка длилась, пока тревога не обломилась и не подняла лес за собой. Чащи веток, елей кисейной барышни, и высосанный зрак хоботом пчелиным – хмурилась-жмурилась, а до этого снилась утрами под сладость пробуждения – морфема такая и фенечка, да денёчка красноватыми пузырями сафьяна в сумраке прихожей зажгла электричество, и отказали, закоротили косые дожди. И улетела далеко, не упала только, в самолете выскочкой колосья пошевелила. А потом гроза молнии, и сгоревшие вмиг под деревом, потом в дневном свете уносили, показали пятки только их – белым-белы. А так парочку сожгла гроза.
Грозку заспал, и опять под утро уже с другим лицом белым, как простыня, сладко захолонула и из всех прорубей замиловала, а сама была как раскатанное тесто, хлебное, с кругами, осыпалась мукой и сжевала мертвый и сладкий уд, как будто бы заплатившийся изумруд, дитенком, а сама завтракала, и в улицах напротив бродил слезогонный, но виноградный слезоточивый, и чикой-брикой сказала так и надо, а как исчезла, пробуждение наступило. И маячили опять утренние предгрозья, и населили тенями заполированных глаз ощущение наутек. В сумраке в первой открытой газете сообщили о смерти Марии, и глумящихся над ней, и протягивали ноги, и вытягивали время суточным пайком, как в вагоне, до пирожков, и когда вышло солнце, открылось, что в этом квадрате солнечном, где спят пылинки, и что вот этот столб водяной-кровяной на перегоне, умерла Мария, и погребение сегодня. Ждать поезда вот так утреннего в наступлении лета, а вот так вагончик и канул под землю, не доехал до своей станции ты, и теплые руки, и теплые груди, вдруг забито горением плачей, а через тебя тянется эта степь поездная, так второй раз за год явилась второгодница ночью, ящеркой на старом подоконнике, и тогда расплылись тенью августа да под юбкой его, хвостатого, двухвостка затаилась, да как электрическая двухвостка всегда ты была, померанец, персиковый теплый липтон, лакмус и зорька нефтяная.
Вечерний летний поезд, заглянул в вагонец, провожая Жиличку, а до этого и после спал-спал, засыпался, и опять началось роение дня, нелепо-далеко, и мамина тень брела с ней, как у цыганки с тамбурином, и пела она песенки, сама не зная о чем, и выше головы выросла трава, и потом одалживала свой шарфик возле дома соседке, и да опять этот август, когда провожать на поезда, когда опять остались одни, и вновь вспоминать бабу Маню, ехать в автобусе, с темными шторами, как на катафалке, медленно-медленно, и город как вечный огонь, живой, солнечный, а ты возвращаешься и не можешь сказать, какой год на дворе.
Жиличка на поезде в нежном солнышке, и сам понимал, что рай где-то внутри, от сладкого вина или еще от чего, и рай будет таким, что то, что ты воображаешь вокруг тебя, уже неподвластно тебе расцветает, волнами и лучше, чем во сне многоочитом, и в солнечном грустняке напротив, в автобусе мама, мы едем вдвоем, и солнце поет в тебе, а так воздушные поцелуи и сладки плоды, и кущи в цвету под возвышенным сердцем, и лучше того сонного и искусственного рая тот рай, что рассеивает дней тревожную пастораль, да живых рай, волшебств и яств, семидольных блаженств, пустолаек и бережных зим.
Лучше Евангелия, с чудесным выпрыгиванием из тюрьмы, с размыканием пут, с бури крушениями, плутовскими и шпионскими подвигами, хотя тот рай особо под циклодолом открыться может, когда белокурую Лорелею хочешь, и объедаешься сладостными хлебцами эйфорий, не рай то, скажете, а кайф, а рай – это когда кружатся силуэты в садах, и с каждым кивком головы, с каждым расхристанным шагом открываются сначала тенями, а затем силуэтами, а затем живыми фигурами, свободы неги и ласточки, словно все прочитали Кубулу-то, и уже вот он воплотился, хотя плоти-то и нет, истлела она, как конь Блед топчет ее, белесый то есть, из незнамо куда, а ты где прячешься, книжка или, вернее, чтение ее, – вот где рай, только настоящую книгу уже не прочесть тебе, все одни выдумки, а басенного меда не отведать. Вот уже бьется маленькая матушка-смертушка, грозно маша кулачками, и вещает закон в своем помутневшем хрусталике, вот не лотосы, молодильные яблоки будем есть, да и был уже рай, а теперь только кайф, пусть даже больше кайфа, а оглянешься даже неделю назад из-под вымени бледокравы – и то рай был уже, что прошло, стало мило, милует, и то, что минует, – то смерть, а то, что мило, то уже тебя обмыло, речки смерти в денек записать.
Любрик, Дюдик и Пудик – это твои котяточки были, змейки полосатые заползали в брюшину, которая отцветала уже, и, щебет от шепота не отличая, ручьями текли твои глаза, словно о смертный ствол ты прикасалась чубом к нему, задувая наверх одуванчики-волосы, так как сметана была челка, и красных быстрых теней на щеки, и скороговорка прыжков, лягушечка сбросила кожу, а загрызла совсем лилеей без запаха, без волглой мерзлотной телес перепоя. Так заглядывался в ожидании и испуганных дудок зрачка, так они таяли, прядали, охапками в переносьях дышали осенне, так ветер в квадрат заносил, и сверхрайское, сверзнутое в долины лилейной лоз, и светы и сапы, и если бы заглянуть дала за спину: что там, как за тем поворотом тропы, туда где нет возврата не склоняла б воли узнать, понять и принять несуществующих, и приветить озерной колдуньи другой садовую челядь.
Время сбрасывать кожу, смеешься даже шипя, кожа дышит, и начинается сбор винограда, а ветер последнее носит тепло с воскресного солнца. В ядовитой майке каталонской ходить уже холодно, все ветшает, шатается корешок книжный, застежками зашнуровывает сапожок. И глазастики, и барвинки сменяют наряды на тафту и травленую бронзу, которой ломать стрекозиные крылья и варенья янтарь. Теплым морем купает тебя плодородия морского ложе и повитый зрелыми давильнями, растоптанный ложный циссус лиан. Уж вот оно, солнце, прошло Гибралтар, уж скоро бабы Маруси моей бестемьян.
14 августа встретили порознь с мамой, обнаружившей поутру стограммовку Кина. Угрызения как те две мушки, что зигзагят под старой потускневшей лампочкой на наступившем дне, с футбольными коленцами, в новой ядовитой майке, – которые радость приносят, и в честь бабы Марии, как думалось. Но потом тяжелая дрема перегретой башки, и, глядь, сидит за столом соседка, которая голодает, и мама ее подкрепить решила. Вот так и вечеряют днем с этой соседкой, которая строга обычно, скупа и почти не выходит, а теперь еще затопила весь подъезд, родилась в день рождения Пушкина, и мама запрещает мне с ней разговаривать. Вот так вспоминают без меня, а соседке мама соку не дала, сберегала для памяток наших. Но вместо них судилище, требование клятв памятью бабушки. И отдельно живем теперь, вот отрыгивается стограммовка. И расшифровывает мои скрытные часы мама. А сегодня поет и плачет, я хотела тебе рассказать, как мы жили в войну в Казахстане в экспедиции. Сухонькая, и не обиженная даже, а потускневшая, уединилась с собой и заперлась на халатик, которого рукавами то песни лить с неба, то руки вязать. Нет у меня друзей, и ты не пойдешь со мной.