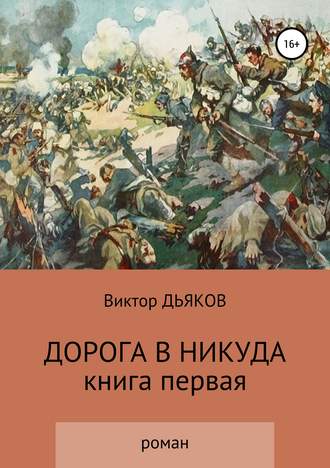
Виктор Елисеевич Дьяков
Дорога в никуда
Приехавшие усть-бухтарминцы разошлись по домам, а вот александровцев, березовцев и черемшанцев с вороньевцами разобрали по домам родственники и друзья. У кого таковых не оказалось, станичный атаман поместил в фельдшерском пункте, организовав питание и уход. Тут же в поселки отправили верховых с известием, чтобы родственники присылали в станицу за своими ранеными. Уже к вечеру оттуда стали прибывать первые подводы, а утром следующего дня приехал атаман Александровского поселка Никандр Злобин. Он узнал, что Иван последний, кто видел его сына живым, был Иван.
Что мог рассказать Иван, не посмевший сидеть в присутствии убитого горем отца и стоявший перед ним на своих костылях почти по стойке смирно? Что был бой, ворвались на батарею, что хорунжий Злобин спас ему жизнь, зарубив красного артиллериста, а его самого в следующую минуту срезали из пулемета, что похоронен в братской могиле, куда похоронили всех казаков, павших в том бою под Андреевкой. То, что в ту атаку они пошли из-за него, что не прояви он инициативу… Этого Иван сказать не смог, ни Злобину, ни другим родственникам погибших, приходившим к нему как к командиру узнать о подробностях гибели своих близких… Хотя, конечно, они и без его слов все узнали. Но его винили не за ту атаку, а за то, что не привез тела погибших станичников, что дал их похоронить, как это было принято в дивизии, в общей могиле и отпеть дивизионному священнику, отцу Андрею, сотворившем это священное действо, не совсем по христиански, да еще с маузером на боку, одетом поверх рясы. Он оправдывался, что де сам лежал без движения и не мог ничего сделать…
В церкви сначала отпели умершего в пути следования березовца, а потом несколько дней служили панихиды по погибшим. И хоть Ивана никто из родственников погибших вслух не винил, он, что называется, казнил сам себя. Это поняла Полина и стала энергично отвлекать его от невеселых размышлений. У него была всего лишь сломана нога, в остальном его организм уже оправился и функционировал вполне нормально. На это и делала упор Полина при лечении его «моральной раны». Ей пришлось немало постараться, чтобы ласками и красотой своего тела заставить Ивана думать прежде всего о ней.
В разговоре с тестем Иван извинился за то, что не понимал осторожности Тихона Никитича, его стремлений всеми силами избежать участия земляков в братоубийстве. Об том же он прямо сказал Полине:
– Прав твой батя, десять раз прав. Я там такого насмотрелся. Все что на германском фронте видел, никакого сравнения. Свою же страну, как рубаху ситцевую с двух сторон ухватили и рвем, жгем, терзаем. В Семиречье ни одной станицы, ни одного села нет, чтобы не разорены, не разграблены, да не сожженные. Все друг дружку ненавидят. Не знаю, как дальше после этого вместе жить будем. Ведь сейчас вся Россия вот так же, сожжена, разграблена, мужиков сколько побитых или калек, бабы иссильничаны, дети осирочены. Вот в станицу нашу вернулся, как в теплый дом после пурги попал. Как здесь хорошо, покойно, как и не было ничего, на колокольне звонят, детишки в школу ходят… Конечно, не как до войны, и вдов вон сколько, и обеднели многие, и казаков сколько помобилизовали, но разве сравнить с тем, что мы там повидали. Там ведь не столько грабят и убивают, сколько души людские губят. И они, те люди с погубленной душой, уже не будут боятся другие души губить… Все это беззаконие, жизнь такая, она ведь только для таких как Васька Арапов в радость, озоровать, варначить, сильничать, убивать и все безнаказанно. Дурак я был Поля… я ведь тоже про себя Тихон Никитича чуть не трусом считал, а он ведь сколько жизней спас. Если бы не он… Ох не знаю, может быть уже бы и тут все горело, и кровь лилась. И я тоже хорош, геройство показал, людей на смерть повел… Зачем, кто меня подначивал!?…
16
Когда во второй половине апреля встал вопрос о пахоте, Тихон Никитич лично обходил семьи казаков оставшиеся без кормильцев. А таковых насчитывалось уже куда больше чем год назад. К тем, что не вернулись с германской войны, добавились еще с прошлого года трое погибших первоочередников в Семиречье, и один из сотни того же 3-го первоочередного полка, расквартированного в Омске. Этот казак погиб в декабре, когда взбунтовались тамошние рабочие и пытались захватить склад с боеприпасами, он был «снят» будучи часовым у того склада. Эти потери для столь большой станицы как Усть-Бухтарма, были, в общем, не велики, если бы к ним не добавились погибшие под Андреевкой. То был уже чувствительный урон. Тут еще подоспел давно ожидаемый приказ о мобилизации казаков 2-й и 3-й очереди. Тихон Никитич оттягивал его выполнение, пока было можно, чтобы хоть успели отсеяться. Большинству семейств, оставшихся без кормильцев, брались помогать родственники, но уже на всех не хватало и таковых.
В семье Решетниковых работоспособный «кормилец» остался один Игнатий Захарович. Тихон Никитич сам, без просьбы свата нарядил ему в помощь своего батрака Танабая. С началом посевной Иван частенько оставался в доме один и здесь, улучив момент, к нему как-то подошла, краснея и стесняясь Глаша, собиравшая еду для работавших в поле:
– Иван Игнатич, дозвольте вас спросить?
– Да Глаша, чего ты?
– Хочу узнать, как там Степан Игнатич, на фронте-то… все у него хорошо, здоров ли?
Иван встрепенулся, и даже чуть не привстал со стула, на котором сидел, но нога с шиной помешала, и он вновь опустился.
– Извини Глаша… Как же я сам-то не догадался. Ведь видел, как ты на меня смотришь, а не допер, о чем спросить хочешь. Все у Степана хорошо, здоров, в том бою когда нашу-то сотню…Ну, в общем, его сотня главный удар наносила, когда красные уже побежали, так что потерь там почти не было. Меня-то раненого это он после боя нашел и из под коня выволок…
Иван ещё, что-то рассказывал о Степане, а Глаша жадно с тревогой в глазах его слушала, скрестив на груди свои большие натруженные ладони. «Ох девка, нелегкая у тебя доля, Степан-то о тебе и мысли не имеет, и не знает, как ты к нему… У него война, да атаман его разлюбезный в сердце…»,– думал и не мог сказать ей вслух эту правду Иван. Но, и тех общих фраз Глаше оказалось достаточно, ее глаза засияли счастьем, она стала благодарить за что-то Ивана… потом ушла, повесив на свое широкое плечо торбу с обедом для пашущих юртовый клин Решетниковых Игнатия Захаровича и Танабая.
Когда пришла Полина, он поведал ей о расспросах Глаши. Та тоже пожалела несчастную, но сама, напротив, была переполнена счастьем. Тревога, ее постоянная спутница, пока муж находился у Анненкова, сейчас «отпустила», и она опять буквально на глазах «расцветала», пышным прекрасным цветком. С началом посевной занятия в школе закончились, и Полина целый день находилась рядом с Иваном. Она бралась за то, что никогда не делала, мела, мыла полы, перестирала все привезенное мужем грязное белье, не дав до него дотронуться ни свекрови, ни Глаше… Она буквально вилась вокруг малоподвижного, в основном сидевшего Ивана, норовя вроде бы невзначай пройти очень близко, дотронуться до него то грудью, то бедром. Когда в поле уходили все, и они оставались одни…
Постоянно видя рядом радостную, вновь наливающуюся спелой плотью жену, Иван начинал забывать о своих горестных думах, притуплялось чувство постоянной вины, все сильнее хотелось жить и радоваться жизни. Его руки были здоровы, он, не вставая со стула, ловил Полину, когда она в очередной раз касалась его какой-либо из своих упругих округлостей. Она немного упиралась, шептала, хоть в доме и никого больше не было… шептала, что ему нельзя чрезмерно напрягаться, но то были всего лишь слова. Она и сама отлично понимала, что является лучшим «лекарством» для скорейшего выздоровления Ивана и физического и морального. Потом происходило то же самое, что и ночью происходит между супругами, так сказать, в обязательном, законном порядке. Однажды, после такой «дневной любви», Иван обнаружил, что Полина, на скотном дворе доит корову. Это его неприятно удивило, ведь по негласной договоренности дойкой в доме занималась в основном Глаша, или изредка мать. Но Полина, увидев, что «обнаружена» за столь недостойным для жены офицера занятием, не растерялась, а проворно вскочив со скамеечки из под коровы, как ни в чем не бывало, сказала Ивану:
– Сейчас, подожди немного, я тебя парным напою.
– Зачем Поля?… Мать, или Глаша с поля придут, подоят.
– Что ты, Ваня, зачем ждать-то. Корову только пригнали, а мама с Глашей, когда ещё придут, что ж ей не доенной мучиться. Ты за меня не беспокойся, я ж все-таки природная казачка. И мама моя когда-то корову доила, и я уметь должна…
И все же у Ивана после этого эпизода остался неприятный осадок, что он не сумел полностью обеспечить жене ту жизнь, к которой она привыкла в доме у родителей…
Вести с фронтов в станицу приходили с большими опозданиями, особенно с дальнего, из-за Урала. Успехи весеннего наступления белых между Уралом и Волгой казаки восприняли с воодушевлением, надеясь, что война скоро закончится, и не успеют доехать до фронта мобилизованные усть-бухтарминцы 2-й и 3-й очереди. И в Долине опять воцарится мирная жизнь как встарь, и вновь здесь казаки станут привилегированным сословием, хозяевами этого края. Совсем с другим настроением встречали эти известия с фронтов в деревнях новоселы. Здесь ждали победы красных, но активно помогать им по прежнему никто не желал, а хотели всего лишь пахать, сеять, косить, пасти скотину. Пассивность новоселов объяснялась тем, что станичный атаман Фокин, несмотря ни на какие циркуляры руководства, по-прежнему всячески уклонялся от того, чтобы своими силами проводить мобилизацию в близлежащих деревнях. Так что сосуществование потенциальных врагов в Бухтарминском крае продолжало носить относительно мирный, во всяком случае, бескровный характер. Даже бывшие коммунары-питерцы как-то присмирели, видя, что не провоцируемая властью крестьянская масса ни за какое оружие браться не стремится.
Грибунины в новых условиях окончательно разработали свою «линию поведения»: «Сидим пока тихо. Если белые верх возьмут, втихаря с коммунарской кассой бежим и устраиваемся где-нибудь, где нас никто не знает, и искать не будут. Если же красные начнут пересиливать… Тогда все иначе, тогда надо будет о возобновлении борьбы срочно думать». Из повседневных задач Лидию больше всего нервировало то, что дети не могут посещать школу. Лидия сама, как могла занималась с сыновьями, но понимала, что полноценно школу заменить не может. Она очень боялась, что ее дети останутся неучами и в будущем им при любой власти тяжело будет выбиться на «верх»…
Затаился в своей страховой конторе в Усть-Каменогорске и Бахметьев. И не только активность белых на фронтах сковывали его деятельность, как руководителя уездного большевистского подполья. После памятного разговора в Усть-Бухтарме со станичным атаманом Фокиным, Павел Петрович все чаще стал задумываться над вопросом: действительно, а стоит ли сейчас разжигать здесь костер партизанской войны, разорять этот, один из немногих уцелевших в огне гражданской войны край? Головная контора его страхового общества находилась в Барнауле. В мае Бахметьев поехал туда с отчетом и по дороге проезжал деревни Змеиногорского уезда, станицы и казачьи поселки Бийской линии. Здесь осенью прошлого года бушевало восстание против мобилизации крестьян-новоселов в белую армию, которую активно помогали проводить и местные казаки. Гнев восставших и обратился против казаков, они нападали в первую очередь на небольшие поселки, жгли, убивали, грабили, насиловали казачек. Потом, когда из Усть-Каменогорска казакам подоспела помощь все повторилось с точностью до наоборот, жгли, убивали, грабили, насиловали уже казаки.
Все в округе было разорено и разбито, а в обезлюдевших деревнях и поселках не засеяли и половины той земли, что засевали всегда. И главное, пролита кровь и поругана честь женщин – примирение было уже невозможно. Частенько вспоминая слова Фокина, Бахметьев теперь и сам убедился, к чему может привести разжигание партизанской войны. Понимал он и то, что на положение на главных фронтах все эти партизаны, скорее всего, вряд ли кардинально повлияют. Конечно, Павел Петрович всей душой желал победы своим, но когда едва ли не все местные коммунисты либо погибли, либо прятались, либо сидели в крепости… это давало и ему некоторое моральное право «не высовываться». Из крепости, где после инспекторского «налета» Анненкова, режим ничуть не стал более жестким, чем до него, Бахметьеву через квартирную хозяйку передали записку. В ней говорилось, что заключенные, которых в крепостной тюрьме вновь уже насчитывалось более двухсот человек, готовят массовый побег с попыткой захватить цитадель крепости, где складировано несколько сот винтовок и не менее двадцати тысяч патронов. Бахметьев, прочитав записку, ужаснулся, подумав, что может случиться, если планы, сидящих в крепости, осуществятся.
Сам же Павел Петрович, по натуре человек сугубо семейный, очень долго не имевший сведений о жене и детях… Так вот он, решил воспользоваться тем, что Урал тоже вошел в «империю Колчака» и отправил письмо в Екатеринбург. Отправил на удачу по старому адресу еще в марте, не надеясь получить ответ. Но случилось чудо, в мае ответ пришел. Жена писала, что она и дети живы и здоровы, но живут крайне тяжело, боятся, что на них могут донести, как на семью большевика, комиссара. К тому же белые грозят, что как только укрепятся на фронтах, начнут «выковыривать» укрывшихся в тылу недобитых большевиков и членов их семей. Но особенно жена жаловалась на трудности с пропитанием, что зиму еле пережили, дети по многу раз болели. Если бы это письмо попало в колчаковскую контрразведку…
К счастью, обошлось. Работу почты в «колчакии» наладили, а вот контрразведке было не до писем частных гражданских лиц. Жена же явно давала понять, что еще одну зиму в голодном, разоренном Екатеринбурге она с детьми может и не пережить, ибо сейчас на огороде сажать нечего, нет никаких семян. Чем тогда жить, ведь на работу она устроиться никак не может, сразу начнут выяснять кто она… И опять, если бы не тот разговор с Фокиным, не решился бы Павел Петрович вызывать семью к себе. Но он уже не мог не думать о близких, об их жизни и здоровье, все остальное как-то незаметно отошло на второй план, даже руководство уездным подпольем. Бахметьев в конце-концов полностью осознал конструктивность позиции Тихона Никитича Фокина. Как получил письмо, Павел Петрович в тот же день написал жене ответное, и в нем подробно объяснил, как добраться до Усть-Каменогорска. Именно здесь в хлебном, относительно спокойном месте голодная смерть не грозила никому. Здесь как в гавани бурю можно было пережить лихолетье.
17
После боя под Андреевкой Анненков развернул бурную деятельность по подготовке нового наступления на «Черкасскую оборону» и окончательного уничтожения этого укрепленного района красных, не дававшего возможности начать широкомасштабное наступление на южное Семиречье. Уже в мае Партизанская дивизия имела в своем составе три отдельные бригады. Стрелковая бригада состояла из 1-го и 2-го стрелковых партизанских полков, ядро которых образовали семиреченские и сибирские казаки-пластуны, а также манжурского охранного батальона, набранного из китайцев-хунхузов, наемников, пришедших в Россию воевать за деньги. Отдельная кавалерийская бригада включала полки «Черных гусар» и «Голубых улан» и кирасирский, отдельная казачья бригада – Атаманский, Оренбургский и Усть-Каменогорский полки. Формировался и конно-киргизский полк, состоявший из киргизов сторонников партии Алаш-орда. Общая численность дивизии достигла десяти тысяч штыков и сабель.
Время было пахать и сеять, но железная дисциплина, обусловленная большим количеством добровольцев и страхом смерти за дезертирство, удерживала от оного даже тех, кто не был фанатично «влюблен» в брата-атамана. Как бы в награду за это, давая отступного, Анненков сквозь пальцы смотрел на случаи грабежа и насилий.
А Семипалатинск, все это время, пока Анненков воевал и формировал свои войска жил вольготной тыловой жизнью с балами, театральными постановками, кинематографом, ресторанными и трактирными гуляниями до глубокой ночи, мимолетными флиртами и настоящей любовной привязанностью… Приехав в город, атаман прежде всего «взнуздал» расслабившихся своих. Вызвал тыловиков, потом контрразведчиков, чинов команды пополнения… Никто не оправдал его ожиданий. Тыловики собрали меньше ожидаемого продовольствия и фуража, контрразведчики, вместо рапорта о раскрытии и ликвидации большевистских подпольных организаций и конкретных большевиков, жаловались, что местная тюрьма не вмещает всех арестованных. Они высказали пожелание, чтобы часть не особо «важных» заключенных отправить баржами в Усть-Каменогорск, где в крепости имелись вместительные казематы. Данное пожелание атаман удовлетворил, хоть это и предполагало нервотрепные переговоры со управлением 3-го отдела, в ведении которого находилась усть-каменогорская тюрьма. Команды пополнения тоже не порадовали, ибо ресурсы по привлечению новых добровольцев в казачьих станицах и поселках от Павлодара до Семипалатинска были фактически исчерпаны. Такая же ситуация сложилась и в равнинных казачьих поселениях в районе Уст-Каменогорска, о чем докладывал вызванный оттуда начальник тамошней команды пополнения. А вот каково положение в горных станицах усть-каменогрского уезда ему было неизвестно, туда не добралась ни одна из посылаемых команд, если не считать зимнюю поездку хорунжего Степана Решетникова.
Когда все первостепенные дела были решены, атаман уединился в кабинете с недавно вернувшимся из краткосрочной командировки в ставку Верховного ВРИД начальника штаба Сальниковым над большой картой Урала и Поволжья. На ней флажками был отмечен Восточный фронт колчаковских армий. Сальников с карандашом в руке чувствовал себя здесь как рыба в воде. Вот так он любил «воевать», в кабинете у карты, в хорошо подогнанном у местного портного мундире, докладывать положение на фронтах… до которых много сотен верст, и потому не слышно ни свиста пуль, ни разрывов снарядов, не говоря уж о крови, развороченных человеческих телах, вони, грязи… Штабс-капитан докладывал:
– Сибирская армия генерала Гайды, развивая наступление от Перми, взяла Сарапул, Ижевск, Воткинск и вышла на линию Болезина, Можга, Елабуга. Западная армия генерала Ханжина овладела Уфой и продвинулась до Чистополя, на своем правом фланге, и до Шарлыка на левом. Я подсчитал расстояние и получается, что передовым частям Западной армии до Самары осталось не более ста верст…
Затем, поочередно следовал доклад о действиях Южной армейской группы, оренбургских и уральских казачьих армий. Анненков внимательно, с охотничьим азартом следил за тем, как конец карандаша перемещается по карте. Последовало несколько уточняющих вопросов, затем вопрос с ревностными нотками:
– А генерал Каппель… я слышал, он в прошлом году в армии КОМУЧа блестяще воевал, почему о нем ничего не слышно?
– Дело в том, что в Омске ему не совсем доверяют, он же долго воевал под знаменами эсеровского руководства, этого самого КОМУЧа. По той же причине не пользуются полным доверием ижевская стрелковая дивизия генерала Молчанова. По моим сведениям Каппель сейчас занимается формированием резервного корпуса, – отвечал Сальников.
– Ясно, завидуют и потому на передовую не пускают, боятся что он всех опередит и Москву займет, – атаман усмехнулся. – А Гайда, я слышал, он бывший австрийский военфельдшер и совсем молод?
– Так точно, ему двадцать восемь лет, он чех, служил фельдшером в австро-венгерской армии, попал в плен, а во время выступления чехов против большевиков сумел выдвинуться, одержал ряд побед, после которых уже Верховный доверил ему Сибирскую армию, – голос Сальникова, когда он описывал «карьеру» Гайды звучал пренебрежительно. – Хотя, знаете, есть и другие слухи, не знаю достоверные или сплетни, что никогда он не служил у австрияков и фельдшером не был, а в Россию попал из Сербии, будучи офицером, не то сербской, не то черногорской армии.
– Так оно или нет, но именно этому чешскому фельдшеру доверили командовать армией в шестьдесят тысяч штыков и сабель, а не генералам выпускникам академии генерального штаба, которых в ставке Верховного пруд пруди, – довольно резко отреагировал на тон Сальникова атаман. Видя, что штабс-капитан покраснел и смутился, Анненков продолжил уже примиряющим тоном. – А как вы думаете, Алексей Львович, Сибирская и Западная армии действительно могут уже в этом году взять и Москву и Петроград?– Анненков в очередной раз, как бы забыл о ритуалах им самим введенных в его дивизии и вел себя в отношении собеседника-офицера, как и подобало офицеру русской армии, обращаясь на «вы» и по имени отчеству.
– Трудно сказать, Борис Владимирович, – штабс-капитан настороженно взглянул на атамана, проверяя дозволено ли и ему перейти на старомодный стиль общения. Убедившись, что тот настроен относительно благодушно, продолжил излагать. – Тут я думаю больше зависит не от наших, а от противника. Наши, как мне думается, сильны пока наступают. А вот если красные сумеют остановить наше наступление, организовать контрудар. Не знаю, как наши покажут себя в обороне.
– А вы думаете, красные еще способны на контрудар? – не сводя пытливого взгляда с карты, спросил атаман.
– Сейчас они в кольце фронтов. Это содержит, как свои минусы, так и плюсы. С одной стороны кругом враги, с другой эти враги не имеют единого руководящего центра и не могут координировать свои действия. К тому же у наших фронтов почти отсутствует связь друг с другом. Большевики же имеют единое командование и могут перебрасывать свои силы с фронта на фронт и делать это достаточно быстро, ведь у них сейчас сравнительно немного территории и расстояние между фронтами не очень велико, к тому же в центральной России довольно развитая железнодорожная сеть. И все же я думаю, что к следующей зиме с Божьей помощью их додавят, а вот кто въедет в Кремль на белом коне Ханжин, Деникин или даже Каппель, не возьмусь гадать, но думаю, это будет не Гайда. И потом…
– Все зависит от дисциплины, – резко перебил атаман. – Если большевики сумеют создать дисциплину в тылу, дисциплину в войсках, они вполне могут отбиться. У нас-то с дисциплиной как раз и плохо, и в Омске этого никто понять не хочет. Еще мне за жестокость пеняют. Да, если бы я допустил такой же хаос, как у них в тылу, Семиреченский фронт сейчас бы не под Андреевкой был, а под Семипалатинском. Боюсь, совсем не держит в руках ситуацию Верховный… Вот вы упомянули, что между нашим Восточным фронтом и Южным Деникина или Северным Миллера нет должного взаимодействия. Но ведь нет взаимодействия и внутри нашего Восточного фронта, между его армиями. Это хорошо просматривается по конфигурации самой линии фронта, – Анненков сделал жест в сторону карты. – Гайда, Ханжин, Дутов, они же все воюют как захотят, когда хотят наступают, когда хотят останавливаются, и получается не удар сжатым кулаком, а тычок растопыренными пальцами. В своих сводках наверняка обманывают Верховного, пользуясь тем, что он в сухопутной войне не специалист. И вот результат. Смотрите, – атаман еще ниже наклонился к карте с карандашом в руке, – Сибирская армия явно отстала и подставила под удар правый фланг Западной армии. При этом Гайда не смог использовать тот положительный фактор, что на его участке наступления население Ижевска и Воткинска, рабочие с военных заводов, восстание которых прошлой осенью жестоко подавили большевики. Они ждали наши части как избавителей, и могли серьезно помочь наладить наше снабжение боеприпасами. А фронт Западной армии из-за непродуманного быстрого продвижения и отсутствия поддержки от соседей слишком выгнулся, растянулся. Наверняка у Ханжина уже не хватит войск, чтобы в случае контрнаступления противника создать сплошную линию обороны. И в это время в тылу чуть не силой удерживают отлично зарекомендовавшие себя части генерала Каппеля и сумевших осенью вырваться из красного окружения ижевцев и воткинцев Молчанова. Ну и что в том плохого, что среди них много эсеров? Они отличные вояки и наверняка бы способствовали более успешному наступлению. И по всему, как мне кажется, не было учтено что в апреле вскроются реки, и серьезно замедлят темп наступления. А теперь, что остается?… Остается переходить к обороне. Это необходимо. К сожалению, Ханжину не о Самаре надо думать, а поджидать отставших соседей. Продолжать дальше наступление это самоубийство. Ну и мне совсем не понятна здесь роль Дутова. Такое впечатление, что его казаки намеренно топчутся возле Оренбурга, и таким образом дают возможность красным ударить с юга в тыл ушедшим далеко вперед частям Западной армии. А ведь перед Дутовым степь, а не леса, как перед тем же Гайдой, и рек почти нет, здесь раздолье для казачьей конницы, можно совершать глубокие рейды по тылам и обходные маневры, только наладь дисциплину, прояви твердость.
Атаман бросил карандаш на стол, поднял голову и снисходительно посмотрел на Сальникова, как бы говоря: ты штабной сиделец, видишь на карте лишь сетку координат, и географические обозначения, а я боевой командир, вижу все, реки, дороги, овраги, леса, вижу не просто кружками обозначенные населенные пункты, а людей, которые там живут, какие сословия преобладают, кого они ждут как избавителей, а кого как врагов…
Штабс-капитан пригляделся к карте и осознал то, чего не видел еще пять минут назад. Молодецки наступающая Западная армия генерала Ханжина фактически «сунула голову в петлю», на ее флангах и с севера и с юга нависали красные, грозя фланговыми ударами с последующим окружением. Однако он нашел нужным возразить:
– Но позвольте… если этого не боятся в Омске, значит все идет по заранее разработанному плану, тайному плану, о котором мы не можем знать, – Сальников привык стандартно надеяться на «высший разум» руководящих инстанций.
– Хорошо бы, если так, – вновь усмехнулся атаман. – Но боюсь они просто недооценивают противника, считают, что там в руководстве неграмотные дураки, раз не учились в академии генштаба и не догадаются использовать столь выгодное для них положение. А еще хуже, если всё видят, да сделать ничего не могут. Все катится, как катится, само собой. Дисциплина… ее нет ни в Омске, ни в штабе армий, и нет единой руководящей воли. Если бы она была… Гайду надо немедленно с армии снимать. Как этого не понимают в Омске? И дело даже не в его молодости, или в недостатке опыта. Ведь основную ударную силу его армии составляют русские солдаты и офицеры и, что еще более ужасно, у него в подчинении генералы и их унижает, что ими командует молодой нерусский выскочка, они наверняка плетут против него интриги, и в Омске тоже плетут. И Дутова надо немедленно менять, а может, даже, и судить. Но разве Верховный на это решится? Все на авось надеются, что большевики сами разбегутся. Не разбегутся, я в этом сам уже не раз убедился…
Тем не менее, скептицизм атамана вовсе не звучал как обреченность, хотя он не верил ни в административный, ни в полководческий талант Колчака. Для будущего царя это никудышный кандидат. А раз так, именно гражданская война должна выдвинуть другого лидера белого движения, твердого, деятельного, умного, не отвлекающегося на всякие пустяки… как та же любовница. О любовной связи Верховного с некоей Тимеревой был в курсе едва ли не всякий имеющий уши…







