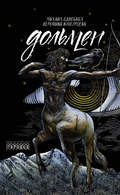Вероника Кунгурцева
Транквилин (сборник)
«Зайди ко мне на минутку», – так он сказал?
Она сидела посреди комнаты и страшно боялась ошибки, боялась, что не так поняла, боялась, что придет – и будет всё плохо, неловко, неудачно, что он не то совсем хотел сказать, искала за словами потаенный смысл – и не находила его.
«Зайди ко мне» или «Зайди ко мне на минутку»? Она посмотрела на серебристо-розовое свое платье и решительно сняла его, натянула серые шерстяные брюки, сильно расклешенные книзу – модные лет семь назад, – и фиолетовую трикотажную кофту в крупных цветах; кофта поверх брюк, до бедер.
Теперь можно было идти.
В темных комнатах за ее спиной притаилось холодное ожидание; она захлопнула последнюю дверь – и ступила в снег.
Горы плыли по левую руку от нее, точно белые верблюды по шелковому пути, втекавшему в млечный шлях, опрокинутый над поселком (возможно, именно оттуда посылался на землю снег – ежезимнее послание невежественным людям). Дорога белела под ее ногами, Надя свернула влево – бугристая дорожка резко уходила под гору; на санках бы покататься…
Справа, среди деревьев, уже мерцал огонек.
Она постучала в некрашеную щелястую дверь костяшками пальцев – вот еще пальцы-то занозишь, – никто и не открывал… Повернулась уходить, потом распахнула дверь, оказалась в темноте, наткнулась на стену – столб света вырвался откуда-то сбоку, и из света вышел он: лицо, улыбка, голубая рубашка; она оказалась в теплых объятиях, она задохнулась от поцелуя, она уткнулась лицом в его грудь, она услышала:
– Я так ждал тебя.
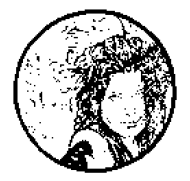
2
Любит ли он ее? Разве она спрашивала об этом: его или себя… Ей было достаточно того, что есть.
А было – так много.
Снег давным-давно растаял, днем светит солнышко, земля потихоньку прогревается, но ночи – ночи всё еще холодны и так черны, что, когда идешь от калитки к дому, слившемуся с мраком, натыкаешься на деревья по краям тропинки, не видишь, куда ведут тебя ноги, не видишь руки, выставленной вперед для ощупывания пространства, – и в конце концов упираешься в стену дома лбом.
Это если в доме не светится окошко.
А если окошко светится?
Тогда ждет тебя истопленная печка, уже не похожая на сонную белую медведицу, и ужин ждет: жаренная на постном масле картошка, чай, холодный серый хлеб, тот, что по шестнадцать копеек (на веранде лежал), и он ждет: сидит, склонив над столом свое милое, детское лицо, пишет что-то.
Он из тех мужчин, у кого такие вот навечно мальчишечьи лица; и эта его детская привычка – когда он сосредоточен, занят важным делом: пишет ли, чистит ли картошку – вбирать в себя от излишка усердия губы.
Надя любила смотреть на него, когда он бывал таким – сосредоточенным. Он делал что-то – писал или читал – Надя сидела напротив, в уголке дивана, и смотрела. Она часами могла сидеть и смотреть. «Точно кошка», – ругался он. Вначале он прогонял ее, уговаривал заняться делом – почитать что-нибудь (она так мало читала, и всё не то, он ей список напишет), или на худой конец хоть шляпы бы свои вязала, – Надя уходила в кухню с книгой, которую он дал ей, или с вязаньем, но через пять минут возвращалась, прокрадывалась виновато в свой уголок.
– Я не могу, когда на меня так смотрят!..
Он собирался и уходил в холодный свой дом. Надя шла за ним и говорила, что больше не будет, что уже почти дочитала «Голод» Гамсуна, скоро возьмется за «Пана», будет тихонько сидеть в кухне и читать, раз она мешает ему…
– Да не мешаешь ты, не мешаешь; как ты не можешь понять – я же о тебе забочусь! Ну как тебе не надоедает часами смотреть на одно и то же? Было бы хоть на что!.. – Он усмехался и качал головой.
Но что же делать, если ни книги – даже самые интересные, – ни вязание не шли ей на ум? Смотреть на него казалось ей занятием гораздо более важным, чем чтение. Она точно в самом деле очнулась от мертвого сна, воскресла и, увидев живого человека, навечно удивилась. Она никак не могла привыкнуть к тому, что вот он – такой живой, настоящий, вот он – ее человек. Похожий на ласкового бога.
В конце концов он привык к тому, что она ничего не делает, только сидит и смотрит, и махнул на нее рукой:
– Ну сиди, сиди… Нашла свое призвание— на мужика смотреть.
Но это всё вечер, вечер. Он строгий, будто бы строгий… А потом…
…Луна смотрелась в окошко. Она смотрела в окошко. Стекло плавилось между ними.
Она только что очнулась. Еще погружена в ночь, еще наполовину там, во тьме. Она точно кентавр сейчас, или русалка – части дневная и ночная совмещены в несовместимое целое. Днем она забывает о себе ночной, днем ей не верится, что и это тоже – она. Он открыл, показал ей эту ее ночную русалочью сущность. Клокочущие глубины горячей тьмы, в которые ей хочется погружаться и погружаться, забыть о дне, проклясть день, жить только ночью, верить только в ночь…
И сон – как чистилище между ночью и днем.
Во сне ей нужно повернуться на другой бок, она приподнимает ресницы и сквозь сон смутно различает: спина, грудь, рука – не пустота, которую можно протыкать пальцем до тех пор, пока не наткнешься на стул, – спина, или грудь, или рука, всё теплое, живое. Два, три, четыре поцелуя куда придется, чтоб окончательно удостовериться – спина, грудь, рука, – и можно спать дальше.
Она полюбила просыпаться. Птицы гомонили за окном – будто птичий народ со всего света собрался в их саду; солнце светило каждое утро – каждое утро, открывая глаза, она видела его. Солнце в окне, и он – у окна, спиной к ней. Почувствовал ее взгляд, оборачивается, облокачиваясь о спинку стула, смотрит на нее.
Она не в силах сдержать улыбки, он не выдерживает – идет к ней. «А что это у нас такое?» – молвит, пытаясь поцеловать в оголившуюся грудь (она видела, что одеяло сползло, но не поправила его, даже нарочно – отодвинула), а сейчас, под угрозой склонившегося его лица, натянула одеяло до самого подбородка.
Он обращался с ней как с маленькой. Как-то так повелось. «А что это у нас такое?», «А где у Наденьки глазки?». Он завязывал ей шарф, когда она шла на улицу, он воспитывал ее: ругал за то, что свистит в комнате, ломает хлеб, отчего всегда полно крошек («Ну как с тобой в свете-то покажешься?»), подсовывал привезенные с собой книжки. Надя смеялась – вот, нашлась маме замена!
Подарил ей цветы… Это был первый букет, который ей подарили. Он пропадал весь день, сказал: «Мне надо». Она сделала вид, что не понимает, зачем надо, хотя сердце радовалось, зная, наверняка зная, что наконец-то ее, как настоящую женщину, как всех женщин в этот день, поздравит он, ее мужчина, а не мама, как это было всегда!
Видимо, лицо у нее вытянулось. Красные, с ядовито-лиловым оттенком зимовники… За день до того в городе, на рынке, она видела эти – такие – цветы. Тугие букеты у основания соцветий стянуты рядами черных ниток десятый номер, лежат они на конце длинного бетонного, почти пустого стола. Был ранний вечер, торговые ряды опустели. Цветы продавала девчонка с иззябшим личиком, с носом почти того же оттенка, что цветы; клетчатое пальто на два размера больше, чем нужно, руки в карманах, и, чтоб согреться, цветочница скачет то на одной ножке, то на другой. Надя узнала ее – поселковая девчонка, из семьи многодетных Баранчуков, в классе шестом, наверное, учится. Девчонка, взглянув на Надю, перестала скакать, отвернула личико.
В природе не существовало цветов такой окраски – были кремово-белые, с нежно-зеленым вычурным венчиком посредине, зимовники, на длинном мясистом стебле – наверное, самые крупные из лесных цветов, и не только этого времени года. Надя знала, как из белых они превращаются в красные: окунаешь цветок в банку с ядовито-красными чернилами – и, будьте любезны, белые зимовники, напившись яду, алеют! В детстве они с сестрой тоже занимались такими превращениями.
Видимо, лицо у нее вытянулось: она в самом деле не ожидала, что будут эти – крашеные – цветы. Он сказал: «Что ты… Это хорошие цветы». Она закивала изо всех сил. Откуда ему было знать, что они крашеные?
Они сразу осыпались – на следующий день: лепестки, лежащие вокруг вазы, свернулись в сморщенные лодочки, но высокие стебли, вознесшие кверху пустые арены венчиков, не надломились до сих пор.
Он говорил: «Знаешь, я тебя боялся вначале. Особенно в первый день… ночь… утром. Сидишь— отвернулась, гордая такая. Господи, как мне плохо было тогда, как я боялся, что сделал что-то не так! А потом – помнишь, в магазине встретились? Я позвал тебя к себе, ты плечиком дернула – и ушла, важная, как герцогиня. А потом – я ведь за тобой пошел – за деревьями скрылась и давай в снегу барахтаться. Я думаю: девчонка, она же совсем девчонка. И так мне весело стало…»
Говорил: «Знаешь, мне иногда кажется, мы уже встречались с тобой, встречались в какой-то иной жизни, встречались, но не узнали друг друга, разминулись. А тебе?»
Ей не казалось, она сердилась – за дурочку он ее принимает, что ли? Говорить такие банальности… Думает, она не знает, что чуть не в каждой книжке герои своим женщинам так говорят! Думает, уж совсем она необразованная, что ли? А она читала, много читала когда-то. От отца книг осталось три стены, в комнате его самодельные полки, а на них – тома, как в библиотеке, только одна стена без книг, там окно. А в окно (только в это окно) видна крыша его домика. Зимой была видна. Сейчас листва всё затягивает, укутывает скелеты деревьев робкой зеленой плотью, и оживший лес занимает в пространстве гораздо больше места, многое скрывая от взгляда наблюдателя.
Она не сразу узнала, что он – поэт. Узнав, удивилась и ощетинилась. Долго не могла успокоиться: поэт, пишет стихи, и – с ней! Разве такое может быть?! Она так была потрясена, что целый день говорила с ним не по-людски: о важном (о том, что ему могло показаться важным), сложными предложениями, вставляя всюду словечко «ибо».
Стыдно, стыдно вспомнить…
Надя и сейчас покраснела. Вечерело. Моросил легкий дождик – сеянчик. Она была без зонта и прибавила шагу. Скорее, скорее домой!
Ждет небось – она нынче припозднилась.
А может, и не ждет – два дня уже она одна, он у себя работает. Бывают такие дни, когда ему почему-то не пишется при ней; даже если она в стороне от него – в кухне. Она бродит по дому, не зная, за что приняться, в конце концов тоже садится за работу, но прибегает к нему раз по десять на дню – просто чтоб взглянуть на него. Посмотрит – будто воды живой напьется, глядишь – и у нее работа пойдет живее.
Всё это хорошо… Всё бы хорошо… Но эта фотография…
Третьего дня он послал ее за какими-то бумагами в нетопленый свой дом, она выдвинула не тот ящик и на дне, под тетрадями (обычными, общими, по сорок восемь копеек – ее очень удивляло, что стихи пишут в таких вот обыкновенных школьных тетрадках), увидела лицо той…
В самом начале, когда ночи казались случайностью, когда каждый раз она мучительно ждала: придет – не придет, они рассказали каждый о себе. У той, которая и была причиной его бегства сюда, в этот поселок, затерянный в горах, оказалось удивительное имя – Гудрун. Конечно, поэту и нужна женщина с таким именем…
Фотография, разорванная когда-то, была тщательно восстановлена: обрывки подогнаны один к другому и наклеены на плотную бумагу.
Женщина была снята в беге (стремилась к фотографу): волосы взлетели, лицо запрокинуто, рот разинут в хохоте. Невозможно было понять, красавица она или уродка. Надломленные пряди волос, точно светлые молнии, один глаз чуть выше другого, и вся она – будто сквозь решетку, асимметричную, легкую, но решетку; кажется, еще мгновение – и женщина расшибется об эту, невидимую для нее, преграду.
Он говорил, что она высокая блондинка, старше его семью годами. Надя со злости придумала из нее Медузу Горгону с молниями в волосах.
Она надоела ему расспросами о той, он сказал: «Прошу тебя: хватит сыпать мне соль на рану…»
Он так сказал, хотя всё время твердит, что излечился, что это она вылечила его, что ее теперь любит…
А разве она спрашивала об этом…
Что же это? Ведь в первые ночи, когда он плакался о несчастной своей любви, не было у нее никакой ревности, только радость, что пришел, а теперь… И ведь она сама тогда же, вначале, в ответ на слова любви сказала, что нет у них никакой любви, а просто они нужны друг другу как мужчина и женщина, и не надо никаких слов. А теперь…
Вот уедет он – и что тогда?..
А он уедет.
Надя очнулась у самой калитки. Не заметила, как приехала домой, как миновала во тьме шаткий мостик через ручей, – окно в доме не светилось. Не ждет. Значит, по-прежнему работает у себя. Ну и хорошо: Надя ездила в город, чтобы сделать прическу, – захотелось быть красивой, – но дождь не прекращался, и от прически осталось мокрое место. Явилась бы ему чудищем морским.
Не узнала себя в зеркале: тумба волос съехала набок, висюльки возле щек похожи на обрывки серпантина. Разворотила всю прическу, вычесала патину лака – волосы опять закрыли полспины. Сколько раз зарекалась делать прически – не идут они ей, – и вот опять… Всё ждешь какого-то чуда. А чуда нет как нет.
Дождь потяжелел, стал крупнее, чаще, холоднее. Дорожка, бегущая книзу, к его домику, стала неузнаваемой: камни были не на своих местах (поток вывинтил их из земли и протащил вперед), появились незнакомые ямы, рытвины. И зачем только надела она эти, на кожаной подошве, туфли, шла бы в галошах! Уже у самой калитки Надя поскользнулась и упала.
Ночь на дворе, ее до сих пор нету, а ему плевать. Сидит спокойно, стишки пишет.
Она распахнула дверь – и застыла на пороге.
Опять эта… И он, как ни в чём не бывало, сидит с ней – ликер пьют. Как тогда… Стул ее придвинут к его табурету. Надя захлопнула дверь, не переступив черты.
Домой приковыляла, до глаз промокшая.
Как он смеет – вот так?! Как он может?! Что вообще она в нём нашла… Никто бы не позволил так с собой обращаться, только она, дура…
Он ее не любит. Конечно, не любит – с чего она взяла? (Разве таких любят?) Мало ли что он говорил – он говорил, а она, безмолвная, слушала. А ведь он говорил не только о любви, о свободе тоже – говорил, что в любом случае хочет быть свободным. Вот, значит, о какой свободе он говорил!
Часы висели за ее спиной – она обернулась: прошло пятнадцать минут.
И еще пятнадцать минут прошло.
Ведь он придет, он всё равно придет – она твердо это знала. Зачем же так мучить ее?
Еще пятнадцать минут…
Но ведь ничего такого не случилось?.. Вообще ничего не случилось. Так чего ж она? И ведь в тот раз было то же самое, совершенно то же – и как совсем по-иному она приняла это тогда!
Тогда он еще говорил о Гудрун. И он пил тогда с поселковыми мужиками. Она ставила это ему в вину. Как может он, поэт, пить с такими? Ей стыдно стало перед Светкой Балыкиной (из старых подруг только Светка иногда еще заходила к ней), когда та рассказала, что видела его на магазинном крыльце – пил там с алкашами, – а говорила: поэт…
И еще: она боялась. Хоть и рассказала она ему про себя, но… Одно дело, когда она говорит о себе, и другое – когда кто-то, неизвестно какими словами…
Он пришел с бутылкой, позвал ее к себе, сказал: «Тоскливо мне что-то, выпей со мной, Наденька, – один не могу». Надя выпила, а сама исподтишка вызнавала, не сказали ли чего мужики. «Что они могут сказать умного?» – услышала только.
А тоскливо, он говорил, ему часто бывает, она здесь ни при чём, и никто ни при чём, время от времени накатывает – и ничего тут не поделаешь, никакая любовь не спасет, даже работа – и та не спасает. То есть тоска-то, может, оттого и бывает, что не работается. Хотя чёрт его знает. А ей, Наденьке, спасибо – с ней он душой отдыхает, с ней ему легче, чем со всеми. Вот не думал, что в эдакой кавказской глухомани встретит ее!
Он совсем опьянел, и у Нади с непривычки (лет семь уж не пила) голова закружилась. Заснули: он – сидя, она – голову положив ему на колени. Вдруг – стук в дверь. Он не проснулся, а Надя соскочила, побежала открывать. Показалось спросонок: мать приехала, забыла, что не дома она, а у него. Открывает – в дверях женщина. Надя вздрогнула: уж не Гудрун ли?! Но ведь он говорил, что она блондинка… Ну, это-то – долго ли покраситься. Еще говорил: высокая, а эта чуть выше Нади. Хотя, может, и высокая. Зато не особенно молода – это ясно. Она?! Сколько у нее родинок на лице!
– А мне Семёна… – сказала женщина, окинув Надю пристальным взглядом. Достойной внимания она ей, видимо, не показалась – глаза тут же стали равнодушными.
– А его… Спит, – сказала Надя, собравшаяся было соврать. Женщина заглянула в дверь, увидев его, отодвинула Надю и подошла к дивану.
– Эй, соня, – склонилась над ним, – подымайся, гостей встречай!
Он улыбнулся и, еще не очнувшись как следует, протянул к женщине руку, будто приглашал в объятья. Надя стояла рядом. И сразу же, будто обжегся, руку отдернул. На Надю посмотреть не посмел.
– Это Ира, – кивнул на гостью. – Это Надя.
Надя опустилась на диван. Ира, взглянув на стол с остатками еды, тотчас принялась за дело. Собирала посуду, стирала со стола, напевая что-то.
Никогда бы она не решилась так хозяйничать здесь, хотя уже третью неделю они были вместе. Она вдруг почувствовала необычайную легкость, ту легкость (а может, пустоту), с которой (в которой) жила до его появления. Даже радость она почувствовала – радость неожиданного освобождения. И она засмеялась втихомолку. А может, это она слёз так боялась – до смеха.
Надя не уходила, весело наблюдая, как будто она сидела в темном кинозале, а они были на экране, разыгрывали интермедию; они, само собой, ее не видели. Когда он позвал ее к ним, на экран, то есть за стол (где даже не было третьей рюмки), она отказалась. Она хотела остаться здесь – во тьме зрительного зала. Наконец Надя встала, выдохнув: «Мне нужно идти… работать».
Дома она действительно села вязать и спокойно два часа вязала, но внезапно нетерпение охватило ее, выбив из рук клубки. Она поняла, что не усидит дома, что это выше ее сил, что она должна всё понять, всё узнать, услышать, что он скажет. Конечно… если дверь будет открыта.
Она привела себя в порядок – иногда это у нее получалось; бывали такие дни в ее жизни, когда она вдруг, ни с того ни с сего, хорошела. Она делала со своим лицом то же, что всегда, но выходило совсем не то, что всегда.
В зеркале появилась египтянка с точеным лицом – это одна из дочерей одного из фараонов, родившаяся от кровосмесительного брака, очнулась в своей гробнице и отразилась зачем-то в Надином зеркале.
Дверь была открыта.
Они по-прежнему сидели за столом. Бутылка ликера, которую Ира принесла с собой, почти опустела.
Надя, перенявшая повадки жрицы, прямая, как стрела, прохаживалась взад-вперед по комнате. Она говорила о расстрелянном поэте – о нём он говорил накануне, тогда Надя только слушала, не признаваясь, что читала о нём, что даже знает наизусть пару стихотворений (о, эта папина комната!), а сейчас стала отвечать ему – вчерашнему. И прочла вслух «Жирафа» – у нее был мальчишеский надтреснутый голосок, а стихи выходили откуда-то из подвздошья.
Еще сидя у зеркала, она уже знала, что всё будет хорошо, поэтому вошла легко, не тушуясь (первое движение, первый шаг, первое слово особенно трудно давались ей). И то, что должно было случиться, случилось. Он не сводил с нее глаз, потом посмотрел на часы и обернулся к погрустневшей гостье: «Ой, Ира-а, ты опоздаешь – последний автобус через двадцать минут».
Ночью она решилась спросить:
– А… Кто она – эта Ира?
– Да-а… Хозяйка. Домовладелица. Это ее дом – старик ей подписал. За деньгами приехала.
– Ты… любил ее?
– Что ты!.. Просто нужно было забыться, во что бы то ни стало забыться…
– Гудрун…
– Да. Но сейчас уже всё прошло. Ведь у меня есть ты.
Всё это было так унизительно… Как она не понимала тогда?!
И вот теперь – снова эта Ира…
Она знала, конечно, знала о его женщинах, ей даже льстило, что столько их у него было, но когда они – эти тени прошлого – вдруг появляются живыми женщинами в настоящем!.. А это только одна из теней, может быть, самая безопасная, потому что из прошлого самого недавнего. А если появятся другие? А если возникнет королева теней – Гудрун?..
«Нужно было забыться, во что бы то ни стало забыться», – говорил он. А если и она, Надя, – для того, чтоб забыться?.. Нет, не может быть!
Но прошло уже два часа, почти два часа…
Ее стул был придвинут к его табурету, вспомнила Надя. А… почему не так: его табурет был придвинут к ее стулу?
Два часа его нет. Он думать о ней не думает. Чем он там занимается?!
А если самой пойти, он не идет – значит, ей надо пойти? Не заходить, а так, только в окошко посмотреть? Окошко низко… Если не со стороны обрыва…
Дверь открылась – вошел он. Она едва не вскрикнула – он застиг ее у окошка, внутренним оком она подсматривала… Она ненавидела его сейчас.
Он прошелся по комнате, как она в прошлый раз… Про что заговорит – тоже про Гумилёва, а может, стихи начнет читать?!
– Наденька… Я, конечно…
– Вовсе нет.
– Я, конечно, понимаю, что ты тут…
– Нет.
– Но не мог же я ее выгнать… Человек ехал за такие километры, в такую погоду…
– Зачем? – Она так и подскочила.
– Я же тебе в прошлый раз говорил…
– Говорил.
– Ну что я – в шею должен был ее выталкивать?! Она несчастный человек: замужем без любви, дети не слушаются… Годы уже…
Надя обернулась к нему:
– Ну, коне-ечно… Ты всех жалеешь, тебе всех жалко!.. Благодетель какой! Вот… вот возьми собери всех своих старух – Гудрун еще – и устрой богадельню!
Он круто обернулся, посмотрел на нее так, как не смотрел никогда. Он не сказал больше ни слова – вышел, хлопнув дверью.
Ну и пускай. Теперь хоть она не чувствует себя такой униженной, жалости достойной. Они равны теперь.
Надя походила по дому: из комнаты в комнату, с этажа на этаж. Пора было спать, но ей не уснуть сегодня… Сесть разве за работу?.. Не надо хитрить – ей надо сесть за работу, потому что нет крючков для вязания, крючки остались у него. Ей, выходит, во что бы то ни стало надо идти к нему.
Она взяла зонт и пошла. Постучала.
– Да, – сказал он.
Она вошла. Он писал. Он был один.
– Где мои крючки? – спросила. – Мне нужно работать.
– Надя, – он поднялся из-за стола. – Надя…
Она нашла крючки и, не взглянув на него, вышла.
Ее не удивило, что он может работать в такой момент. Она уже знала, что он может работать всегда. Главное – не было этой…
Зонт раскрыть забыла. Пришла домой промокшая и легла спать.
Утром встала поздно – его еще не было. Надю это не очень расстроило – если писал всю ночь, придет только после полудня. А до этого будет спать. Как же ей-то прожить эти полдня? Сад она совсем запустила: копала поздно, теперь травы наросло – ни разу еще не полола. Пойти разве пополоть?
Полоть она решила перед домом, на припеке, и калитка отсюда – как на ладони.
Стало жарко; она скинула потрепанную куртку и сунула ее между развиленных стволов персика.
Земля была вскопана крупно, неровно: буграми и ямами – торопилась очень; когда копала, траву не вырывала – землю перевернет книзу муравой – и ладно, но вот неладно оказалось: трава пробилась с четырех сторон земляного ломтя и вымахала иная с локоть.
Ковер под ногами, который она распускала по ниточке, бросая зеленые нити в кучу, вроде и не уменьшался. Сидит Надя на корточках, дергает по нитке, а нити все разные. Вот эту травку с узкими гладкими стеблями – на них солнце играет, как на клинках сабель, – растущую пышным кустом, семейно, Надя не любила. Шелковистое скрипение оставалось в руке при попытке выдернуть траву из земли да два-три зеленых обрывка: корни засели прочно. Зато другая травка со скользким именем мокрица, которая хоть и вцепилась звездчатыми коготками в землю, хоть и оплела всё вскопанное пространство, нравилась ей гораздо больше. Травка была легкая, мягкая – коготки легко разжимались. Рвать ее одно удовольствие: пальцы разведи, как грабли, и греби обеими руками. Потом свернешь траву в моток и кидай к забору, в тень фундука.
Надя поднялась с корточек – ноги замлели, – посмотрела вокруг, с высоты своего уже не привычного роста: грубая черная полоса, не сказать чтоб шибко широкая, вклинилась в исламский ковер.
Зеленое безмолвие было над головой: в кронах примолкших деревьев запутались клочки небес. Молчало медленное, налитое жаром солнце, молчали облака. Ни ветерка. Всё замерло в полуденной дреме, в мирном покое, зависшем меж «да» и «нет», между вчера и сегодня, между сейчас и никогда. Даже птицы не трезвонили, и в душе поселилось безмолвие, горячая солнечная тишина; она подчинилась тому, что было вне ее, забыла себя.
Надя едва взглянула на калитку из штакетин, перечеркнутых диагональю, выглядевшую так, словно она будет висеть на своих петлях века.
Тень легла на землю, на Надю. Она подняла голову – над ней крона дерева: алыча, которая уже отцвела почти. И здесь, на черной земле, – россыпь крохотных жемчужных лепестков, пахнущих сладко: весной, прохладой. Лепестки, разнесенные ветром, составляют странный узор: белый слон задрал хобот, трубит, зовет кого-то невидимого. Надя не стала полоть (вырывать редкие травинки) под деревом – тормошить слона, – ушла из тени на солнце. Калитка хлопнула, она и головы не подняла – и так знает, кто это.
– Помочь тебе?..
Надя, не поглядев, покачала головой отрицательно, бросила поверх зеленого холма с торчащими сикось-накось кореньями, вывоженными в земле, колючий репейник; встала, отряхнув землю с колен:
– Закончила уже.
– Нам надо поговорить…
Она независимо пожала плечами. Шли к дому – Надя чуть впереди.
У крыльца переобулась, скинула калоши в колодках грязи, стала глину щепочкой обчищать. Он стоял над ней, ждал. Надя не торопилась. Оставила калоши на ступеньке: «Заходи», – сама осталась на кухне, долго возилась там – дел-то много, помимо него.
Он ждал в их комнате, на стуле сидел. Стул был один, Наде пришлось сесть на кровать. Для удобства села по-турецки. Расправила вокруг себя полы халата. Приготовилась слушать.
– Надя, – начал он и стал говорить, что та была до нее, в январе, когда он в городе жил, искал подходящее место, чтоб уйти от всего… да она знает всё это – он говорил. Той, конечно, терять его не хотелось, но он ей сказал, что другую любит… Вчера он как раз всё это объяснял ей – потому и не пришел сразу. А больше она не приедет, никогда не приедет (за домик он заплатил на год вперед, все деньги отдал), и пусть Надя простит его, если он виноват. А без Нади он уже не может. Без нее он сам не свой. Пусть она его простит.
И еще много он говорил, но, чем дольше он говорил, тем дальше Надя удалялась от него.
На него она не глядела, глядела в сторону – в лунный пейзаж на стене.
Ручей бежит там, нижняя перекладина рамы, точно плотина, перегородила его, и поток, клубясь и пенясь, сворачивает в сторону, дерево-полупальма со змеящейся кроной возвышается на переднем плане, дальше – воздушная, в лунном сиянии дорога, словно изгиб спирали, и рощица подле нее, у деревьев легкие тонкие стволы – ноги фламинго, – и паутинная листва, как оперение (деревья-птицы, вот-вот готовые взлететь), и дивные холмы вдали, за которыми – это известно – земля обетованная, и надо всем разлито небесное озеро, сквозь которое просвечивает – мерещится – чье-то склоненное лицо.
Она видит, как по серебряной улитковой дороге бредет спиной к нему маленькая согнутая фигурка, – она кажется себе нищенкой-горбуньей с ношей неудач, болей и обид.
Семён замолчал, Надя взглянула на него: он взял Жанкину гитару, он собрался петь для нее – она усмехнулась.
Он пел ей самые лучшие песни, пел и исподтишка взглядывал на нее, исступленно терзая гитару – госпожу, ряженную служанкой. Он пропел ей все песни, которые знал, то ласково касаясь струн, едва их перебирая, точно чьи-то пышные волосы, то колотя по ним так, что подушечки пальцев становились похожими на исполосованную спину каторжника, и тогда он дул на них, задувая чью-то обиду.
Но она не глядела на него – она глядела в сторону пейзажа, и солнце пламенело на ее щеках.
Она шла внутри картины, по едва освещенной дороге, в пышном коричнево-сером одеянии, одной рукой вцепившись в подол, приподымая его, чтобы шаг был свободным; она торопилась; кажется, за ней снарядили погоню; в правой руке она несла небольшой саквояж, в котором лежали ее письма к самой себе – сокровенные записи, которые никому нельзя показывать, даже ему Письма нужно было уничтожить. Сжечь их она не успела, значит, утопить – бросить груз в шумливый поток.
Она швырнула саквояж в воду и, перед тем как свернуть, обернулась, бросила на него – сквозь полотно – горделивый взгляд, и стая деревьев сокрыла ее.
Он замолчал.
Она устала брести по дороге, принялась спотыкаться на каждом шагу; кожа ее, как всё на картине, приобрела золотисто-пегий оттенок, лишь в волосах дремала тень.
Она взглянула на него: он облокотился о ребро гитары. Рука, соскользнув со струн, бессильно повисла, лицо усталое, губы подобрались – будто нет у него губ, глаза не глядят уже на нее. И нежность, сходная со сладким ужасом, поднялась откуда-то из глубин и затрепетала у нее внутри – она поймала нежность в силки. «Милый, милый мой», – шептала она, но слова не могли пробиться сквозь плотно сжатые губы, и она поняла, что умрет сейчас от нежности, от безысходной нежности, если…
И он отставил гитару и бросился к ее ногам, обнял ее колени, и она прижала к себе его голову – изо всех сил, чтобы задушить, чтоб освободиться от нежности.
И они превратили день в ночь, заслонившись ото дня шторами.
А когда наступила настоящая ночь, она увидела: в небе появилась вторая луна, или солнце одновременно с месяцем вышло на стражу Полнеба оказалось в звездах, а полнеба – в облачной синеве.
Зеркало в доме кто-то завесил черной шалью с кистями. С улицы доносится какой-то страшный глухой шаманский стук: тум, тум, тум, тум. Она выбежала из дому. Она бежала по кромке между ночью и днем. Она остановилась.
По дороге двигалась процессия: мужчины в черных масках, в кирзовых сапогах, несли на плечах голую женщину, ногами вперед, – как гроб, – но глаза ее были открыты. Они очень спешили; время от времени пускались в пробеги. Один из двоих, шедших впереди (они поддерживали ее за ноги), то и дело отставал, и нога женщины свесилась ему на грудь: колено – подпоркой ему плечо – устремлено вперед, и нога болтается, подскакивает, колотится в него пяткой: то в сердце, то в селезенку – тум, тум, тум, тум. Подул ветер, волосы ее – длинные, черные – взлетели, накрыв головы последних, благословляя, и Надя узнала: эта голая женщина – она.
И сейчас же она перестала стоять у калитки, вцепившись в штакетины, перестала видеть, как идет процессия, она увидела небо наполовину в звездах (перерезанное по ковшу Большой Медведицы), наполовину в блеске яркого солнца, и ничего, кроме неба. Оно двигалось над ней, точно заводской конвейер.