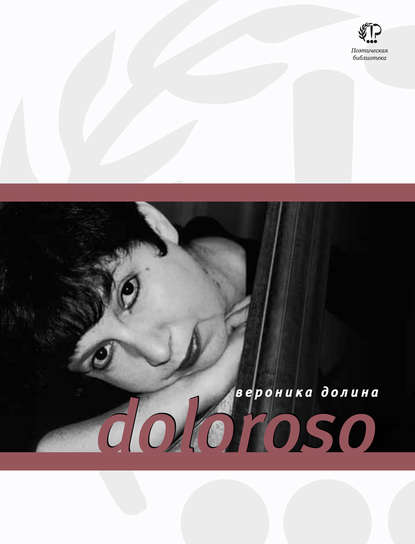Полная версия:
Вероника Аркадьевна Долина Dolce
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Вероника Долина
Dolce
В оформлении обложки использована фотография Жени Дюрер
Наум Коржавин
ПОЭЗИЯ ВЕРОНИКИ ДОЛИНОЙ
Вероника Долина на московском молодежном литературном горизонте появилась в конце семидесятых годов. Но я в своем прекрасном далеке о ее существовании узнал только в начале восьмидесятых – года через два или три после ее появления. Произошло это просто. Мои друзья, имевшие, в отличие от меня, возможность посещать Москву, познакомили меня с привезенной ими оттуда технически не очень удачной магнитофонной записью приблизительно десяти-двенадцати ее песен в авторском исполнении. Сделали они это неспроста, а чтобы доказать, что мое огульное отрицание тогдашней песенной поэзии несправедливо, и чтобы я сам увидел, что четырьмя китами – Окуджавой, Галичем, Кимом и Высоцким – эта поэзия не исчерпывается.
И преуспели в этом – песни Долиной, которые я начал слушать с недоверием, заставили меня с этим согласиться. Вскоре в мои руки попала на этот раз уже полноценная запись большого ее выступления (предположительно в Черноголовке), и я не только утвердился в серьезном отношении к ней, но и стал активным, а может быть, первым пропагандистом и распространителем ее творчества в США и Канаде – переписывал на двухкассетнике и рассылал ее песни знакомым. И многие мне были за это благодарны. Видимо, многим они оказались нужны и близки.
Чем же так привлекли тогда меня и других ее песни? Чем они выделялись на общем фоне?
Конечно, не только артистически-свободным течением стиха и его выразительностью. Это необходимо каждому, кто выступает со стихами, но этого недостаточно, чтобы стать нужным, близким. Песни Долиной обрадовали меня не только тем, что некоторые из них можно воспринимать и без музыки. Просто как стихи. Такое тоже встречалось.
И тех, и других – то есть публично напевающих собственные «тексты» (так «по-западному» это тогда уже стало называться) и при этом уверенных, что следуют Окуджаве, – появилось тогда довольно много. Но как ни называй, они не учитывали уникальности и значимости его индивидуальности. Не учитывали того, что она у него только проявилась в выборе этого жанра, а не появилась благодаря этому. Но их было много, и они мне к тому времени изрядно надоели. И на этом фоне достижения Вероники Долиной были для меня особенно впечатляющими. Они представляют собой не тексты, предназначенные для «обогащения музыкой», а самостоятельные произведения поэзии. Только особой – введенной у нас в обиход Булатом Окуджавой – песенной поэзии. В таких стихах музыка не дополняет текст, не по-своему интерпретирует текст (как музыка хороших композиторов на стихи хороших поэтов), а является органической, то есть неотъемлемой частью его замысла. Короче, это никак не «песни на слова», а особый жанр поэзии, обозначенный мной чуть выше как песенная поэзия. Я увидел в Веронике Долиной настоящую последовательницу (конечно, творческую) Окуджавы, которого давно очень люблю и высоко ставлю именно как поэта. Это, конечно, усилило мою симпатию к ее творчеству и заставило меня сразу признать ее поэтом, что со мной случалось и случается очень нечасто.
То, что ее творчество – песенная поэзия, создает для меня терминологическую трудность: ее произведения я здесь буду называть то песнями, то стихами, но прошу не воспринимать это как путаницу – подходит и то, и другое обозначение.
Меня же главным образом поразило не то, что появился еще один полноценный представитель этого довольно редкого, хотя и притягательного вида поэзии (в конце концов, с творчеством настоящих поэтов, в том числе и молодых, я сталкивался и до этого), а то, что на этот раз субъектом поэтического самовыражения была женщина.
Подчеркиваю: самовыражения поэтического. Потому что «простого», то есть непоэтического самовыражения – пусть даже с применением последнего крика «мастерства» – было вокруг много.
Речь идет о самовыражении, видящем в самом себе начало и конец поэтического творчества, не знающем поэтического откровения, но видящем в самом себе это откровение. Это самовыражение самодостаточное, без потребности раскрыть в воплощаемом чувстве его живое соотношение с гармонией, причастие к Духу. Пастернак ведь не зря называл поэзию «скорописью Духа». В ХХ веке, после Ахматовой, а потом Цветаевой, таким безблагодатным самовыражением занялось множество людей, особенно женщин.
Сама Ахматова иронически отметила это: «Я научила женщин говорить,/ Но, боже, как их замолчать заставить!» Эти женщины (а часто и мужчины) не заметили того, что Ахматова была не просто самовыражающейся (сиречь обнажающей интимные переживания) женщиной, а великим поэтом. Впрочем, и теперь не все, как среди женщин, так и среди мужчин, понимают, что это не одно и то же.
Уникальность творчества Долиной состоит в том, что современная женщина заговорила сама. Не всегда о женской судьбе, но всегда из глубины этой судьбы. В истории русской поэзии она, конечно, не была первой. Из глубины своей женской судьбы писали и Ахматова, и Цветаева, и не они одни.
И женские судьбы этих гениальных женщин были не легче. Но все же было бы ошибкой не учитывать, что женские судьбы этих великих, поэтов в годы их становления коренным образом отличались от женских судеб в годы становления Вероники Долиной и ее сверстниц.
Касалось это положения и самоощущения женщины. Несмотря на все форсированное равноправие двадцатых и тридцатых годов, в общем принятое обществом, все равно женщина оставалась женщиной со всеми ее женскими обязанностями. Тяжесть ее жизни определялась гораздо более элементарными, а от этого унизительными обстоятельствами, чем у их предшественниц. Не только беспросветностью бытовых тягот, «квартирным вопросом», но и колоссальной убылью мужчин во Второй мировой войне. Из-за чего несколько поколений женщин оказались обреченными на одиночество. К этому можно добавить закон о матерях-одиночках, практически отменявший мужскую ответственность за внебрачных детей. Это должно было стимулировать рождаемость, но только усугубляло унизительное положение женщины.
Трудно представить, чтобы женщина в таком положении (особенно простая) произнесла нечто вроде цветаевского «Вы женщине, как бокал, / печальную честь ухода / вручающий…» Строки, конечно, тоже трагические, но трагедия все же иная.
Вероники Долиной персонально послевоенная демографическая ситуация не коснулась, она – более позднего поколения. Но воздействие атмосферы, создавшейся в послевоенные годы, не кончилось с исчезновением создавшей ее ситуации, а стало надолго историко-культурным фактором, формирующим сознание (а больше подсознание) прежде всего женщин, но и мужчин тоже. Некую генетическую память.
Реакция на эту память определила многое в творчестве Долиной, особенно его начало. И сквозь эту дисгармонию ее потребность в гармонии выводила ее к поэзии. Это было заслугой. Ибо многие ее сверстники, столкнувшись с этой тяжелой «прозой жизни», предпочитали ее не заметить, не размениваться на нее, а то и просто поэтизировать ее – лишь бы «талантливо». Поэзия вообще, как мне уже не раз приходилось говорить и писать, – это непосредственный и живой ответ (реакция) гармонии на дисгармонию бытия.
Самовыражение большинства становившихся мне известными претендентов на звание поэта вполне без этого обходилось. Тем более если речь идет о пишущих женщинах, естественно склонных преувеличивать эстетическую ценность своих переживаний, тонкости их нюансов. Таких стихов – часто вполне искренних и выразительных – становилось (и становится) все больше. И производят они некоторое – правда, не очень определенное и не очень сохраняющееся в памяти впечатление, но почему-то никого так не радуют, как обрадовали меня когда-то песни Вероники Долиной, тоже вполне женские по мироощущению и опыту.
А отличие простое. Стоящие за стихами переживания, вполне конкретные и по конкретному поводу, были в то же время реакцией и на вызвавшие их обстоятельства и на жизнь в целом, в свете «требования от нее смысла и красоты». Это не техническое условие, а характер мироощущения, свойственный поэту. Собственно эта потребность (в сущности, потребность в поэзии) свойственна, как уже говорилось, человеческой душе вообще.
Но поэт тем и отличается, что по своей внутренней организации острей других ощущает соответствие или несоответствие переживаемого им или окружающей его жизни этому требованию, и сознательно или бессознательно воплощает это в творчестве. Это будет присутствовать в любом воплощаемом им переживании. Просто потому, что это свойственно его восприятию. И в составе такого переживания это требование воспроизводит себя в душе читателя.
Такова функция поэта в жизни. Ведь жизнь делает все, чтобы замутить это восприятие, это требование в душе человека, в душе поэта тоже. Но поэт прорывается к нему сквозь всю толщу напластований современной ему истории, и одаривает этим себя и других. Это всегда нелегко. Особенно в пережитую нами эпоху и особенно, как уже говорилось, женщине.
Неудивительно, что Москва стала воздухом ее поэзии. Ведь ей с раннего детства «Сретенка светила и Рождественка цвела».
Впрочем, и ощущение Москвы, и смены времен на этом фоне связано у Долиной не только с памятью детства. Стихотворение «Помилуй, Боже, стариков» наполнено сочувствием уходящему (тогда, – теперь ушедшему) поколению русской интеллигенции. За ними многое, хотя теперь это выглядит поблекшим:
И пожелтевшие листкиЗабытого романа.И золотые корешкиМюссе и Мопассана,Ветхи, как сами старики,Немодны их одежды.И все же:
Их каблуки, их парики,Как признаки надежды.А завершается уж совсем иным мотивом:На них не ляжет пыль вековОни не из таковских.Помилуй, Боже, стариков —Особенно московских.В конце семидесятых – начале восьмидесятых, когда это было написано, и долго еще потом среди ее литературных сверстников было распространено представление о том, что драма времени – это некая частность, которая художника – он ведь ориентируется на вечность – особенно занимать не должна (того, что вечное в искусстве раскрывается в сиюминутном, многие из них и теперь не подозревают). Не знаю, отдала ли Вероника Долина дань этому поветрию, но эти стихи показывают, что она отнюдь не осталась чужда драме своего времени. Впрочем, ее прямые обращения к Галичу и Окуджаве показывают, что именно с этими авторами, отнюдь не отворачивавшимися от упомянутой драмы, она ощущала близость. Она вообще всегда существовала и существует во времени. Не думаю, что Вероника тогда, в юности, формулировала это теоретически, просто она отчетливо чувствовала, что ей лично надо сказать. И этому следовала. Потому и состоялась.
Речь идет не о политической фронде, которой она никогда не занималась, а об игнорировании престижных псевдоэстетических требований. Такое игнорирование, а не фронда, требует сегодня от художника максимума самостоятельности.
Самостоятельность, способность слышать себя и следовать себе (в приобщении к гармонии, конечно) – необходимое условие творчества. Впрочем, соответствие гримасам времени иногда приносит и временный успех, но он проходит. Не просто с течением времени, а со сменой его гримас, сиречь мод, которые всегда на поверхности – в наше время они изощрились и выглядят часто вполне интеллектуально, даже, выражаясь по-восточному, превосходят саму интеллектуальность. Самостоятельность, способность услышать себя, которой, слава Богу, у Долиной достаточно (ибо на мой взгляд, есть что слышать) надежно защищает ее от этой напасти.
Проявляется это и в любовной лирике. Кстати, с этим простым жанром тоже не все так просто. Лирики вообще пишется теперь много, но ее авторы слишком часто игнорируют то, что когда-то Ольга Берггольц назвала «содержанием чувства».
Стихотворение обостряет ощущение заложенной в нас потребности в гармонии, и это, как всегда, приносит нам наслаждение, пусть даже грустное.
Еще серьезней это проявляется в следующем стихотворении Вероники Долиной, на мой взгляд совершенно удивительном:
Меж нами нет любви… Какая-то прохладца,Как будто бы у нас сердца оборвались.И как ей удалось за пазуху пробраться? —Должно быть мы с тобой некрепко обнялись.Меж нами нет любви, не надо суесловья.Но снова кто-то лжет и «да» рифмует с «нет».И снова говорит: «любовь», «любви», «любовью» —Холодные как лед, и чистые как снег.Меж нами нет любви… Тогда какого чертаМы тянем эту нить из вечного клубка?…Затем, что не дано любви иного сорта.И надо ж как-то жить – раз живы мы пока.Об этом стихотворении при всей его простоте говорить очень сложно. Оно по сюжету не просто очень грустное, но какое-то безысходное. Почти антипоэтичное: мирится с отсутствием любви – куда уж дальше! Безусловно, оно отражает реальность.
На свете – не только в нашей пережившей столь страшные кризисы стране, но везде – многие и многие вынуждены так или иначе обходиться без этого высокого чувства. Вынуждены с этим мириться. Но поэзия с этим мириться не может. Это то, потребность в чем, да и реальность чего она ставит во главу угла, чему обязана самим своим существованием и назначением. Одно дело – страдание от неразделенной любви, даже упреки возлюбленных за отказ разделить это чувство, а совсем другое – просто согласиться жить без любви. Хотя настоящая любовь одаряет далеко не всех, кто ее жаждет и ее достоин. А здесь речь идет именно об отказе от любви. И все же при этом живое впечатление от этой песни – отнюдь не безысходное. Ибо вопреки прямому утверждению, содержащемуся в завершающих строках, ни в стихотворении в целом, ни в самих этих строках примирения с тем, что приходится жить без любви, – нет. Есть только грустная констатация этого печального факта, а не согласие с ним. Это разговор пусть не с любовником, но все же с товарищем по несчастью. И та любовь, которой у них нет – все равно где-то есть, светит. И все же стихотворение говорит о любви, все равно утверждает высокое начало.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.