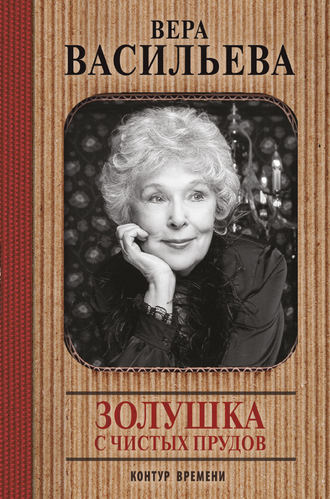
Вера Васильева
Золушка с Чистых прудов
О жизни творческой и личной
Бог создал землю и голубую даль,
Но превзошел себя, создав печаль.
Омар Хайям
Наш художественный руководитель Николай Васильевич Петров пригласил на постановку спектакля молодого режиссера Бориса Ивановича Равенских. О нем тогда заговорили в Москве. Молва разносила легенды о его таланте, характере, о его несобранности, темпераменте, обаянии – о неповторимости его личности.
Я назвала это священное для меня имя и подумала о том, как трудно мне будет рассказывать об этом человеке. В искусстве он был заметной, крупной фигурой, а в жизни – сложным, способным вызвать не только любовь, преклонение, восхищение, но и ярость, ненависть, полное неприятие. Он был велик! Пересказывали его словечки, поступки, копировали манеры, негодовали, смеялись над привычками одеваться, кричать, опаздывать и т. д. Он рождал такие разные чувства, такие полярные страсти! А для меня навсегда остался загадкой. Думать о нем мне трудно… В этих мыслях нет идиллии. Все слишком живо в памяти: моя фанатическая, религиозная преданность, моя боль, мой протест, мое непонимание его поступков, страстей, борьбы…
Может быть, тем, что здесь напишу, я кого-нибудь обижу, но не могу не сказать о том, кем был для меня этот человек! Это ведь моя жизнь, мое сердце, которое своей болью питало мои сценические создания, направляло мои поступки, укрепляло веру в справедливость и дало мне силу духа… Почти семь лет я жила с полной готовностью отдать ему, если надо, свою жизнь. Я, как в старые времена, не задумываясь, готова была, если надо, ехать в ссылку, в тюрьму – куда угодно, если бы он этого захотел. Рядом с ним, даже если бы мы оказались заточены, замурованы вместе, мир все равно играл бы для меня всеми цветами радуги. Рядом с ним, даже если бы я ходила в лохмотьях, я чувствовала бы себя царицей, ощущала бы себя на пьедестале – так я была поднята его любовью…
Ну а теперь мысленно вернусь в 1949 год, когда в Театр сатиры принесли пьесу никому в то время не известного драматурга Николая Дьяконова «Свадьба с приданым». Я от кого-то услышала, что есть пьеса из колхозной жизни, веселенькая, примитивная, со схематичными ролями, что, наверное, я в ней получу роль, потому что я – русский типаж, простушка, да еще и петь деревенские частушки умею. Может, пригодится? Говорили, режиссером приглашен нашумевший своими постановками – «В тиши лесов», «С любовью не шутят» – молодой, озорной, плебейский по своему внешнему виду, независимый и сильный Борис Равенских.
О жене его – талантливой актрисе Лилии Гриценко, игравшей в его спектаклях, – говорила вся Москва. Сколько раз я смотрела на нее, красивую, скромную, застенчивую, точно из монастыря, и старалась понять, кто она, что за человек, как смогла встать с ним рядом…
На первую читку Борис Иванович пришел вместе с артистом Театра имени Станиславского Евгением Шутовым.
Снял пыжиковую шапку, которая ему очень шла, приподнял мягкие шелковые волосы на лысеющей голове, улыбнулся умными ореховыми глазами – все лицо заискрилось весельем. Стало весело и от его курносого носа, и от ямочек на щеках, и от этих шелковистых легких волос, и от невысокой, но легкой, подвижной фигуры в каком-то незаметном костюме с незастегнутой верхней пуговицей темной рубашки. Он всегда ходил без галстука, да я и не могла представить его себе в галстуке, излишне нарядного, модного.
Когда читали пьесу, он слушал серьезно, благоговейно, как будто это был шедевр, или вдруг начинал смеяться, да так заразительно, что всем сразу становилось теплее, мы точно оказывались где-нибудь около деревенской печки. А потом, по ходу чтения, он вдруг начинал говорить о деревенских девушках: какие они гордые и целомудренные, какие озорные и задорные, и, подняв кверху свой курносый нос, дав знак Жене Шутову, как потом в фильме делал Курочкин своему гармонисту, он запевал тоненьким голосом девичью частушку. Все влюбленно смеялись, а он купался в этой любви и расцветал еще больше…
После чтения мы не расходились, об отдыхе, об обеде, о вечернем спектакле забывали – нельзя было от него оторваться!
Стоял он, окруженный влюбленными, ошалелыми от необычности всего его существа артистами, и все говорил, острил, смеялся, и мы смеялись вместе с ним.
По театру бегал потрясенный тем, что кто-то есть сильнее, притягательнее, чем он, Хенкин.
Я была назначена на роль Ольги – невесты, Алеша Егоров – огромный, златокудрый, синеокий молодец – на роль моего жениха Максима. Правда, чуть позже он стал причиной многих волнений: у него была печальная склонность к водке, отчего он не смог реализовать свои способности и исчез с театрального горизонта.
И его роль стал играть другой артист, только что пришедший к нам в театр Владимир Ушаков – тоже русский молодец, высокий, статный, с блестящими черными волосами, синими глазами и удивительно красивым голосом.
Роль моей матери по пьесе играла Любовь Сергеевна Кузьмичева (да и по жизни она была мне заботливой матерью в театре). Татьяна Ивановна Пельтцер, работавшая в нашем театре до этого спектакля не так уж заметно, была назначена на роль Лукерьи Похлебкиной. На первой же репетиции мы умирали от смеха, слушая ее забавные стычки с нашим непредсказуемым самородком – Борисом Равенских. Характер у нее и тогда был непростой, но и режиссер не сдавался: кончалось все смехом, и Татьяна Ивановна, к общему удовольствию и к радости режиссера, демонстрировала свой талант, юмор, остроту, знание народного характера, и все это с внутренним подтекстом, с озорством, с подковырочкой.
Репетиции проходили на едином дыхании. Борис Иванович обрушил на нас такое знание деревенской жизни, такую любовь к русской природе, к русской песне, к старинным обрядам, такой восторг перед святостью любви и брака, что мы – столичные жители – почувствовали ностальгическую тягу ко всему, что можно назвать истоками русской души.
Моя роль не во всем мне подходила. Подходила моя внешность: стройная в те времена фигура, русское наивное лицо, тонкий и чистый голос, умение петь частушки, правдивость натуры и естественность. Характер же Ольги – независимый, гордый, уверенный – был далек от меня. На репетициях я сидела, восторженно глядя то на Виталия Доронина – Курочкина, то на Дорофеева, игравшего старого колхозника, то на Галину Кожакину – маленькую, занозистую, с огромными голубыми сверкающими глазами и звонким, чистым, как колокольчик, голосом, в роли Любы Бубенчиковой! Как она плясала на пенечке, как мы все любовались ее маленькой ловкой фигуркой! Их сцена с Курочкиным получилась сразу, но ее повторяли бесконечно. Борис Иванович наслаждался этим дуэтом, каждый раз подсказывая все новые детали, и все это с юмором, с любовью к талантливым артистам.
На сцене установили деревенскую горницу с чистыми половичками на полу; в ней – два заиндевелых окошка со сверкающими за ними сугробами. Я появлялась за окнами в белом полушубке, в шерстяном кремовом платке и, войдя в избу, раздевшись, прижималась к горячей печке. Я пела, за окнами звучала гармошка, и я вспоминала свою деревню, наши избы с красивыми наличниками, аккуратно побеленные печки и домотканые, радующие чистотой и запахом натуральной ткани такие узнаваемые половички.
Рядом со мною – сестренка. Подошла и обняла нас – меня и сестренку – мать. Стоим, прижавшись к печке. Печка театральная, холодная, а мне тепло, весело, мило, уютно. Пытаюсь насмехаться над Курочкиным, а ничего не выходит – не мой характер. Повторяю то, что показывает режиссер, получается далеко от того, что нужно. Но Борис Иванович точно не видит, какая я робкая, невыразительная! Терпит, ждет, добивается! Всем весело, а мне стыдно, что не могу, не получается. А как хочется, чтобы получилось!
В сцене сватовства чуть полегче: я в своей стихии, смущена, не смею быть счастливой, но душа поет…
Вот мой жених Максим отвечает за меня: «Она согласна!» И я не так занозисто, как надо бы, но серьезно спрашиваю: «Что это ты за меня? Почему так уверен? Меня спрашивают – сама и отвечу!» И тут же по-девичьи скромно, но серьезно говорю матери: «Согласна, мама».
Рванулся от радости мой жених, за руки его еле удержали сваты, зазвучала музыка, и полилась наша песня «На крылечке». Робко, стесняясь, скрывая счастье, опустила голову на широкую грудь своего жениха и слышу его слова: «Я ее больше жизни беречь буду, голубушку мою».
И долго, играя этот спектакль, я слышала взволнованный бархатный голос Ушакова, видела синие преданные глаза… Влюбленно и ласково смотрел он на меня, отсутствующую для него в жизни и такую тихую и покорную в этой сцене.
Борис Иванович много говорил о чистоте русской девушки, и я все больше влюблялась в него, в его идеал, и хотелось мне только не нарушить мое счастье. Как я старалась! Одолела пляску, хотя лихие пляски совершенно не свойственны ни моему характеру, ни моей натуре, но я старалась, оттопывала перепляс, делала вид, что сама лихая, что мне все нипочем, но, наверное, Борис Иванович видел, чего мне это стоило. Глаза его смеялись, он мною любовался, а сам слегка «гарцевал», показывая какие-то куски роли, в которых был неотразим. Непосредственность его была поразительна, такой волевой и сильный человек, он был с нами счастливым ребенком, который мог позволить себе все что угодно, и все, что он придумывал, было прекрасно.
Интересно то, что и Борис Иванович Равенских, и Валентин Николаевич Плучек, будущий режиссер нашего театра, – оба являлись учениками Мейерхольда. И если для Равенских любимый спектакль учителя – это «Дама с камелиями», то для Плучека – «Ревизор». Но чувство формы у того и у другого было всегда превосходным.
Мне кажется, что и для самого Бориса Ивановича репетиции «Свадьбы с приданым» вышли необычными. Это было его первое появление в чужом театре, в другом коллективе, где его сразу приняли восторженно. Все только и говорили что о наших репетициях, завидовали нам, а мы, неразлучные со своей гармошкой, окружали веселой стаей режиссера или в разных уголках театра разучивали пляски, песни и частушки.
А где-то в кулуарах носилась гроза – Хенкин осыпал насмешками наши восторги, наши нерасставания, наши ночные, дневные, утренние и воскресные репетиции: мы – молодежь, занятая в этом спектакле, – ускользали от его опеки, влияния, обаяния…
Я жила ожиданием чуда и, наверное, не понимала, что уже охвачена любовью…
Почти ежедневно после вечерней репетиции мы провожали Бориса Ивановича до Трифоновки, где они с Лилией Гриценко жили в общежитии. Она почти никогда не появлялась у нас в театре, а если иногда и ждала его, то, видимо, старалась сделать это как можно незаметнее, не привлекая внимания. Может быть, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что она очень далека от быта и ей совсем не свойственно чувство собственности. Ее счастье было в том, чтобы находиться рядом… Возможно, это лишь мое воображение, но я так чувствовала.
Расстаться с нами после репетиции для Бориса Ивановича было невыносимо трудно, и мы всегда ходили дружной стайкой. Но однажды он проводил меня домой, на Чистые пруды. Я с большой робостью пригласила его зайти к нам, в нашу скромную комнату в общей квартире, разделенную фанерной перегородкой, с большой печкой, в которой потрескивали дрова, а на полу валялись брошенные братишкой игрушки.
Встретили Бориса Ивановича очень просто, радушно, он не напугал наших своим барским видом, наоборот, неухоженный, небритый, не похожий на знаменитость, простой, веселый, голодный, поражающий своей неповторимостью во всем, он очаровал их. Он засиделся за нашим скромным столом до трех часов ночи. Вот уже и папа пошел спать, и мама скоро сдалась, только сестра сидит рядом и пытается открыть слипающиеся глаза да братишка Васенька не отрываясь смотрит на незнакомого дядю. А я то умираю от смеха, то пугаюсь охватившего меня чувства, то успокаиваю себя тем, что мне все это только кажется. Прощаясь с ним у ворот, отдавая лицо свое его любящим рукам, я впервые в жизни почувствовала, что такое смотреть глаза в глаза, что такое ласковая рука на моей щеке, властные любящие губы…
Дальше все понеслось, как в безумном, сумасшедшем вихре. Меня – не было. Был мой восторг, мой испуг, мое бессилие перед его властью, невыносимое счастье от голоса, улыбки, глаз, невыносимое горе от его гнева.
В театре вскоре все заметили: что-то произошло. Я, очевидно, излучала, как радиацию, счастье женщины, которую любят. В меня стали влюбляться все, хотя я ни на кого не смотрела. Окутанная, опутанная его любовью, я, как тайна, влекла других. В истинной любви есть сила, которую не сыграешь, не изобразишь. Я была словно на пьедестале. Я оставалась все так же скромна внешне, но знала, что я – это чудо. Я – это колокольный звон, я – это свежая травка, я – это чистый ручей, я – святая, я – грешница, я – нежность, я – хрупкость, я – сила, и все это сделала его любовь!
Премьера нашего спектакля состоялась 12 марта 1950 года. Это был триумфальный успех! Мы все купались в этом успехе, в любви, в счастье. Спектакль прошел 900 раз, был удостоен Сталинской премии, экранизирован. И я получила свою вторую премию, а годков-то мне было всего двадцать пять.
Мы, то есть Пельтцер, Доронин, Ушаков и я, получали горы писем. Бурей аплодисментов встречали появление каждого из нас на сцене. Что же за чудо произошло? Попробую разобраться…
Во-первых, мне кажется, что атмосфера, в которой создается спектакль, потом остается и незримо присутствует на сцене и воздействует на зрителя. А мы – все участники без исключения – испытывали наслаждение от своей игры, чувство причастности к особому братству актеров, влюбленных в своего учителя, режиссера и счастливых этим.
Вспоминаю одно высказывание Михаила Чехова об учителях: «Я не помню почти ничего из того, что слышал от них в качестве теоретических руководящих правил, но я помню их самих. Я учился не у них, но им самим». Как это верно! Мы тоже заражались нашим режиссером, его жаждой доказать, что простые, хорошие люди, скромно живущие на нашей земле в ладу с природой, честно работающие, – это и есть самое прекрасное. Я была поражена его идеалом русской девушки, которой свойственны и робость, и чистота, и нежность, и озорство, и гордость, и сила.
Конечно, не все у меня получилось, но я очень стремилась не только к тому, чтобы получилось, но и к тому, чтобы самой стать лучше.
И снова возвращаюсь к размышлениям Михаила Чехова: «Не то, что есть, побуждает к творчеству, но то, что может быть: не действительное, а возможное».
И все-таки я всегда удивлялась, да и сейчас удивляюсь такому успеху и такой любви зрителя. Теперь, когда прошло столько лет, видишь в записанном на пленку спектакле все огрехи и несовершенства. Особенно смешно мне смотреть на себя, когда я пытаюсь быть сильной, волевой, государственной, а выглядит это наивно, хотя и симпатично. Может быть, если бы я в тот момент была более сильной, профессиональной актрисой, симпатичности было бы меньше. Вот ведь загадки нашей профессии! А может быть, успех наш можно объяснить тем, что люди истосковались по своим корням, по вечным понятиям любви и чистоты человеческой.
Помню, в последней картине я в белом шелковом платье, в белом платке, с букетом белых роз в руках, под руку с Максимом – Владимиром Ушаковым (который тогда уже относился ко мне в жизни так же, как на сцене) спускалась с пригорка, и нас встречали влюбленные глаза наших артистов, игравших массовую сцену (попросту – массовку) с такой отдачей, как будто это были главные роли, словно счастьем наших героев очищались их души. Так на всю жизнь мне и запомнилась моя Ольга: это я в скромном белом платье, это у меня белые цветы, это мой взгляд и мою улыбку ловит мой жених, бережно держа меня за руку. А на моем пути влюбленные, добрые глаза моих товарищей-артистов, которые благословляют нас на счастье, на мир, на любовь. И все это, конечно, заражало зал.
Наверное, чувство не всегда лучший подсказчик. Мне, возможно, не следовало так восторженно писать о спектакле «Свадьба с приданым». Ведь кто-то, видевший его в те годы, и особенно сейчас, на экране телевизора, может сказать, что это был наивный, лубочный, излишне лакировочный, в чем-то примитивный спектакль, рассчитанный на очень мало подготовленного зрителя. Наверно, такие рассуждения правомерны, не знаю. Но куда деть тот восторг, то доверие, тот накал чувств, которые лавиной неслись на нас из зала? Те хорошие слова, которыми дарила нас критика, пресса? Значит, была тогда потребность именно в таком искусстве, была душевная необходимость полюбить русский доверчивый, ясный характер и доброту, наивную целеустремленность и заразительную веселость действующих лиц, делавшие актеров (особенно Доронина) родными зрительному залу. Да еще музыкальность спектакля, талантливо построенные мизансцены – все искусство молодого Бориса Равенских… Это был настоящий праздник и для актеров, и для зрителей, и, наверное, в этом заключался весь секрет. К сожалению, хотя и сейчас есть хорошие постановки в разных театрах, спектакли-праздники, спектакли-события стали большой редкостью…
Шли годы, наш спектакль мы играли часто, и моя роль связывала меня всеми нервами, всей кровью, всеми мечтами с любимым режиссером и человеком – Борисом Ивановичем Равенских, хотя его жизнь понеслась уже своей дорогой. Правда, однажды он поставил у нас еще одну пьесу «Девицы-красавицы», но это было совсем не то, и заметного следа ни у актеров, ни у зрителя она не оставила.
Мысли и воля Бориса Ивановича были направлены на свою судьбу: предстоял огромный экзамен – возглавить Малый театр. Все силы его были сосредоточены на своем творчестве, на организационных делах. В Малом театре он ставил «Власть тьмы» Толстого и увлек за собой Виталия Доронина, блистательно сыгравшего в этом спектакле Никиту.
Репетиции отнимали у Равенских все его время и силы. Да и его увлекающаяся натура потянулась вся куда-то далеко от меня… Я же продолжала жить верующей затворницей с надеждой, что вот выйдет спектакль «Власть тьмы» и Борис Иванович освободится наконец и поймет, нужна ли я ему.
В эти же годы мы ездили на целину с нашим спектаклем. На целине люди жили в палатках, питались на общей кухне, от общего котла. На грузовиках создавалась сцена – и шла наша «Свадьба с приданым». С просветленными лицами смотрели и слушали нас целинники. Ночью мы спали в палатках. Благоговейно, рыцарски преданно и терпеливо охранял мой сон Максим – Володя Ушаков, ни взглядом, ни вздохом не смевший выразить мне свою нежность. Темное южное небо было усеяно крупными звездами, в тишине звонко пели цикады, а я, точно монахиня, точно заколдованная, засыпала и просыпалась с одной мыслью о далеком и близком человеке, о том, что сбудется в моей судьбе, что ждет меня впереди…
Вернувшись в Москву, я узнала, что Борис Иванович живет теперь один, но это не принесло мне радости, да я его почти и не видела. Мучилась страшно, но не смела ни разу напомнить о своем одиночестве, своей любви. Иногда ночью, часа в два, когда все жильцы квартиры крепко спали (я тогда жила уже отдельно от семьи), раздавался телефонный звонок, и я босиком бежала по коридору. Шепотом, дрожа от холода, я отвечала на насмешливый вопрос: «Не спишь? Ждешь?» – «Да, жду…» Он чувствовал свою вину, раздражался на меня за то, что я оставалась терпеливой и верной.
Наступил день премьеры его спектакля – 4 декабря 1956 года. Он сказал, чтобы я не приходила. Конечно, я не пошла, а поздно вечером вышла на улицу, и ноги сами привели меня к дому Равенских. Я постояла, посмотрела на окна его квартиры и вернулась к себе. Помню, лежала в своей келье, свет был потушен, читать не могла, спать не могла… Боль и одиночество были невыносимы. Звонка не было, я не знала, как прошла премьера, ведь я не смела его ослушаться и пойти в театр или набрать чей-то номер телефона, чтобы узнать…
Как же мне было одиноко в ту ночь… Утром мне позвонил Володя Ушаков и, точно чувствуя, что я на краю гибели, в отчаянии, спросил, как спрашивал уже много раз, когда же я соглашусь быть его женой.
Пережив эту страшную ночь, которая стала как бы итогом многих месяцев растерянности, унижения, бесполезных ожиданий, я поняла, что ничего больше не будет. Я для него не существую, меня просто нет. Надо было на что-то решиться, найти в себе силы и начать жизнь сначала. Без него. И тогда я ответила Ушакову: «Я согласна».
Дальше все понеслось, как в пропасть. Приехал счастливый, не уверенный во мне и абсолютно уверенный в своем чувстве Володя Ушаков. Вся машина его была завалена цветами. Это были не просто букеты – я утопала в цветах. Мы приехали к нам на Кировскую. Там Володя объявил моим родителям, что мы поженимся. Напуганные, ничего не понимающие, они не смели сказать ни «да», ни «нет». Просто ничего не понимали: как это? что это? Ведь дочка их столько лет ждала этого сумасшедшего Бориса Ивановича, который своим обаянием обезоруживал и их. И вдруг появляется красивый, с лавиной цветов, с шампанским, какой-то совсем новый человек, которого они не знали, о котором я им ни разу и не говорила, и объявляет, что мы поженимся, что он всю жизнь будет меня любить и беречь.
Притихшие, они сидели за столом и всматривались в мое лицо. Я была спокойна… Потом мы поехали в общежитие на Малой Бронной, где в маленькой семиметровой комнате жил мой будущий муж. Там Володя объявил всем, что он женится и приглашает сегодня вечером на нашу свадьбу. Нашли чью-то комнату побольше, принесли стулья, закипела работа, в которой я не принимала никакого участия.
В общежитии в то время жили наши актеры, и среди них Анатолий Папанов со своей женой Надей Каратаевой, Татьяна Ивановна Пельтцер и другие. Многих теперь уже нет на этом свете, а тогда это был веселый и бедный народ.
«У нас в общежитии свадьба» – есть такая песня. Вот так моя скороспелая, сумасшедшая, в какой-то степени трагическая свадьба состоялась. Все было для меня как во сне… Я осталась одна со своим мужем в нашем теремке, в нашей малютке-комнатке…
Так и запомнилось: я – летящая в пропасть, я – причиняющая сердечную боль ни в чем не повинному человеку, и где-то далеко-далеко, как на другой планете, – мой любимый человек, уверенный в своей силе, в своей безнаказанности, но умерший для меня и в этот миг потерявший меня навсегда…
А дальше – пятьдесят с лишним лет нашей с Ушаковым совместной жизни. И большая часть ее – это годы, полные любви, бережного внимания и понимания друг друга. Как известно, с годами острота чувства проходит, уступая место, может быть, более прочным, но менее романтичным семейным взаимоотношениям. И по прошествии времени именно женщина, оглядываясь, замечает, что муж смотрит на нее не так влюбленно и в голосе его, когда он обращается к ней, нет тех нежных, бархатных ноток… И хотя с годами я иногда чувствовала себя не такой уж счастливой, мне кажется, что наша жизнь все-таки состоялась.
Больше я никогда не видела Бориса Ивановича Равенских и не говорила с ним, но еще целых двадцать четыре года знала, что он существует на свете.
А потом однажды, на гастролях в Сыктывкаре, дошла до меня страшная весть – Борис Иванович умер. Упал на руки ученика в своем подъезде, и его сердце перестало биться.
Я бросила гастроли, и – не было такой силы, которая могла бы меня остановить, – прилетела в Москву на похороны. На панихиде в Малом театре, затерявшись в толпе, не смея подойти, чтобы не причинить боль его жене, я попрощалась навеки с любимым. Вот и все.
Теперь, по прошествии многих и многих лет, мне ясно видится, какой это был вдохновенный художник! Сейчас его вспоминают редко, но мне кажется, имя его не может быть забыто! До сих пор мою душу точит сознание, что я не выполнила своего долга, поглощенная работой, личной судьбой, я не смогла, да и, наверное, не смогу внятно рассказать о величии его таланта, о незаурядности его личности. Он успел сделать не так уж много, но все, что сделал, во что вложил свою большую душу, было прекрасно. Я прочла отрывки из книги Нины Велиховой «Режиссерами рождаются» в журнале «Театр» за 1982 год и убедилась, что она очень глубоко изучала его творчество, интуитивно верно почувствовала в нем чудо-человека.
«Он был, – пишет Велихова, – фанатически преданный делу, увлеченный, влюбленный мастер, колдующий до потери сил возле своих живых полотен, вдохновляющий актеров на творческие открытия, он был их наставник, мучитель, воспитатель и диктатор; он поражал зрителя эмоциональной силой спектакля и неожиданностью легко воспринимать его трудные открытия.
Когда ему предложили поставить пьесу Дьяконова “Свадьба с приданым”, он сказал: “Комедия проста, как мычание, но ничего, надо уметь доращивать, надо уметь сочинять”, – и правда, он сочинил <…>
В спектакле был прекрасный художник Рындин, и в его оформлении Борис Иванович смог выразить свой постоянный мотив – жажду красоты бытия, острое чувство связи человека с природой и непосредственность самовыражения.
При жизни Борис Иванович познал как редкую любовь и преданность людей, так и холод, и полное непонимание, но он оставался верен самому себе. Во время гастролей Малого театра в Париже известный критик газеты “Фигаро” Жан-Жак Готье недаром написал о его спектакле “Власть тьмы”: “Здесь все, что составляет гений нации”».
Недаром и Велихова тоже говорит об этом спектакле: «“Власть тьмы” открыла в нем неожиданную для него силу нравственного критерия, и этот спектакль стал для него самого спектаклем-исповедью».
Для меня тот спектакль был роковым, но от этого ни одна из красок его чудо-спектакля не затуманилась и не померкла. Я благословляю все то лучшее, что было в этом человеке и что было им сотворено. Любимый мною композитор Борис Мокроусов так написал Равенских:
«Дорогой Борис! Огромный человечище нашего времени, искатель сцены, мятущийся художник, каких я мало видел на своем веку. Кланяюсь тебе в ноги, твоему исключительному таланту. Ты можешь ошеломить всех, я верю в твою сногсшибательность. Я угадываю все твои сокровенные страдания сразу. Без этого нет искусства. Ты мой злой гений. Я люблю тебя. После Мейерхольда ты лучший из всех. Да будет над нами свет. Да будет над нами творчество.
Слава тебе!
P.S. Прости меня, мой милый, за любовь к тебе.
Мокроусов».
Прости меня, мой милый, за любовь к тебе!
P.S. Я думаю, то, что живет в душе человека, так или иначе возникает в жизни. Много лет я знала, что где-то, точно на другой планете, живут самые дорогие и близкие для Бориса Ивановича люди – его вторая жена и дети… Жена – актриса Малого театра Галина Кирюшина, прекрасно играла царицу Ирину в спектакле Б.И. Равенских «Царь Федор Иоаннович», где Иннокентий Смоктуновский, как всегда, блистательно играл царя Федора. Подрастали дочери Бориса Ивановича – Шурочка и Галя. Потом они осиротели, и я потеряла их из виду…
Уже в 1990-е годы раздался телефонный звонок с предложением записать на радио очень хорошую роль – роль актрисы, которая сама добровольно уходит навсегда со сцены. Я согласилась. В конце разговора молодой женский голос назвал себя – Шура Равенских.
Придя на запись, я увидела дочь Бориса Ивановича… Сквозь ее черты проступил Его лик, Его глаза, Его улыбка…
Как это было странно, печально, прекрасно, неожиданно… Шурочка подарила мне двухтомник об отце с доброй надписью:
«Вере Кузьминичне
в память обо всем…
С пожеланием добра и благодарностью
от дочерей Бориса Равенских Шуры и Гали.
2 апреля 1999 г.».
Как же оказались мне дороги эти слова…
Выходит, они знали, сколько я значила в жизни их отца, сколько значил он для меня…
Воистину, все прекрасное не проходит бесследно…




