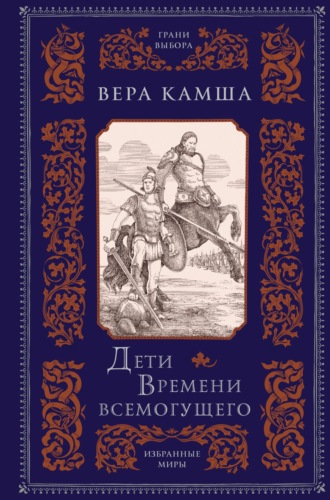
Вера Камша
Дети Времени всемогущего
– Не хочу. Не хочу ничего делать ни с кем…
Агапе знала: сейчас случится что-то страшное, но говорила. Торопливо, путано, понимая, что ничего уже будет не исправить.
– Не хочу, как вы с отцом… Ненавидеть, кричать, и всё равно… в одной постели. И в овраг к козлоногому не пойду! Понимаешь, не хочу как ты! Пусть убивает… Но я не стану как ты, как вы все! Бабушка, отец, Елена эта… Вас даже мертвецы не заберут, вы уже – тени несытые, а я… я не могу так! К судье… к сукновалу… в овраг с отцовским вином…
Не могу!
– Я тоже думала, что не смогу, – сказала мать и заплакала.
* * *
Стурна Марк не знал, но у него было чутьё, не раз выручавшее хозяина, когда приходилось удирать, а удирал певец частенько. Он мало кому желал зла, но мужья бывали слишком подозрительны, трактирщики – корыстны, а стражники и мытари – исполнены излишнего рвения. Драться Марк умел, но не любил – берёг пальцы, вот и полагался на ноги и богиню дорог. Она не подвела своего баловня и сейчас, хотя Физулл в длинных, сразу намокших одёжках был ещё тем спутником… Марк тащил вольнодумца за руку, подпихивал под зад, помогая перелезать заборы, толкал в канавы, но уйти им удалось.
На всякий случай Марк загнал Физулла в закуток между двух сараев и прислушался. Топота и криков, сопровождающих охотящихся стражников во всех городах, слышно не было. Певец перевёл дух и наскоро проверил кошелёк и нож – они были на месте. Оставалось покончить с оказавшимся отнюдь не удачным знакомством, выручить старушку китару и отложить припадание к истокам до лучших времён. На галеры Марк не хотел, а в рудники и того меньше.
Рядом вздрогнул мокрый Физулл, и певец не выдержал – ругнулся. Куда девать лобастого умника, Марк не представлял, но бросать его, такого, под забором, было сразу и подло, и глупо: мокрые тряпки в разгар зимы сведут в могилу надёжней вольных мыслей, проще было не мешать ликтору.
– У тебя есть подружка? – деловито осведомился певец.
Физулл возмущённо затряс породистой головой. Подружки у императорского врага не имелось, что в некоторой степени оправдывало высоту помыслов, но лучше бы помыслы были пониже. Не так больно падать.
– Нам надо покинуть этот город и эту страну, – объявил спасённый и чихнул.
– Сперва найдём харчевню поплоше. Ты посидишь, а я сбегаю за своим добром…
– Нет! – замахал пальцем Физулл. – Нет, нет и нет! Тебя уже поджидают и схватят, как только ты появишься. Я знал, знал, что придёт день, когда придётся бежать, спасая… нет, не жизнь, те ростки свободы и совести, которые ещё остались в Стурне. Есть человек… Купец из Нинней… Он нас спрячет и переправит в Велон. Идём к нему.
– Ну уж нет! – С таким спутником не только в Велон, до перекрёстка не доберёшься! – Ты слишком мокрый, чтобы таскаться по холоду, и слишком грязный, чтоб гулять по приличным кварталам. Я схожу к твоему купцу сам, но купцы любят деньги и не любят ссориться с властями.
– Этот купец – друг. – Физулл на глазах обретал былую уверенность. – Он не возьмёт денег, от нас не возьмёт… И не жалей о старой китаре. К нашим услугам будут лучшие мастера Велона. Там умеют ценить и слово, и сердце…
– И там ты напишешь про задницу велонского императора или кто там у них?
– В Велоне – сенат. Настоящий сенат, не то что наша конюшня… Извини, я в самом деле начинаю замерзать. Ты уверен, что найдёшь поблизости безопасное место?
– Уверен, если будешь только пить вино и чихать. «Трутни» по такой погоде плохо летают. Если я что-то понимаю в харчевнях, мы совсем рядом. Винные бочки где попало не валяются.
Марк угадал, или это богиня дорог не желала для певцов дурного конца. Харчевня была жарко натоплена и полупуста. Разомлевшие возчики, а гостями были именно они, на двух промокших до нитки чудаков даже не обернулись. Певец устроил спутника в дальнем углу, бросил хозяину пару медяков, велев подогреть вина, и для отвода глаз спросил, где отыскать девчонку пожарче. Хозяин объяснил, певец расстался ещё с одной монеткой и, насвистывая, вышел в дождь.
Часть вторая
I
Агапе подрезáла оплетавший веранду виноград и пела, потому что не петь не могла. Серенькое утро непонятно почему было прекрасным, а песенка ни о чём сама текла с губ. Вечером девушка долго не спала – думала, что делать с Карпофором и судьёй, а сегодня распелась, будто какой-нибудь воробей. Воробей оказался тут как тут – слетел с крыши и зачирикал, Агапе счастливо рассмеялась и заметила у ворот гостя. Марка! Опомнилась девушка уже внизу, настолько опомнилась, что сумела оглянуться. У сараев совещался с конюхом отец, сквозь распахнутую дверь харчевни слышался голос бабушки.
– Я пела, – сказала Агапе, – а ты пришёл… Я тебя услышала и запела.
– А ведь я молчал, – улыбнулось вернувшееся счастье. – Весна тебе к лицу больше осени. Ты всегда калечишь виноград?
– Нет. – Агапе опять рассмеялась. – Только… когда ты должен прийти.
– Привет, приятель! – прогремело от сараев. – Молодец, что завернул! Может, задержишься? Не пожалеешь – ко мне друзья собрались… Лучший винодел Стурна с семейством. Агапе, а ну живо кормить гостя! С недожора только на марше петь. Стой! Матери скажи, чтоб не жалась… А бабку сюда гони, у грымзы руки золотые, как до живности доходит. У Ночки началось…
Это был их день! Тот самый день, когда удачи нижутся ягодка к ягодке, словно бусы. Отцовские приказы, умница Ночка, то, что мать с бабушкой были в доме, а она – на веранде… Сестра-Жизнь протянула их с Марком любви руку и улыбнулась.
– Иди в дом, – велела Агапе, – быстро! И садись…
Певец кивнул и вошёл, Агапе просчитала до дюжины и вбежала в боковую дверь.
– Отец зовёт, – выпалила она. – Он с Ночкой! Там уже…
Конечно, они пошли вдвоём – бабушка и мать. Марк уже сидел в углу за столом, китара и мешок лежали рядом. У окна доедали своё мясо отрамские купцы, они заплатили за стол и ночлег ещё вечером. Агапе схватила кувшин и миску. Если что, она льёт гостю молоко.
– Ненавижу молоко, – признался Марк, – но из твоих рук хороша даже цикута. Выйдешь вечером? Осенью звёзды – яблоки и падают, а сейчас они цветут.
– Выйду!.. Марк, ты… Я подам мясо, холодное, и… Мне надо уйти, только ты подожди. Я…
– Ничего не понимаю, но я в самом деле голоден, как собака. И хорошо, что ты уйдёшь. При тебе я могу только любоваться, так что умру. С голоду.
«При тебе»… Они больше не расстанутся, второй зимы, второй пустоты не будет, значит, она возьмёт деньги Елены. Прямо сейчас пойдёт и возьмёт! Подло? Нет, ведь всем будет хорошо, кроме Харитона, ну и пошёл он к «грифам»! Елена сама предложила… Сама…
– Эгей, ты чего?
– Потом расскажу. Всё-всё…
* * *
Это ж надо было! Влюбиться, удрать, забыть, вернуться и вновь захмелеть. Никогда не надо возвращаться весной, или только весной и надо? Ведь ждала же, так ждала, что за десяток здешних стадиев почуяла, а сам он?
– Даже не знаю, – признался Марк. – Соврал, а потом вдруг подумалось, что оно и не враньё. Не совсем враньё.
– А что ты наврал? – сварливо уточнил фавн и почесал ногу, вырвав клок зимнего пуха. – И что ты мог наврать?
– Не хотел в Велон тащиться! Помог тут одному… умнику. Он сдуру с императором заелся, вот его за жабры и ухватили. Хотя, знаешь, от мужей удирать труднее.
– Истинную страсть не подделаешь, – сообщил козлоног, – мужья бесятся всерьёз, а стражники – за деньги. Меня тоже не поймали, лень стало… Тех, кто на Фертаровой вилле остался, забрали, не без того. Ну так нечего сидеть было… Чего в Велон-то не пошёл? Там в горах, говорят, горгоны ещё водятся, про титанов бы своих спросил.
– Нет там никаких горгон, а «грифы» – не цветочки, пчёлкам без надобности. Вот китары у них хороши…
– Ну так за китарой бы сходил. Не даром же всяких спасать!
– А потом куда? На галеры?
– Там бы остался. У моря, с должником, с китарой… Песенки бы пел… В Велоне хорошо, даже зимы нет.
– А петь кому прикажешь? Макрели? Физулл этот скучней мидии. Всё ему не так и будет не так, пока подружку не заведёт… Вот я и ляпнул, что не могу идти – невеста у меня. Даже имя назвал. Агапе. Сам не знаю, как в голову пришло, ведь не было с ней ничего! После – было, и как лихо, а тут только звёзды и пособирали…
– Ну и шёл бы к тем, с кем было, сюда-то зачем?
– Спроси что полегче. Болтаться в Стурне я не мог: с Физуллом мы не первый день пили, не прятались, а страже мышей ловить надо. Убрался от греха подальше, а как сюда занесло, сам не понял. Красивая она всё-таки…
– Красивая, – подтвердил фавн, – потому и жалко… Угробишь ты её.
– Не люблю предсказаний, особенно таких, – прикрикнул Марк. – Совсем не люблю, да и врёшь ты… Все фавны врут.
– Много ты фавнов видел.
– Ты – третий, и все врут.
– Ну так вали к конягам! Они врать не умеют.
– Зато дерутся. Когда про титанов слышат… И про вас.
– Ясное дело! Хотели во дворцы, а угодили из царской конюшни в мужичью, вот и бесятся. А не предавай!
– Вы лучше, что ли?
– Мы не лезли в чужие дрязги, – с достоинством объявил фавн. – Мы были, как ты сейчас, потому я с тобой и вожусь. Так точно женишься?
– Точно. Девушки любят свадьбы, так что будет Агапе свадьба.
– А счастье будет? Ей ведь счастье нужно, а из тебя счастье, как из меня коняга! Шёл бы ты лучше отсюда.
– Шёл бы? Вот заладил – «шёл бы к тем», «шёл бы к этим»… И что это ты меня все время выпроваживаешь, а? Никак слёзки утирать собрался?
– Дурак ты! – Фавн опять принялся рьяно чесать ногу. – Тебе назло она со мной не станет, а не назло не станет ещё больше… Говорю же, жаль мне её. Очнётся на соломе, рядом – ты. Без песен, без штанов, и лето кончится.
Выпьем?
– Выпьем. А лето как кончится, так и начнётся. Не бойся, я её не обижу.
* * *
Карпофор предлагал за невесту семь сотен стурниев, Марк положит перед отцом семьсот пятьдесят. Двести пятьдесят останется на свадьбу и дорогу, или просто на дорогу, если певцу откажут. Тогда они уйдут, передав выкуп через храм и уплатив пошлину, как делают все, кто женится без согласия родителей, назвав себя «детьми императора». Это дешевле свадьбы: за «пчёлок»[9] писцы берут не больше пятидесяти, но Агапе не хотела ссоры, она так и сказала Марку, провожая его на ярмарку за подарками. Дома пока ничего не знали, но девушке казалось, что её отпустят. Наверное, из-за Ночки, родившей лучшего в мире жеребёнка, и потом, когда Марк пел, мать с бабушкой плакали, а отец… Отец тёр глаза и клял чадящий очаг, а тот совсем не чадил…
Что-то шлёпнулось на кровать. Абрикос. Зелёный и жёсткий… Агапе вскочила и высунулась в окошко. Марк! С ума сошёл!
В доме спали, так спокойно спят лишь перед рассветом, Агапе тоже бы спала – мешало счастье. Тормошило, нашёптывало что-то странное, тянуло в поля и дальше к заветному бересклету. Марк здесь, они могут встретить рассвет, но если впереди сотни рассветов, один можно и отдать. Сейчас нужна осторожность… Девушка приоткрыла дверь в летнюю кухню. В углу сверкнули жёлтые глаза – кошка караулила крысу.
– Быстро же ты проснулась! – Марк чмокнул Агапе в щеку. – Опять подслушивала? За сколько стадиев?
– Нет, – невольно рассмеялась Агапе, – не подслушивала, просто не спала… А потом упал абрикос.
– Абрикос, виноград… Завтра обстриги, что хочешь, и соберись. Вечером я тебя уведу.
– Почему? – не поняла Агапе. – Мы же…
– Не выходит у нас как у людей. Делай со мной что хочешь, но твой кошель я потерял.
– Потерял? – переспросила девушка и почему-то села. – Как?
– Спёр кто-то, а может, я сам посеял. То ли деньги дурные, не впрок, то ли богиня дорог вранья не хочет… Ничего, хлеб и мясо я всегда добуду! И голой ты у меня тоже не останешься.
– Значит, потерял…
– Сказать, что счастье не в деньгах, или сама догадаешься?
– Не в деньгах… Конечно… Ты хочешь, чтобы я ушла с тобой?
– А ты думала! Пойдём в Ионнеи, давно хотел там побывать… Быстро пойдём, нас не найдут, что-то у меня есть, на мулов и еду хватит, а петь поблизости я не буду.
– Марк, – сердце провалилось куда-то вниз, но она должна это сказать, – так нельзя… Я уйду, они останутся… Отец с матерью тогда совсем… А сёстры… Скажут, что они такие, как я, а бабушка… Она хочет, чтобы все было хорошо, она не понимает, что мне не надо как у них! И как у Елены – не надо… Пусть дома думают, что мы, как положено… Это ведь не ложь, когда от неё всем лучше… Мы должны пожениться и уехать в повозке хотя бы до поворота, чтобы… Чтобы на сёстрах не повисло, что… Что я сбежала с бродягой!
– Ну и что? Ты любишь бродягу, бродяга любит тебя. Мы ничего не крадём и никого не обманываем. Пусть сидят в своём курятнике, пусть им будет хорошо…
– Да не будет им хорошо! Понимаешь, не будет! Я уйду, а они… Это хуже заразы… Больной не виноват, беда и беда, а тут всё из-за меня… Сёстрам замуж не выйти, разве что отец друзей вызовет, таких, как он… Старых… Пьяниц…
– У тебя никакая сестра не сбегала, тебе весело жилось? Станет плохо, улетят… Как ты, как я… Думаешь, у меня родни нет? Как бы не так! Полдеревни родственничков, один другого почтенней… Ничего, ушёл!
Марк не понимал! Не понимал, и всё, а она не могла объяснить. И подлой быть не могла… Осенью, когда её трясли и раздевали, она бы все бросила, но потом была Елена у оврага, козлоногий с его песенкой и отцовским вином, правда о матери… Мать стала такой не по злобе, она была несчастна, потому и плакала у ограды, и отец… Как он кричал, что не даст продать дочку, а дочка возьмёт и сбежит… На радость Елене и сплетницам у источника, а ведь сестрёнки уже вовсю крутятся перед зеркалом. Бабушка ворчит, что дурёхи лицом в отца, и это так и есть…
– Я… Меня берут замуж и так, а вот сёстры…
– Ещё б тебя не брали! Занеси к вам императора, он бы шмякнулся к твоим ногам. Даром что лысый.
– Ты не хочешь понять…
– Да понимаю я всё! Свадьба, наряд, цветы в косах… Я тебе цветы каждую ночь рвать стану. Знаешь, какие в Ионнеях розы?
– Не знаю. Марк, я не пойду с тобой. – Обычно слёзы текли из глаз сами, а сейчас как отрезало. Вот грудь чем-то сдавило, и виски тоже.
– Ну, было бы предложено. Умолять не стану, только вором не считай. Не брал я твоих денег.
Теперь ещё и в горле горит, или не в горле, а ниже? Агапе вздохнула, но словно бы не до конца.
– Уходи. – Она будто тонула изнутри, но глаза оставались сухими. – Увидят.
– Пусть. Вот ведь… Говорил же козлоногий, что не сладится, и не соврал. Предсказатель…
Агапе не дослушала.
II
Внизу орали песню. Громко и фальшиво – отец принимал друзей, они в самом деле приехали. Двое таких же харчевников и винодел, все с сыновьями. Агапе им показали, и теперь старики о чем-то сговорились, иначе бы не орали, и мать с бабушкой не остались бы за столом. Мать всё-таки зашла, сказала, что какой-то Публий поставляет красное ниннейское самому императору, и велела ещё раз сменить платье. Агапе кивнула, ей было всё равно, лишь бы уехать. Куда угодно. Она согласна жить без любви, без надежды, она так уже живёт, но чувствовать себя вруньей и воровкой?! А оставшись дома и не вернув Елене её тысячу, кем она будет? То, что жена судьи вынуждена молчать, ничего не меняет, так даже хуже. Взять у того, кто не может не дать, и обмануть…
Харитон не отступался, лето кончалось, Елена несколько раз заходила в харчевню, но Агапе удавалось прятаться за бабушку и гостей, а со двора девушка не высовывалась. Поля и овраг стали самым страшным местом на земле, и не потому, что её там пытались убить.
Вернулась мать, заставила пройтись, расправила пару складок и велела сменить серьги на те, которые принесла. На тонких золотых цепочках качались камни, вобравшие в себя сразу росу, звёзды и туман. Это было красиво, несмотря ни на что, это было так красиво…
– Вдевай, и идём.
Агапе послушалась; серьги не были тяжёлыми, но они так непривычно качались. Закрылась дверь. Скрипнула лестница. Девушка знала, что её просватали, не знала, за кого, но значения это не имело. Мать живёт с отцом, Елена – с Харитоном, выживет и она… с мужем. Наверное, у них родятся дети, дочери… Она не будет бить их по щекам, но и плакать при них тоже не станет. Она выбрала такую судьбу сама. Не из-за свадьбы и не из-за семьи… Из-за того, что Марк оказался не тем.
– Дочка! – Отец, пошатнувшись, поднялся из-за стола. – Дочка… Эт… Гай… С-сын моего друга П-публия… Лучшего друга. Д-д-венадцать лет рядом под Ид-дакловым роем… и под ст-трелами… Эт… тебе не судейская шкура… Каким с-сотником он был! К-к-каким сотником…
– Я знаю твоего отца тридцать лет. – Утром Агапе не запомнила всех лиц, но этот загорелый с проседью мог быть только Публием. – Хорошо, что в наш дом войдёшь ты, а не… девица из «благородных». Гай не слишком хотел ехать, но тогда он не видел тебя…
– Теперь видит! – засмеялся губастый харчевник. Он был пьян, хоть и не так, как отец. – Хорошо, мы не взяли с собой баб… От баб такую п-прелесть нужно прятать… Разорвут. Я б твою Агапе взять в дом не рискнул… нет, не рискнул бы…
– У тебя не будет свекрови, девочка, – перебил Публий, – но Басса, останься она жива, была бы тебе рада. Гай, подойди к невесте. Пусть дети посмотрят в глаза друг другу. При нас посмотрят!
Гай – сын виноторговца Публия, а Публий богаче Харитона… Для матери и бабушки главное это. Гай – сын сотника, это главное для отца. Ну а ей нужно исчезнуть. Навсегда, и будь что будет!
– Да не смотри ты в пол! – потребовал отец, и Агапе заставила себя поднять глаза. Сын виноторговца был старше Марка, но не слишком, высокий, смуглый, курчавый, он мог нравиться девушкам, он наверняка им нравился…
– Да не смущайте вы её! – раздалось из-за стола. – Диконькая она, сразу видно… Тем и хороша.
Диконькая? Агапе быстро повернулась, позволяя застегнуть на шее ожерелье из туманно-звёздных камней. Когда крохотный замочек защёлкнулся, девушка вздрогнула. Сидящие за столом захохотали и подняли кубки.
* * *
Недостроенный храм напоминал гигантский рыбий садок, а может, Марка бесила императорская наглость. Стаскивать непонятно чьи кости на Чёрный мыс было кощунством, но нет худа без добра: когда в заклятое место пригнали каменотёсов и дровосеков, стража убралась восвояси. Теперь среди пощажённых топором гоферов мог бродить кто угодно, но желающих было немного – о последней битве титанов не то чтоб забыли, просто живым это стало неважно. Тысяча двести пятьдесят семь лет – слишком не только для людей, но и для большинства деревьев, не потому ли на месте срываемых храмов Идакл велел сажать именно гоферы? Если б только они говорили, но разменявшие вторую тысячу великаны не снисходили до ползавшей у корней мелочи, даже когда их рубили. Титаны умирали так же, вот на этом самом берегу.
Марк пытался представить, каким был мир тогда, но воображение отказывало, разве что певец не сомневался: города побеждённых превосходили города победителей, как истинный жемчуг превосходит поддельный, потому-то первые людские цари и запрещали подражать бессмертным. У наследников Идакла хватало то ли гордости, то ли ума отказаться от захваченных домов и сокровищ, мечи титанов и те отправились на дно Стурна… Потом их искали – не нашли. Запреты истончались, выцветали вместе с памятью; тянулись к небу гоферы, вымирали кентавры и фавны, дрались и мирились люди… Марк пытался написать об этом, иногда ему даже казалось, что получается…
Мы останемся страхом пред тем, что навеки исчезло,
Непонятной тоскою при виде забытых руин,
Вечной горечью твари бескрылой, замершей у бездны,
Ложью ваших преданий, правдивостью ваших морщин…
Ещё утром строчки, пришедшие в голову на постоялом дворе, певцу нравились, здесь, средь гигантских тёмнохвойных колонн, за них стало стыдно. Марк, словно кому-то отвечая, с досадой махнул рукой и пошёл вдоль обрыва. Мыс кончался обрубком – борода дикого винограда укрывала будто срезанные мечом скалы, внизу плескалась озёрная вода, слишком мутная, чтобы разглядеть неблизкое дно. Марк добрался туда, куда хотел, и нашёл камни, воду, багрово-зелёные предосенние лозы – и всё. Странно было рассчитывать на иное, всё это было глупостью, детской мечтой о прекрасном исчезнувшем мире, мечтой, превращавшей в сон настоящее, а ведь в настоящем тоже случается счастье. Любовь, дом, мастерство, признание, деньги, наконец, – глупо жертвовать этим в обмен на пустоту. Золотоволосые полубоги, сказочные дворцы, смолкнувшие песни – полно, да были ли они?
Человек лёг на живот и, вцепившись в нагретый солнцем камень, свесился вниз. Тот же дикий виноград, тот же белый блестящий скол, та же словно бы дышащая вода. Вдох. Волна заливает плоскую, зелёную от озёрной травы плиту… Выдох. Стурн возвращает добычу солнцу. Снова вдох, снова выдох… В странно знакомом ритме, в ритме шагов, в ритме сердца, в ритме дороги, той самой, на которую вступаешь в юности и с которой в любой миг можешь сойти, да не сходишь. Так дорога становится жизнью, так жизнь вытекает песнями…
С этих пальцев стечёт былое
Чтобы стать звездой и судьбою,
И в груди непонятной болью
Дрогнет сердце уже чужое…
Это было не то, что он хотел сочинить, но пришло именно оно и оказалось правильным. Марк не выдумывал, не пытался представить разрушенное, не подбирал рифмы к заученным странным словам – это было не нужно. Озеро тяжело дышало, и человек дышал вместе с ним.
Обожжёт тебя холод неба,
Станешь тем, кем ты сроду не был,
Пропоёшь не свою дорогу
От богов к себе и вновь к богу,
От веков к себе и вновь к веку,
Ты войдёшь не сам в ту же реку…
* * *
Агапе уезжала. Было немного жаль – нет, не немного, до почти осязаемой боли, только жалость эта не держала, не возвращала, а гнала вперёд. Агапе помнила то хорошее, что было – а ведь было же! – но жила уже другим. Парусниками, скользящими по глади великого Стурна, ниннейскими виноградниками, ионнейскими жёлтыми розами… Она и раньше чуть ли не вживую видела, как уходит навстречу разгорающемуся дню; этот день пришёл, и стало больно и счастливо. Так бывает на самом пороге любви, но любовь от Агапе отшатнулась, а счастье почему-то нет.
Во дворе суетились – таскали вещи, спорили, в который раз обсуждали дорогу и лошадей. Место молодой женщины было там, а она стояла на золотисто-красной от виноградных листьев веранде и смотрела на улицу, которую видела в последний раз. Все кончалось, и кончалось бы хорошо, если б не Еленина тысяча… Голоса на дворе стали тише – отец с бабушкой и Гаем вернулись в дом, Публий остался следить за слугами, если просить, то сейчас…
Свёкор не удивился, он вообще ничему не удивлялся, а тысяча для него деньгами не была. Агапе торопливо накинула плащ – имеет же она право попрощаться с… подругой. Мать рассеянно кивнула, бабушка усмехнулась, словно что-то поняла, и молодая женщина в первый и последний раз вошла в дом судьи. Харитон не появился. Елена удивилась, но улыбнулась. Агапе торопливо положила на стол кошелёк.
– Здесь всё.
– Сглазить счастье боишься? Не бойся, я тебе зла не желаю.
– Я не боюсь, просто… они не понадобились. Я собиралась… уехать, но… испугалась. Гая нашёл отец, это совсем другое. Не то, за что ты платила…
– Я платила за любовь, за свою любовь… И ещё заплачý. – Лицо женщины стало злым. – Харитон на кого-нибудь глаз всё равно положит, не на тебя, так на другую, а мне… Мне моложе уже не стать. Когда-нибудь я его убью. Или её… Хорошо, что не тебя, ты хоть и от Хрисы, а не сука. Езжай и будь счастлива хоть с сыном, хоть с отцом… Бери своё и не бойся!
– Что?! Что такое ты говоришь?!
– Правду и не со зла. Не губи себя, красивая. Люби, кого любится… Кто один на двоих, тот и выбирает, а троим счастливыми не бывать. Либо двое счастливы, либо никто.
– Как же ты меня ненавидишь!
– Уже нет… Потому и говорю.
– Госпожа, – худющая, других Елена не держала, рабыня неуклюже поклонилась, – за госпожой Агапе пришли…
Жена судьи холодно улыбнулась:
– Мы уже поговорили. Не правда ли, дорогая?
– Да, – подтвердила Агапе.
Она вернулась на уже чужой двор и перецеловала родных. Отец, шмыгая носом, подсадил дочь в повозку, свёкор помог устроиться поудобнее, Гай тронул лошадей – он никому не доверял править ими. Застоявшиеся рысаки рвались вперёд, дорога была ровной и почти пустой, и у последних домов Гай отпустил вожжи. Замелькали золотистые поля, поднялась, застилая прошлое, пыль. Троим счастливыми не бывать, либо двоим, либо никому… Что это? Проклятие? Благословение? Искушение? Пророчество? Она же никого не любит, не может любить после того, что было… А было ли? Спутать чужие песни со своей жизнью – ещё не любить.
– Что притихла, дочка? Боишься?
– Нет!.. Сейчас будут Кробустовы овраги. Там гадают, я тоже гадала…
– Сбылось?
– Нет…
– Сбудется.
Поворот был крутым, и Гай чуть придержал гнедых, Агапе успела рассмотреть жёлтый обрыв и пену зарослей. Где-то там зеленел незаметный среди чужой листвы бересклет, под которым она видела смерть и слышала свирель. Женщине показалось, что свирель поёт и сейчас, но, конечно, только показалось.







